





|
||
|
|
«Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре |
| ББК | 71.0 + 86.38 |
| УДК | 008-027.21:28(=411.21 |
| Авторский знак | Р 24 |
| Заглавие | «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре |
| Гриф | Институт философии Российской академии наук |
| Редакция | Ответственный редактор тома А. В. Смирнов |
| Рецензирование | Рецензенты: д.ф.н., проф. М.Л. Рейснер, доцент Л.Г. Лахути |
| Город | Москва |
| Издательство | ООО «Садра», Языки славянской культуры |
| Год | 2015 |
| Объем | 400 |
| Серия | Философская мысль исламского мира : Исследования; Т. 7 |
| ISBN | 978-5-906016-41-6 |
| Аннотация | В книге исследованы основополагающие модели, сформировавшие теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры: асл‑фар‘ (основа-ветвь), захир-батин (явное-скрытое) и другие, — на примере их функционирования при построении философского, филологического, доктринального, исторического знания. Раскрыта роль субстанциально- ориентированной и процессуально-ориентированной логик в осмыслении соотношения части и целого, единства и множественности в вербальной и невербальной сферах. Представлено концептуальное осмысление динамики исламской культуры. Публикуются новые переводы и исследования по суфизму. |
1
|
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
|
 ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
 ООО «САДРА» |
|
Москва 2015 |
|
2
|
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ ИСЛАМСКОГО МИРА |
|
Ответственный редактор серии член-корреспондент РАН А. В. Смирнов |
|
Исследования |
 |
|
Том 7 |
3
|
«РАССЫПАННОЕ» И «СОБРАННОЕ»: |
|
|
|
|
|
Коллективная монография |
|
 ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
 ООО «САДРА» |
|
Москва 2015 |
|
4
|
УДК ББК |
008-027.21:28(=411.21) 71.0 + 86.38 Ð 24 |
16+ |
|
|
|
Утверждено к печати решением Ученого совета Института философии РАН |
|
|
 |
Издание осуществлено при поддержке Фонда исследований исламской культуры Рецензенты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Р 24 |
«Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / Отв. ред. А.В.Смирнов. М.: ООО «Садра», Языки славянской культуры, 2015. — 400 с. — (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 7). ISBN 978-5-906016-41-6 В книге исследованы основополагающие модели, сформировавшие теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры: асл‑фар‘ (основа-ветвь), захир-батин (явное-скрытое) и другие, — на примере их функционирования при построении философского, филологического, доктринального, исторического знания. Раскрыта роль субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной логик в осмыслении соотношения части и целого, единства и множественности в вербальной и невербальной сферах. Представлено концептуальное осмысление динамики исламской культуры. Публикуются новые переводы и исследования по суфизму. ББК 71.0 + 86.38 |
|
|
 |
© Институт философии РАН, 2015 © Коллектив авторов, 2015 © Фонд исследований исламской культуры, 2015 © ООО «Садра», 2015 © Языки славянской культуры, оформление, макет, 2015 |
||
 |

|
5
Часть 1 Логика субстанции и логика процесса
Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных
атрибутов[1]* (А. В. Смирнов)15
Об иерархической парадигме соотношения части и целого в
искусстве музыки[1]* (Г. Б. Шамилли)53
Понятия единого и множественного в поэме Махмуда Шабистари
«Цветник тайны»* (А. А. Лукашев)[1]79
Часть 2 Модель ’ас̣л—фар‘ (корень-ветвь)
«Собирание знаний» в постклассической исламской философии: реконструкция
логико-смысловой парадигмы (М. М. Якубович)105
“For they ascend to three maḎāhib as their roots”: An Arabic Medieval Treatise on
Denominations of Syrian Christianity (Nikolai N. Seleznyov)122
Часть 3 Модель з̣а̄хир—ба̄т̣ин (явное—скрытое)
Модель «явное—скрытое» в поэтико-философском контексте: Си мург и Симург как соотношение
«сложное единство — простое единство»* (Ю. Е. Федорова)139
Явное (з̣а̄хир) и скрытое (ба̄т̣ин) Корана в контексте исламской культуры
(‘Абд ал-Хусейн Хосропанах)165
Часть 4 Модель лафз̣—ма‘нан (высказанность—смысл)
6
Часть 5 Модель танзӣх—ташбӣх (очищение—уподобление)
«Очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) как парадигма организации культурного
пространства исламского мира (на примере Корана и сунны)* (И. Р. Насыров)195
Уподобление (ташбих) и несравненность (танзих) согласно Ибн ‘Араби (‘Али Ширвани)214
Часть 6 «Рассыпанное» и «собранное» в арабо-мусульманской культуре
Философия мусульманского Культурного духа* (М. М. Аль-Джанаби)229
«Рассеяние» в газелях Хафиза: поэтическая гносеология* (Н. Ю. Чалисова)247
Ранняя арабо-мусульманская историческая мысль и иудео-христианская
«Жития знатных дамаскинцев» аш-Шатти — традиционный биографический
сборник, составленный в первой половине двадцатого века* (Д. В. Микульский)292
Часть 7 Переводы и исследования
Проблемы исследования творчества ан-Ниффарӣ и способы осмысления
Учение о шāхиде в средневековой суфийской литературе (В. А. Дроздов)346
 |

|
7
Предлагаемая вниманию читателя монография содержит переработанные тексты большинства докладов, которые были представлены на состоявшейся в Институте философии РАН в сентябре 2013 г. международной конференции, носившей то же название, что и эта книга[1]. Идея конференции заключалась в том, чтобы попытаться взглянуть на зафиксированное в текстах теоретическое мышление арабо-мусульманской культуры ее собственными глазами, не навязывая ей априорных представлений о том, как должно быть устроено «правильное» мышление, каковы категории, которые непременно должны его организовывать, и логические формы, в которые оно обязательно должно укладываться. Как представляется, от этой высокомерной позиции цивилизатора, который уже достиг едва ли не заоблачных высот в развитии цивилизации и точно знает, как она должна быть устроена и каким должно быть правильное мышление, нам следует отказаться, если мы хотим понять, как мыслит сама арабо-мусульманская культура.
Название и конференции, и данной книги, в котором использовано выражение «рассыпанное и собранное», намекает на эту задачу. Исламовед без труда разглядит в нем буквальный перевод категориальной пары манс̱ӯр—манз̣ӯм, которая передает в арабо-мусульманской мысли оппозицию «проза—стихи». В то же время, представитель нашей культуры, не столь глубоко знакомый с арабской терминологией, наверное, увидит здесь не строгие понятия, а поэтическую метафору, которая, скорее всего, будет истолкована как метафора множественности и единства, выражающая эти базовые категории довольно смутно и «рассыпанно». Так что такое «рассыпанное и собранное» — ясные, четко ограниченные термины или метафора, которой не хватает категориальной строгости? Так на границе двух культур мы наблюдаем своеобразный смысловой излом, рассыпание субстрата — т. е. двух пар слов, манс̱ӯр—манз̣ӯм и «рассыпанное—собранное», которые как будто
[1] Все материалы конференции, включая аудиозаписи докладов, доступны по адресу: http://iph.ras.ru/ishraqconf2.htm.
8
строго эквивалентны, которые суть одно и то же; так на границе двух сред, воздушной и водной, ломается, и в то же время не ломается, весло, погружаемое в реку или пруд. Разглядеть этот излом, изучить его закономерность — только для того, чтобы понять, что никакого излома нет; увидеть, как то же может быть сохранено и удержано в своей инаковости, — вот та сверхзадача, к которой отсылает нас название этой книги.
Необходимость бережного отношения к собственным формам и моделям организации мысли в изучаемой культуре лежит в основе концепции данной мнографии. Это означает, что нам следует воздержаться от довольно естественной привычки перевести все в привычную систему координат, пересказать все своими словами. Ведь при таком пересказывании невольно будут задействованы наши собственные фундаментальные представления о том, каким должен быть базовый категориальный тезаурус и какими будут правильные (обычно считают: единственно правильные) формы и приемы мысли. Опасность подогнать пересказываемое под эти априорные формы собственной мысли угрожает любому, кто исследует инокультурный материал; иначе говоря, любому востоковеду, всегда (по определению) имеющему дело с культурой, которая не является его собственной, с которой он может быть очень хорошо знаком, но в которой он не вырос и которая не сформировала привычные для него модели теоретического рассуждения. Попытка избежать этой опасности, обратить внимание на собственные формы и модели организации теоретического мышления арабо-мусульманской культуры, не перетолковывая их в европейских категориях, и стала основной задачей авторов этой монографии.
Поэтому главная тема книги — выявление и изучение форм организации мышления, форм смыслополагания, задействованных в арабо-мусульманской культуре. Один из путей, ведущих к этой цели, — исследовать категориальные пары, которые сама культура считает важными и системообразующими и которые она выделяет в качестве таковых. Среди таких пар, которые были исследованы авторами книги, — з̣а̄хир—ба̄т̣ин, ’ас̣л—фар‘, лафз̣—ма‘нан, танзӣх—ташбӣх. Дело, конечно, не только и не просто в том, чтобы словесно обозначить эти важнейшие категории: «явное—скрытое» (или «внешнее—внутреннее»), «основа—ветвь» (иногда говорят: «ядро—периферия»), «высказанность—смысл» (вариант передачи: «форма—значение»)[1],
[1] Уже на стадии перевода — казалось бы, не самой трудной части исследовательской задачи — заметно подспудное стремление перетолковать собственные категории арабо-мусульманской культуры в привычные нам. Лафз̣ часто передают как «словесная форма», «звуковая оболочка» и т. п., явно или неявно ориентируясь на базовую модель «явление-сущность», в которой лафз̣ играет роль явления, а ма‘нан — сущности. Такая априорная уверенность в универсальной применимости базовых моделей нашего собственного мышления и должна быть поставлена под сомнение. И дело здесь, конечно же, не в самих словах, дело в той логике, которая стоит за ними.
9
«очищение—уподобление». Дело прежде всего в том, чтобы вскрыть логику соотношения между этими категориями: и внутри каждой из пар, и между ними. Ведь слова как таковые не говорят ничего или почти ничего, и многие из них (если не все) используются и в нашем собственном теоретизировании, а значит, очень легко могут быть перетолкованы на основе базовых категорий нашего мышления. Важно не просто словесно обозначить эти категории, но, наполнив их представлением о логике соотношения между ними, превратить в действующие модели организации мышления. Отдельные слова можно уподобить частям автомобиля, подготовленным к сборке на конвейере, а модели — собранным изделиям, способным самостоятельно двигаться по дороге. Наполнение логикой — это путь от пассивности к активности, от простой представленности инертных частей к собранности в действующую модель. Как именно эти важнейшие модели выступают в качестве движителя смыслополагания в арабо-мусульманской культуре — этот вопрос можно считать центральным для нашей книги.
Сказанным определена и структура работы. Мы отошли от традиционного для востоковедных сборников принципа группировки материала по областям культуры (философия, литература, история, искусство и т. д.), вместо этого организовав их в соответствии с главными мыслительными моделями, которые были выделены и описаны авторами на конкретном материале. Важен в первую очередь не сам этот материал, а то, как он организован, как он осмыслен в соответствии с той или иной мыслительной моделью. Можно сказать, что темами нашей коллективной монографии служат не области культуры, а теоретические модели (конечно, в их погруженности в материал). Что касается логики, то ей посвящен первый раздел книги, где дано теоретическое описание субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной логик мышления и показана возможность их применения к анализу материала арабо-мусульманской культуры. В предпоследней части книги читатель найдет интересные исследования некоторых феноменов «рассыпанности», равно как и «собранности», в арабо-мусульманской культуре, тогда как последняя часть
10
посвящена текстам суфийских авторов и осмыслению как будто привычной, но чрезвычайно загадочной вещи — самой возможности перевода, переносящего нас через межъязыковой и межкультурный излом.
Думается, что такой поворот исследовательского внимания и интереса не является чем-то совершенно новым и непривычным для нашей арабистики и исламоведения, и в целом — для нашего востоковедения. Я имею в виду герменевтическую заостренность, стремление понять, истолковать изучаемую культуру, которое, как представляется, составило одну из ярких характеристик русского, затем советского, а после — российского востоковедения. Это не значит, что наше востоковедение — нечто совершенно особое и отдельное. Русское востоковедение, конечно же, возникло под влиянием европейского и было его частью. Но все же русское востоковедение имело свои отличительные черты, которые в целом, как мне кажется, объясняются двумя взаимосвязанными обстоятельствами. Первое — это особое отношение России к Европе, и второе — особенности самой русской культуры XVIII и особенно XIX в., когда русское востоковедение получает свое развитие. Дело в том, что отношение России к Европе, как это ни покажется, может быть, кому-то странным, в определенном смысле схоже с отношением исламских стран к Европе. Ведь Россия — и Европа, и не Европа, и эта разодранность, это разбегание между двумя полюсами совершенной европейскости и совершенной самобытности характерно для русского умонастроения XIX—XX вв., да и для нашего времени, когда мы и отождествляем себя с Европой, и не можем до конца этого сделать. Задумаемся: в самом термине «русский европеец», который сегодня в широком ходу, эта раздвоенность зафиксирована как нельзя лучше. Легко ли представить себе словосочетания «английский европеец», «итальянский европеец» и т. п.? «Русский европеец» говорит само за себя: если бы отождествление «русского» и «европейского» было само собой разумеющимся, в таком словосочетании просто не было бы нужды.
Вопрос о цивилизаторской миссии Европы в отношении России во многом схож с проблемой отношения исламских стран к Европе, Западу в целом, особенно в XIX и XX вв. И не случайно центральные проблемы современной арабо-мусульманской мысли (если под современностью понимать период примерно с середины XIX в.), проблемы исламского реформаторства и возрождения, проблемы отношения к собственному культурному наследию, когда ставится вопрос о том, как относиться к западному опыту, стоит ли идти своим путем или
11
надо целиком отбросить наследие и переключиться на западный путь развития и можно ли совместить одно с другим, удивительно созвучны одной из центральных тем русской мысли XIX в., известному спору славянофилов и западников и поиску третьего пути между этими двумя крайностями, — спору и поиску, которые продолжаются в нашей мысли до сих пор. Наверное, излишне говорить, каково значение этого спора и поиска для понимания, а значит, и определения культурной и исторической судьбы нашей страны.
В советский период господства универсалистских схем понимания истории и трактовки рациональности, в чем сказалось гегелевское наследие марксизма, весьма своеобразно «переработанное» нашими идеологами, идея особого, как будто и не вполне европейского пути развития арабских и исламских стран вылилась в теорию социалистической ориентации, которая предполагала, наряду с уверенностью в универсальной неизбежности победы социализма, представление об особом пути к нему этих стран, обусловленном их историческими и культурными особенностями. Что касается исследования рациональности и форм мышления, то и здесь, наряду с идеей единственности и универсальности разума, носившейся, что называется, в воздухе (в чем наша страна совершенно не являлась исключением — такое представление было, а во многом и остается до сих пор, общим поветрием), в отечественной арабистике и исламоведении были сделаны существенные шаги в изучении собственных моделей мышления арабо-мусульманской культуры. Назову, среди очень многих, работы представителей московской университетской филологической школы Г. М. Габучана, А. А. Санчеса, Д. В. Фролова, В. В. Лебедева, петербургских и московских филологов О. Б. Фроловой, Б. Я. Шидфар, а также авторов этой монографии Н. И. Пригариной и Н. Ю. Чалисовой: в работах этих ученых и многих их коллег (это не исчерпывающий список имен) были описаны и включены в контекст теоретических построений арабо-мусульманских авторов упомянутые выше центральные категории, участвующие в построении системообразующих мыслительных моделей. Немало было сделано и для выявления закономерностей смыслополагания в невербальной сфере; упомяну в качестве примера работы М. Д. Назарли и А. аль-Халлаб, посвященные изучению миниатюры и орнамента, исследования Т. Х. Стародуб и Ш. М. Шукурова в области архитектуры и изобразительного искусства, книги Г. Б. Шамилли (также автора этой монографии) в области исламской музыки. Конечно, эти исследования мыслительных моделей арабо-мусульманской культуры, проявляющих себя в вербальной
12
и невербальной сферах, были бы попросту невозможны, если бы не замечательная школа русской и российской арабистики и исламоведения в их классическом понимании, включающем филологию и историю, которое было затем расширено за счет изучения экономики, политики, идеологии, этнографии и других сторон арабо-мусульманской культуры.
Думается, что такая герменевтическая направленность исследовательского интереса привлечет внимание читателя. Системность текста, вербального и невербального, собирающая в изумительное единство рассыпанность его частей, не может не завораживать своей красотой, а открытие этой системности — не притягивать своим волшебным свойством давать увидеть не спрятанную, но прежде не замеченную гармонию там, где мнился почти хаос. Нашу книгу стоит рассматривать как еще один шаг на этом пути — на пути к цели, которую можно обозначить так: «понять, как мыслит культура».
А. В. Смирнов
июнь 2014
 |

|
 |
3.1 Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных атрибутов[1]* (А. В. Смирнов) |

|
15
С-логика и П-логика
В каком ключе следует понимать выражения «логика субстанции» и «логика процесса»? Речь идет, с одной стороны, о логике мышления, которая задана представлением о субстанции как о руководящей, центральной категории, позволяющей собрать рассыпанность мира (например, представить в концептуальной системности разрозненные теоретические представления о мире или данные наших чувств); а с другой стороны — о логике, для которой аналогичную роль играет категория процесса.
Уже здесь необходимо пояснение. То, что я называю словом «процесс», в арабском имеет своим эквивалентом фи‘л (словарный перевод — «действие»). Именно это я подразумеваю, когда говорю «процесс» или «процессуальность»: всегда в таких случаях имеется в виду ориентация на фи‘л и весь тот комплекс установок, представлений и развернутых теоретических концепций, который связан с этой категорией. Арабское слово фи‘л относится к грамматической категории, которая именуется мас̣дар. Масдар — это имя, а именно — имя действия, и по-русски, наверное, более адекватным переводом послужило бы слово «действ[ован]ие», способное передать процессуальность, присутствующую в арабском оригинале.
Что же такое логика субстанции, взятая как логика мышления? Если сказать очень просто, то это такой взгляд на мир, который пытается все многообразие красок и качеств, вообще все разнообразие мира, всю его рассыпанность собрать вокруг неких центров, неких стержней, поняв это многообразие как многообразие предикатов и, далее, истолковав эти предикаты как признаки, или качества, их
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
16
носителей-субстанций. Вот в чем смысл субстанциальности: он заключается в том, что все многообразие мира мы понимаем как рассыпанное качественное многообразие, а затем собираем, группируем, систематизируем его вокруг неких носителей этих качеств. Такие носители качеств мы и называем субстанциями. Философская разработка этого взгляда хорошо известна: это прежде всего метафизика Аристотеля, впрочем, целиком укорененная в том типе трансцендирования, который открыт Платоном. На основе этого взгляда может быть разработана и формальная логика. Аристотелевская логика — это логика, созданная для работы с субстанциями, а не с чем-то другим. Будем для краткости называть субстанциально-ориентированную логику «С-логика».
Что такое процессуальный тип мышления, процессуальная логика? Здесь мы встречаемся с таким взглядом на мир, который отталкивается от понимания мира как многообразия действий (или, точнее, действ[ован]ий — аф‘а̄л). Действия не могут не быть привязаны к действователю (фа̄‘ил); это значит, что процессуально-ориентированный взгляд видит мир не просто как многообразие действий, но — как многообразие действий-действователя. Наконец, понятие действия бессмысленно, если мы не упомянем третий элемент — маф‘ӯл, «претерпевающее».
Парадигма фи‘л/фа̄‘ил-маф‘ӯл, «действие, действователь, претерпевающее» — это базовая парадигма для этого взгляда. Она, как известно, внедрена в арабский язык в качестве языковой парадигмы; она же служит «стартовой площадкой» для теоретического мышления. Процессуальный взгляд предполагает и свою логику, не менее строгую, чем аристотелевская. Эту логику, ориентированную на процессуальность, будем называть для краткости «П-логика». Ее базовые положения рассмотрены в двух моих последних работах[1]1, и этот раздел книги можно в известном смысле рассматривать как их продолжение.
[1]1 Это [Смирнов 2014а] и [Смирнов 2014б], где особенно важны с. 46—70. Здесь невозможно повторять, даже в основных чертах, то, что сказано там. И все же одно обстоятельство заслуживает специального упоминания. «Лакмусовой бумажкой» (не единственной, но едва ли не главной), отличающей процессуальный взгляд от субстанциального, служит признание независимого, собственного онтологического статуса процесса, несводимого к и отличного от онтологических статусов действователя и претерпевающего. Такое признание невозможно для субстанциально-ориентированного взгляда, но оно принципиально для процессуально-ориентированного мышления.
17
Подчеркну, что речь идет именно о закономерностях, т. е. о чем-то сугубо объективном, что может быть проверено и подтверждено (или опровергнуто) любым исследователем. Речь не об интерпретациях, более или менее вероятных и предполагающих в любом случае некий изначальный личный выбор позиции, ракурса и перспективы — выбор, не обладающий обязывающим характером ни для кого, кроме сделавшего его человека. Здесь — иначе: речь идет об объективных, просчитываемых и одинаково открытых для всех закономерностях. А значит, речь идет о науке.
В [Смирнов 2014б] было показано на конкретном примере, что субъект-предикатная конструкция, выраженная словесно, допускает два истолкования, а именно — истолкования в С-логике и П-логике. Там же высказана гипотеза о том, что данное положение верно для любой субъект-предикатной конструкции. Разрыв между словом и мышлением, точнее, отрыв мышления от словесной фиксации его результатов заметен в этой точке наиболее ярко. Арифметически одно предложение всегда может быть понято в двух логиках, ему всегда может быть дано С-истолкование и П-истолкование. Словесно выраженное предложение маскирует эту возможность, скрывает ее. Двое могут обмениваться такими предложениями, не замечая, что каждый из них мыслит в иной логике, нежели его собеседник.
Смысл субъект-предикатной конструкции, объективно заложенный в ней, может быть столь же объективно показан. Наука о смысле (я называю ее «логика смысла») берет начало здесь, в этой точке. Это — точка субъект-предикатной связанности, которая раскрывается в двух логиках, разворачиваясь в С- и П-предложения. Такое раскрытие — процедура, т. е. последовательность шагов, не зависящих от конкретного содержания.
В этом разделе я хочу сделать шаг вперед, от единичной субъект-предикатной конструкции (т. е. одного предложения) к тексту. Мне представляется очевидным, что можно говорить о трех уровнях языковой реальности, т. е. о трех уровнях словесного схватывания смысла. Это (1) слово, (2) предложение и (3) текст. Только второй и третий уровни — уровни речи, т. е. уровни схватывания связности. Связность по преимуществу — это субъект-предикатная связность, поэтому на уровне одного предложения работать с ней легче всего. Слово беременно связностью, однако связность, изымаемая из слова в ходе его логико-смыслового анализа, так или иначе заимствована у предложения, поскольку всегда предполагает включенность слова в предложение. А вот текст, т. е. некая совокупность предложений, обладает сво
18
им смыслом. Как предложение, так и текст могут быть истолкованы в С-логике и П-логике. Вопрос в том, как можно перейти от закономерно раскрываемой возможности С- и П-истолкований любого предложения к уровню текста, т. е. к уровню целостного, обобщающего смысла некоего набора предложений (а не отдельного предложения), показав возможность С- и П-истолкований не просто любого отдельного предложения, но всего текста. Здесь будет дан предварительный ответ на данный вопрос.
Тавх̣ӣд: субстанциальный и процессуальный аспекты
Интерпретации в С-логике и П-логике могут быть в принципе даны любому положению; в этом смысле они представляют собой универсальное методологическое средство анализа. Положение, именуемое тавх̣ӣд ’алла̄х (часто сокращаемое до первого слова) — утверждение единственности Бога, — служит краеугольным камнем исламского вероучения и в целом — того мировоззрения, которое характерно для арабо-мусульманской культуры классической эпохи; конечно, это мировоззрение распространяет свою власть и за ее пределы, но нас здесь будет интересовать именно данный период. Я предполагаю поговорить о том, какие основные смыслы несет положение о тавх̣ӣд и каковы результаты его последовательного, философского продумывания в двух перспективах: в перспективе С-логики, разрабатывавшейся в арабо-мусульманской культуре на основе воспринятого греческого наследия, и в перспективе П-логики, которая скорее характерна для собственного мышления этой культуры, не ориентированного на заимствованные образцы.
Самый очевидный, непосредственно считываемый смысл тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х — это утверждение о том, что Бог — единственное подлинное божество, что ни на небе, ни на земле нет божеств, которые в самом деле были бы божествами. Притязание на божественность какого-либо объекта поклонения, кроме Бога, является с этой точки зрения заведомо ложным. Этот смысл зафиксирован в первой половине исламской формулы исповедания веры (шаха̄да): «нет бога, кроме Бога…», — и может считаться действительно общеисламским, т. е. таким, который признается всеми мусульманами без изъятия (речь именно о признании, а не о толковании), и таким, что его нарушение или непризнание выводит мусульманина за пределы ислама, в том числе — влечет меры правового характера, а для немусульманина — не позволяет принять ислам. С точки зрения фикха шаха̄да является
19
непременной обязанностью (ва̄джиб, фард̣) мусульманина, а с точки зрения вероучения — первым из пяти столпов ислама; для немусульман троекратное произнесение формулы исповедания веры означает принятие ислама[1]2, поэтому такой статус тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х в названном его понимании не должен вызывать удивления.
Этот смысл положения о тавх̣ӣд ’алла̄х легко вычитывается из многих аятов Корана, и их можно было бы цитировать почти без конца в подтверждение этого. То же касается и сунны: хадисы, затрагивающие вопросы отношения между человеком и Богом, почти неизменно фиксируют мысль о том, что только Бог — подлинное божество, тогда как все прочие предметы поклонения — божества неподлинные, а учения об их божественности ложны в самом своем основании.
Что, однако, означает подлинная божественность Бога и неподлинность всех других предметов поклонения, претендующих или претендовавших в глазах людей на божественность? Если утверждение единственности Бога — это утверждение его подлинной божественности, то что означает подлинность (и, соответственно, неподлинность) божественности?
Мне представляется, что ведущий мотив аятов и хадисов, имеющих отношение к этому вопросу, — это представление о том, что подлинность божества — это его действенность. Неподлинные божества лишь претендуют на то, что они управляют судьбами людей в этом мире и помогают им на том свете, в действительности же эти притязания тают как туман, когда обнажается суть вещей. А обнажается она, почти в прямом смысле (вспомним коранический мотив «обнажения голени»3), с наибольшей силой в промежуток между концом сроков творения и Судом. Тогда становится очевидным и несомненным, что неистинные божества не способны гарантировать своим приверженцам счастье: их последователи лишаются действенного покровительства и (согласно одному из вариантов развития событий) навсегда гибнут в геенне, куда уводят их ложные божества. Только подлинный Бог вершит Суд, определяя райскую или адскую участь людей, и только
[1]2 Как правило, при условии наличия намерения со стороны произносящего, хотя некоторые исламские правоведы не выдвигают этого условия.
Коран 68:42; по мнению комментаторов классического периода, «обнажение голени» здесь указывает, как в арабской идиоме, на величайший, труднейший момент некоего дела, в данном случае — на пик испытания людей перед Судом, когда обнажается вся правда, свидетельствующая о том, какую участь в потустороннем мире заслужили себе люди деяниями в земной жизни.
20
он может простить прегрешения людей и даровать благую, райскую судьбу вместо тяжкого, адского удела.
В этой связи интересно рассуждение, которое находим в 21-й суре, где пространный пассаж о единственности Бога на небе и на земле завершается словами: «Если бы на них обоих были какие-либо боги кроме Бога, то они разрушились бы»[1]; под «ними», которые разрушились бы, здесь однозначно имеются в виду земля и небо. Это утверждение и по форме, и по существу является доказательством от обратного; при этом интересно отметить, что наличие двух (или более) действователей разрушает не самих этих действователей, а предмет приложения их сил. Основания этого доказательства, его неэксплицированные посылки вскрывает аш-Шавка̄нӣ[2]. Ссылаясь на мнение ал-Фарра̄’[3] в вопросе о филологическом толковании одного из арабских языковых оборотов, употребленных в этом аяте, аш-Шавка̄нӣ продолжает:
«Разрушение» (фаса̄д) обосновано тем, что из существования другого божества наряду с Богом вытекает, что каждый из двоих имеет полновластную способность (к̣а̄дир) распоряжаться и действовать, из чего проистекает соперничество (тана̄зу‘) и раздор (их̱тила̄ф), по причине коих и наступает разрушение [Шавкани. С. 402].
Представление о полноте могущества Действователя, о том, что вся действенность принадлежит исключительно ему, Богу, стало общим местом исламского вероучения еще в классические времена. От этого положения и отталкивается аш-Шавка̄нӣ, строя свой силлогизм. Пусть у нас будут два действователя, обладающие неограниченной способностью совершать действия. Они будут иметь разную волю (это не сказано явно, но вытекает из различия действователей), а значит, неизбежно разрушат то, на что направлена их воля. Ведь различие воль и полновластность действия означают, что каждый из действователей будет делать что пожелает, в результате чего наступит хаос.
[1] Коран 21:22, С. Здесь и далее помета «С.» означает перевод Г. С. Саблукова (орфография и пунктуация автора сохранена), отсутствие пометы указывает, что перевод выполнен мною.
[2] Аш-Шавка̄нӣ, Мух̣аммад ибн ‘Алӣ (1760—1839) — йеменский мыслитель, муфтий Саны; его часто рассматривают как важное звено в переходе от традиционализма к возрождению и реформаторству XIX—XX вв.
[3] Представитель куфийской грамматической школы (ум. 822).
21
Однако на земле и на небе порядок, а не хаос. Следовательно, предположение неверно, а значит, действователь — один.
У этого рассуждения есть и еще одна сторона — толкование принципа тавх̣ӣд как тавх̣ӣд аф‘а̄л, «утверждение единственности действий», то есть возведение их к единственному Действователю. Такое понимание принципа тавх̣ӣд — магистральное в исламской мысли, сближающее даже такие противоборствующие ее направления, как традиционное вероучение и суфизм. Ведь суфий, которому открывается его «потаенное» (сирр), видит, что первое лицо, то есть лицо действователя, по истине принадлежит Богу, а не ему; неспособность провести ясную и однозначную линию, разделяющую божественное «я» и «я» человека, иными словами, видение Бога в качестве агента своих действий, ввергает его в «растерянность» (х̣айра), поскольку стирает ориентиры, которые люди обычно воспринимают как сами собой разумеющиеся. Конечно, такой взгляд — не то же самое, что тезис зрелого ашаритского вероучения о том, что все действия людей (и даже их желания и воля) творятся Богом. Однако очевидно, что общим для этих двух, в каком-то смысле крайних, направлений исламской мысли служит представление о тавх̣ӣд аф‘а̄л, разделяет же их лишь толкование, а не признание этого положения, задающего магистраль развития мысли.
Итак, положение о единственности божества, тавх̣ӣд ’алла̄х, имеет своей оборотной стороной и даже своим обоснованием положение о единственности подлинного Действователя — того, кому должны быть приписаны все действия, результаты которых мы находим в мире, а точнее, находим как мир, и которые определят нашу участь после конца времен, на том свете. Но это положение имеет, помимо процессуального, ориентированного на рассмотрение действия, и другой аспект, ориентированный на рассмотрение «самости» (з̱а̄т). Его можно — правда, с существенными оговорками — считать задающим субстанциальную перспективу рассуждения[1].
[1] Эти оговорки довольно очевидны. Во-первых, филологического свойства: «субстанция» в арабо-мусульманской мысли передается обычно термином джавхар, что совсем не то же самое, что з̱а̄т («самость»). Во-вторых — и это, конечно, более существенно — категория субстанции не может не быть связана с категорией акциденции, тогда как приложение этой категории к божеству в пространстве исламской мысли очень трудно представить. В-третьих — и это, я думаю, самое существенное — категория з̱а̄т (самость) может разрабатываться в процессуальной перспективе, поскольку указывает на самость действователя или претерпевающего, тогда как категория субстанции (джавхар) требует собственной, субстанциально-ориентированной парадигматики мысли.
22
Эта перспектива в контексте исламской вероучительной мысли оказывается значительно беднее, нежели процессуальная, ориентированная на аспект действий. Является ли это следствием общей ориентации арабской мысли на рассмотрение именно действенного (процессуального) аспекта действительности, или скорее вероучительные установки ислама определяют преобладание этого, действенного, аспекта над субстанциальным? Конечно, однозначный ответ на такой вопрос дать непросто, и все же я склоняюсь к первому варианту. Вероучение отнюдь не представлено в готовом виде в тексте Корана и сунны, оно — плод серьезных теоретических усилий; текст Корана и сунны — вовсе не идейный монолит, картина мысли набросана в них очень разноречивыми мазками, и теоретик имеет весьма широкий выбор направления, по которому может направить свою систематизирующую мысль. Вряд ли текст Корана, тем более текст сунны однозначно предопределил, что именно превратилось в преобладающий мотив вероучения; скорее в этом выборе проявилась глубинная парадигматика мысли, характерная для этой культуры. Наконец, представители любых, крайне разнообразных направлений вероучительной и философской мысли, развившихся в лоне ислама как в П-перспективе, так и в С-перспективе, с одинаковым успехом могут ссылаться на Коран и сунну для подкрепления своих взглядов авторитетом текста, так что мысль и логика ее построения здесь явно имеют определяющий характер в отношении текста.
Так или иначе, мы обнаруживаем, что исламское вероучение не ориентирует верующего на то, чтобы задумываться над вопросом что есть Бог. Парадигматическим в этом отношении можно считать хадис «не задумывайтесь о самом (з̱а̄т) Боге, думайте о дарах Бога»[1]. Эта формула определяет общее настроение исламской вероучительной мысли: рассматривать мир со всеми его «самостями» (з̱ава̄т) и «действиями» (аф‘а̄л), в том числе, конечно же, и действиями человека, как результат божественного действия, как претерпевающее для творческой активности божества. Именно таким оказывается путь к
[1] Наиболее частотная формула —

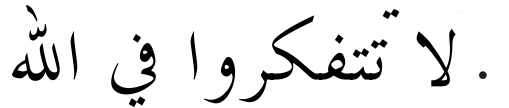
хотя нередко встречается окончание
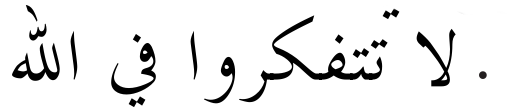
Этот хадис отсутствует в «шести книгах» суннитов, но его многократно приводят авторы классического периода, в т. ч. Ибн Манз̣ӯр (см. [Ибн Манзур]. Т. 14. С. 44). Ибн Таймиййа пишет о нем, что «в этой и подобной ей формулировках хадис “не задумывайтесь о самом Боге, думайте о дарах Бога” передают как установленный (с̱а̄бит) со слов пророка и его сподвижников, как доведенный (марфӯ‘) и не доведенный до него» ([Ибн Таймиййа]. Т. 6. С. 342).
23
осознанию Бога в исламском вероучении: он строится не как ответ на вопрос «что это?», а как рассуждение вокруг проблемы «чье это действие?». Мир, безусловно, приводит к Богу; но приводит не через рассмотрение его субстанции или его природы как таковой, а благодаря взгляду на него как на претерпевающую сторону божественного действия, необходимо связанную с его активной стороной, т. е. с самим Действователем — Богом.
Эта необходимая связанность и логическая неразрывность Бога как действователя, с одной стороны, и, с другой стороны, мира как претерпевающего для этого действия, составляющая в своем чистом виде логическое условие любого, не только божественного, действия, в данном случае дополняется особым представлением о субстанциальной разведенности действователя и претерпевающего. Следует, конечно, уточнить, о чем идет речь. Действователь и претерпевающее всегда разведены как самости, и это — также необходимое логическое условие любого действия, поскольку действие связывает действователя с претерпевающим, и оно не может происходить, если ему нечего связывать, т. е. если действователь и претерпевающее не разведены. В процессуальной парадигме это условие понимается жестко и исключает диалектические отождествления в одном лице действователя, действия и претерпевающего (каким было, например, отождествление «разумеющего», «разумеемого» и «разумения» в Первом Разуме у фала̄сифа). Но эта самостная разведенность, выступающая как логическое условие в процессуальной парадигме, вовсе не влечет с необходимостью субстанциальной различенности[1]: самостно различные действователь и претерпевающее могут иметь разные субстанции, а могут — одинаковые. Это так в общем случае[2];
[1] В этом — еще один немаловажный пункт различия понятий з̱а̄т и джавхар, «самость» и «субстанция», о котором мы говорили выше.
[2] Возможно, читатель уже не раз задал себе вопрос: если Действователь — один, если все действия принадлежат Богу (положение о тавх̣ӣд аф‘а̄л), то о каком «общем случае» может идти речь? Ведь тогда мы имеем единственный случай, не воспроизводимый, исключающий аналоги и не позволяющий делать обобщения.
Дело в том, что представление о Действователе-Боге как единственном и исключительном агенте всех действий никогда не было безоговорочным, общепринятым в исламской мысли. Есть как минимум два ярких примера принципиально иных решений вопроса о единственности или неединственности агента действий. Мутазилиты считали подлинным действователем человека наряду с Богом, причем области могущества человека и Бога у них не совпадали, а значит, действия человека оказывались в полном смысле автономны. В учении
Ибн ‘Арабӣ действие имеет не единственного агента, а двух — божественную и человеческую стороны, и совершается человеком настолько же, насколько и Богом. И мутазилиты, и Ибн ‘Арабӣ строят общую теорию, в которой действователь — не единственно и не исключительно Бог; имея в виду их построения, и можно говорить об «общем случае» рассмотрения действия как относимого не только к Действователю-Богу. Наконец, и в вероучительной мысли мы нередко встречаем рассуждения о действии человека, которые построены так, как если бы речь шла о его собственном действии; такие рассуждения также подпадают под «общий случай».
24
но когда речь идет о действователе-Боге и претерпевающем-мире, мы однозначно фиксируем то, что можно назвать полной субстанциальной, не только самостной, разведенностью Бога и мира, действователя и претерпевающего.
Настойчивый коранический мотив несопоставимости Бога и человека, Бога и мира, Бога и прочих (неистинных) божеств, в общем, Бога и всего прочего — мотив, который уверенно прослеживается и в сунне — при его продумывании дает рождение отчетливо формулируемому тезису об отсутствии «общности» (иштира̄к) между этими двумя сторонами: между Богом и всем прочим. Несопоставимость Бога и человека, Бога и всего прочего — это прежде всего несопоставимость их сил действия. Как змеи волхвов оказываются побеждены и поглощены змеем Моисея (см. Коран 26:43—45) — при том, что и то и другое выходит за пределы обычного, природного хода вещей — так и действенность любых божеств, не говоря уже о человеке или материальном мире, обращается в ничто в сопоставлении с силой действия Бога. Коран настойчиво подчеркивает, что действия Бога обеспечивают буквально весь ход вещей: именно его сила действия стоит за выпадением дождя, ростом растений, произрастанием скота и т. д. Эта тенденция различить, развести Бога, с одной стороны, и все прочее — с другой, очень заметна в Коране: с Богом как действователем несопоставима действенность любого, кто претендует на то, чтобы действовать наряду с Богом; любая другая сила действия оказывается иллюзией, рассыпается в прах, стоит ей встретиться с действенностью Бога. Так понятая несопоставимость и так проведенное представление о ней очень недалеки от тезиса о том, что все действия творятся Богом, который будет принят и разработан в ашаризме.
Итак, отсутствие общности между Богом и всем прочим — это прежде всего несопоставимость силы действия Бога и всего остального. Эта несопоставимость такова, что действенность всего прочего обращается в ничто в сравнении с действенностью Бога — так любое
25
число обнуляется в сравнении с бесконечностью. После этого вполне логичным и ожидаемым будет заключение о том, что мы находим Бога везде вокруг себя и даже в самих себе (вспомним кораническое «Мы к нему (человеку. — А. С.) ближе его шейной жилы»[1]) — но в том смысле, что находим его действие, отнюдь не его самость (з̱а̄т). Самость Бога несомненна для нас, поскольку без нее не было бы ничего (ведь всё — это результат действий этой самости); но какова она — мы сказать не можем. Субстанциально Бог и мир несопоставимы до абсолютной, полной противоположности, общность-иштира̄к исключена между ними не только с точки зрения действенного аспекта, но и с точки зрения субстанциальной. Не случайно, видимо, термин ширка, который обычно передают как «многобожие», имеет тот же корень, что иштира̄к: многобожие — это не только и даже не столько множественность богов, сколько — в первую очередь — общность Бога и чего-либо другого.
Путешествуя по территории смыслов важнейшей категории исламского вероучения — категории тавх̣ӣд, мы описали своеобразный круг и вернулись в исходную точку. Отрицание общности между Богом и всем прочим и означает тавх̣ӣд ’алла̄х — утверждение единственности Бога. Но теперь мы знаем, какие векторы рассуждения предполагает этот тезис, сам по себе весьма простой и незамысловатый. Каждый из этих векторов заслуживает отдельного, подробного рассмотрения. Однако наша задача здесь не в этом; наша задача — проследить дальнейшую судьбу этих представлений в теоретической мысли.
Божественные имена и атрибуты: подход филологов
Положение о «прекрасных именах Бога» (асма̄’ ’алла̄х ал-х̣усна̄) — не менее общепринятое и не менее несомненное в контексте исламского вероучения, чем положение о тавх̣ӣд. Более того, это — не некий «отдельный», особый пункт вероучения; положение о божественных именах трудно представить в отрыве от положения о единобожии (тавх̣ӣд ’алла̄х), и наоборот — положение о тавх̣ӣд ’алла̄х плотно спаяно с положением о божественных именах.
Два термина: «имя» (исм) и «атрибут» (с̣ифа, букв. «описание»), — употребляются в арабо-мусульманской мысли (взятой как целое, не только в вероучении), когда речь идет о такой предикации,
[1] Коран 50:16, С.
26
где субъектом выступает Бог. Интересно отметить, что исламская мысль, исследовавшая текст Корана с целью досконально прояснить, что именно он сообщает о Боге, подходила к этому вопросу именно так, максимально широко, фактически понимая предикат так же, как он понимается современными лингвистами, и, далее, видя в таких предикатах прямую или непрямую фиксацию имен и атрибутов Бога. Как представляется, логика движения мысли была именно такой: исследовать случаи предикации и на этой основе понять, как описан Бог в его собственной речи — в Коране[1].
Возьмем в качестве примера отрывок из обширного труда выдающегося филолога ал-Азхарӣ (895—980) «Тахз̱ӣб ал-луг̣а». Название этой работы можно передать как «Правильное употребление слов», поскольку термин луг̣а обозначает не только «язык, говор», но и «словарный состав, лексика». Работа, таким образом, ориентирована на установление правильного значения и правильной этимологии слов арабского языка, а о ее весе и авторитете говорит тот факт, что позже Ибн Манз̣ӯр в изобилии использовал ее при составлении своего «Лиса̄н ал-‘араб»[2]. Таким образом, это — работа лексикографа, и именно в данном качестве она интересна для нас здесь; мы можем считать ее характерным примером того, как арабская филология подходит к вопросу определения имен и атрибутов Бога.
Ал-Лайс̱[3] говорил: [слово] ал-х̣ана̄н [означает] «милость» (рах̣ма), а [соответствующее] действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун. Он говорил: Бог — Милостивый (х̣анна̄н), [то есть] Щедрый (манна̄н), Милосердный (рах̣ӣм) к Своим рабам. К этому — речение Всевышнего: «И х̣ана̄н» — то есть милость (рах̣ма) — «от Нас»[4].
[1] Напомню, что Коран, согласно исламскому вероучению, — это «речь Бога» (кала̄м ’алла̄х).
[2] А ал-Азхарӣ, в свою очередь, при составлении своего словаря использовал материалы, полученные им от его учителя ал-Мунз̱ирӣ (см. подробнее [Blachere]).
[3] Ал-Лайс̱ ибн ал-Муз̣аффар (ум. ок. 800) — филолог и факих, завершил редакцию Кита̄б ал-‘айн («Книга, [начинающаяся на букву] ‘айн») — первого словаря арабского языка, принадлежащего ал-Х̱алӣлу, одному из основателей арабской филологии; некоторые ученые классического периода даже считали ал-Лайс̱а автором этого словаря (см. [Sellheim]).
[4] Ал-Азхарӣ приводит отрывок из Корана (19:13), где Бог говорит об Иоанне, что тому еще в детстве были дарованы от Бога мудрость, чистота и х̣ана̄н — то есть, как поясняет ал-Азхарӣ, рах̣ма «милость».
27
Я же скажу: [слово] ал-х̣анна̄н — одно из имен Всевышнего Бога, образованное по модели фа‘‘а̄л[1]. Некоторые наши светила отрицали здесь удвоение [харфа «н»], поскольку относили это слово к ал-х̣анӣн, а ал-х̣анӣн никак не может быть одним из атрибутов (с̣ифа̄т) Бога[2]. Однако смысл [слова] ал-х̣анна̄н — это ар-рах̣ӣм («Милостивый». — А. С.), от ал-х̣ана̄н, то есть ар-рах̣ма (милость. — А. С.) [Азхари. Т. 3. С. 286].
Обратим внимание сперва на первое предложение отрывка, в завершающей части которого сказано, что «действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун». Термин фи‘л является именем и означает буквально «действие» (или, если захотим передать процессуальность, — «действ[ован]ие»), а взятый в качестве грамматического термина — «глагол». Ал-Азхарӣ — лексикограф, и можно было бы ожидать, что он употребляет слово фи‘л в терминологическом значении, как «глагол». Классов слов в арабском языке — три: имена, глаголы и частицы (х̣урӯф). Уже упомянутые слова х̣ана̄н и рах̣ма — это имена, и можно было бы ожидать, что после имен ал-Азхарӣ упомянет глагольную форму с тем же корнем, что у имени х̣ана̄н, чтобы дать исчерпывающее перечисление классов слов с корнем х̣-н-н (частицы-х̣урӯф в данном случае в счет не идут). Однако, сказав, что сейчас он упомянет фи‘л, ал-Азхарӣ дает не глагольную форму, а масдар (тах̣аннун) — то есть имя действия, при том, что масдар относится к категории имен, а не глаголов.
Это высвечивает ту роль, которую играет масдар в арабском языковом и филологическом мышлении, а также масштаб понимания термина фи‘л, который, обозначая в грамматике «глагол» (т. е. слово, указывающее на время), на уровне мысли понимается не только как действие (что прямо соответствовало бы грамматическому
[1] В арабской филологии принято фиксировать модели слов с использованием харфов ф-‘-л, которые при замене их другими корневыми харфами дают искомое слово. В данном случае подстановки ф → х̣, ‘ → н, л → н превращают фа‘‘а̄л в х̣анна̄н.
[2] Иначе говоря, некоторые великие предшественники ал-Азхарӣ (в оригинале — маша̄йих̱у-на̄, «наши старцы», «наши шейхи») считали, что слово х̣анна̄н берет начало от слова х̣анӣн и, следовательно, несет его смысл — поскольку, согласно общим представлениям о словообразовании (иштик̣а̄к̣), производное слово сохраняет смысл основы и добавляет к нему некий дополнительный смысл. Поэтому, если слово х̣анна̄н образовано от х̣анӣн, оно не может не нести его смысла, а поскольку среди смыслов слова х̣анӣн — «тоска», то оказалось бы, что Бог имеет атрибут «тоскующий» (или «тоскливый»), что абсурдно.
28
значению и предполагаемому грамматикой указанию на время, поскольку действие протекает во времени и бывает «совершаемым», «совершенным» или таким, которое только «будет совершено»), но и как действ[ован] ие, т. е. как процесс, не указывающий на время — как не указывает на время тах̣аннун, будучи масдаром (и как не указывает на время имя вообще).
Тах̣аннун трудно перевести одним словом (подошло бы «умилостивление», если бы не его искусственность), лучше всего сказать «проявление-милости». «Проявление-милости» совершается вне времени; это процесс, а не действие. Таким образом, слово фи‘л обозначает и действие, которое совершается во времени и не может быть из него изъято, чему в грамматике соответствует понимание термина фи‘л как глагола, и процесс (= действ[ован]ие), который совершается вне времени, чему в грамматике соответствует — строго говоря — категория масдара. В мышлении — и это демонстрирует нам цитата из ал-Лайс̱а, приводимая ал-Азхарӣ, — совершается дрейф от первого ко второму пониманию.
Субстанция и процесс: трансцендентальные условия
В таком дрейфе самом по себе нет ничего специфического для арабского мышления. Ведь самым обычным делом и для нас будет сказать «действие качения», «действие сверления» и т. п., когда мы употребляем имена процессов (качение, сверление) для обозначения действий. Таким образом, и для нас такая смена регистра происходит в языке совершенно естественно. Мы, как будто не задумываясь, отбрасываем временнýю составляющую действия, тем самым превращая его в процесс. За этими языковыми формами стоят, пусть и неявно, наши представления о том, что действие оборачивается процессом, что, говоря о действии, можно абстрагироваться от временнóй среды, которая, казалось бы, составляет плоть и кровь действия. Но ведь точно так же, переместившись в субстанциально-ориентированную среду мышления, мы говорим о субстанции, абстрагируясь от материи, от вещества — от того, что, казалось бы, составляет плоть и кровь субстанциально-понятых вещей. И там и тут, и в процессуальной перспективе, и в субстанциальной перспективе, происходит прорыв очевидности, понятой, так сказать, осязаемо, просто и доступно для любого: ведь всякий может увидеть и пощупать вещество или совершить какое-нибудь действие. Для любого человека с улицы очевидна эта овеществленность и эта овремененность, — но мысль
29
может быть выстроена только тогда, когда эта слишком явная очевидность прорвана, когда осуществлен выход за нее — то, что мы можем назвать трансценденцией.
Такая трансценденция совершается в нашей речи — причем так, что мы не задумываемся об этом и как будто не замечаем ее. Мы видели, как это происходит в случае действия и процесса, когда мы прорываем временнýю пелену, окутывающую действие, и поднимаемся к процессу, сохраняющему действенность, но утрачивающему временнóй характер. Но ведь по сути то же самое имеет место и тогда, когда мы употребляем имена. В этом случае, правда, нет смены языковых форм, как то случается при замене глагола именем, когда мы говорим не «действие сверлю» или хотя бы «действие сверлить», а «действие сверления», отождествляя действие не с глаголом, а с именем. Однако сам факт употребления имен уже предполагает трансценденцию, уже требует — в качестве своего условия — прорыва горизонта материальности и выхода за его пределы — туда, где вещество, материя (в осязаемом смысле этого слова) теряет всю свою власть, уступая ее «идее», «субстанции» или иным категориям, освобождающим вещь от власти материальности.
Материальность связывают прежде всего с пространством: материя — это возможность арифметического умножения одной и той же вещи, одной и той же субстанции (сущности). Такое умножение — именно пространственное. Единственная субстанция «стол» многократно умножится в пространстве, давая неограниченное количество столов, воплощенных в веществе и доступных органам чувств. Конечно, умножение можно представить и во времени, взяв одну и ту же единичную вещь-субстанцию и наблюдая ее копии, сменяющие друг друга с течением времени. Один и тот же стол на протяжении любого отрезка времени будет меняться материально, вещественно, из нового и блестящего превращаясь в потрепанного временем и являя следы своего использования: стол остается тем же самым не потому, что сохраняется его вещество (мы можем заменить одну его ножку или даже все, а затем и столешницу), а потому, что это — та же самая субстанция, та же самая сущность. И все же временнóе изменение — не конституирующее для материальности; главным для нее служит пространственность. Материальную вещь можно легко изъять из временнóго потока, сфотографировав либо нарисовав ее или же проделав то же самое мысленно. Мгновенное схватывание лишает материальную вещь временнóго измерения, но вовсе не лишает ее материальности. Материальность остается, зафиксированная
30
пространственно, как вневременной разброс: снимок пустого читального зала библиотеки со множеством столов не дает никакого временнóго изменения, но тем не менее дает материальное умножение одной и той же субстанции.
Время же, напротив, конституирует действие: действие в отношении процесса играет ту же роль, что материя в отношении субстанции. Здесь обратное соотношение, нежели в предыдущем примере. Мы можем умножить действие пространственно, представив себе его совершение множеством действователей. Например, на улице множество людей идут и множество машин едут: действие «идти» и «ехать» умножено здесь в пространстве благодаря умножению действователей. И все же не пространство конституирует действие, а именно время. На фотографии (если она сделана с маленькой выдержкой) ни люди, ни машины не будут совершать действий, они застынут в неподвижности: мы будем иметь субстанции, но не действователей и не действия. Специальным приемом длинной выдержки фотографы имитируют действия, как будто помещая их в мгновенный снимок. На таком снимке мы не увидим машин-субстанций, заметим только прочерченные красные и белые полосы хвостовых огней и фар: так субстанция делает вид, что исчезает, как будто уступая место действию. Именно как будто: чтобы увидеть действие на такой фотографии, надо мысленно восстановить последовательность событий, намек на которые дан нам как красные и белые полосы; надо как будто увидеть движущиеся машины, восстановив их движение по тем красным и белым полосам, что даны нам.
Чтобы отобразить действие напрямую, не метафорично и не намеком, нам нужна лента, а не картинка, кино, а не фотография[1]. Если субстанция умножается в пространстве во множестве копий, то процесс умножается во времени, давая временнýю множественность своих совершений. Процесс «хождение» или «езда» может совершаться в любое из мгновений ленты времени, давая действие, неограниченно умножающее вневременной процесс, как пространство умножает субстанцию.
[1] Заметим, что кинематографическая лента состоит из множества картинок-фотографий: продолжение этой метафоры приводит нас к продумыванию вопроса о том, стоит ли мыслить время атомарно или его нужно непременно понимать континуально. Интересно, что компьютерная видеотехнология может отображать то же, что отображает кинематографическая лента, но не с помощью умножения полноценных мгновенных картинок, а иначе, фиксируя лишь изменения каждого кадра.
31
Пространство и время, материя и действие, субстанция и процесс демонстрируют удивительный параллелизм, транспонирующий одно в другое: пространство во время, материю в действие, субстанцию в процесс и наоборот.
Этот параллелизм распространяется и на понимание вечности. Вечность снимает время; но снимает в соответствии с тем, как время понимается в субстанциальной и процессуальной перспективах, то есть в соответствии с его функциями. Вечность субстанций (то, что можно назвать сразу-вечностью) — как мгновенный снимок, на котором все действия имеются нераздельно и неслиянно, как красные и белые линии автомобильных огней на ночной фотографии города, сделанной с большой выдержкой, дают нам сразу все движения машин, в нашем мире растянутые во времени. Вечность процессов — как бесконечная лента, заведомо превышающая любой временной отрезок. Это — «растянутая» вечность, стоящая «выше» времени не потому, что прошлое и будущее в ней как бы одновременны (так что эта одно-временность того, что для нас разно-временно, уничтожает время, состоящее как раз в рядоположенности, но не просто стирает его, а переводит в новое качество, сворачивая эту рядоположенность в сразу-положенность), а потому, что они «получаются» из нее, порождаются ею как некие ее «слепки», или «клоны». В вечности субстанций все действия уже совершены, потому что они как будто имеются все сразу; в вечности процессов никакие действия еще не совершены, потому что они бесконечно предполагаются бесконечной растянутостью процессов. Ни в вечности субстанций, ни в вечности процессов никаких действий нет, они сняты — но сняты по-разному. Ведь действия — это изменения per se (то, что Аристотель понимал под движением). Изменение несовместимо с вечностью; вечность — это отсутствие изменений.
Глагольная и именная предикация
Вернемся к нашей цитате. Как видим, еще ал-Лайс̱ утверждает, что Бог — «Милостивый» (х̣анна̄н), на том основании, что в Коране сказано ва х̣ана̄нан мин ладунна̄ «и милость от Нас». Эти слова — часть аята «Мы даровали ему (Иоанну. — А. С.) мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»[1]. Предицируемое Богу «дарование милости (х̣ана̄н)» означает, с точки зрения ал-Лайс̱а, что
[1] Коран 19:12—13.
32
Бог — Милостивый (х̣анна̄н). Эту логику и этот вывод не оспаривает ал-Азхарӣ; более того, он подтверждает ее, употребляя и термин «имя», и термин «атрибут». Стоит отметить, что слово х̣анна̄н в Коране не употребляется; более того, процитированный аят — единственный случай употребления не только слова х̣ана̄н, но и вообще слов с корнем х̣-н-н в Коране[1]. Значит, для ал-Лайс̱а — и, видимо, для ал-Азхарӣ, который приводит его слова, не возражая им, — процитированный аят — достаточное основание для того, чтобы установить имя Бога х̣анна̄н «Милостивый» на основании рассмотренного случая предикации милости-х̣ана̄н.
Этот случай — отнюдь не одиночный, скорее это — довольно типичный пример того, как предикативные конструкции текста Корана, в которых субъектом выступает Бог, анализируются на предмет определения на их основе имен Бога и его атрибутов. Это важно для нас: в филологии, причем на ранних ее стадиях, понятие «имя Бога» оказывается тесно сопряжено с вопросом о предикации. Конечно, для филологов не стоит проблема логической оправданности таких предикативных конструкций: ее постановка — дело критического философского мышления, тогда как дело филолога — научное описание и объяснение случаев употребления языка. Но важнейшим фактом, который устанавливает филолог, является следующий: кораническая конструкция, в которой субъектом служит «Мы» (цитированные аяты «Мы даровали ему мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»[2]), а предикатом — «даровали… милость», превращается в другую предикативную конструкцию «Бог — Милостивый». Если первое предложение — глагольное[3], то второе — именное. Но дело не только в этом. Если первое предложение — кораническая цитата, и ставить вопрос о его логической оправданности невозможно в контексте исламской культуры, то второе предложение не обладает иммунитетом коранического текста и не только может, но и должно быть исследовано на предмет логической оправданности. Так филологический анализ готовит необходимую почву для критического рассмотрения вопроса об атрибутах Бога.
[1] Если не считать 9:25, где употреблен оборот йавм х̣унайн — «день Хунайна»: «Хунайн» здесь, как поясняет в своем комментарии ат̣-Т̣абарӣ, — название вади между Меккой и Таифом или же селения в той же местности.
[2] Коран 19:12—13.
[3] Цитированный аят в оригинале:

33
«Имя» и «атрибут»: вероучительный подход
Как соотносятся термины «имя» и «атрибут»? Когда речь идет о Боге и, соответственно, о божественных именах и атрибутах, эти термины нередко употребляются в текстах попеременно как синонимичные, что видно хотя бы на примере приведенной выше цитаты из ал-Азхарӣ. Но между ними есть и различие, которое будет иметь для нас существенное значение. Ат-Таха̄навӣ в своем знаменитом «Словаре научных терминов» в статьях «’Исм» и «С̣ифа» дает хорошее представление о нем, открывая эти статьи фиксацией наиболее общего значения данных слов — как слов языка и как научных терминов[1]. Выжимкой этого обзора можно считать следующее. Признаком, позволяющим различить «имя» (’исм) и «атрибут» (с̣ифа), взятые как термины, а не как слова языка, служит следующее: имя указывает на самость (з̱а̄т), тогда как атрибут — на некий «смысл» (ма‘нан) в этой самости. Таково заостренное выражение различия между этими терминами, которое имеет важнейшее значение именно в контексте вопроса о предикации. Из сказанного видно, что имя фиксирует субъект, тогда как атрибут схватывает предикат этого субъекта, но не сам субъект. И хотя, как отмечает ат-Таха̄навӣ, имя — с точки зрения общеязыкового значения — может указывать не только на самость, но и на смысл в некой самости, а значит, играть ту же роль, что и атрибут, обратное невозможно: атрибут не указывает непосредственно на самость, а только — на некий смысл, приписываемый самости. Значит, атрибут никогда не фиксирует субъект, тогда как имя может указывать как на субъект, так и на предикат субъект-предикатного высказывания.
Почему же у филологов, факихов и вероучителей «имя» и «атрибут» употребляются так, как если бы они были синонимами, когда речь идет о Боге? Емкий ответ находим у ад-Да̄римӣ, известного хадисоведа третьего века хиджры, ставшего одним из главных авторитетов для современных суннитов-традиционалистов:
Имена Бога несоизмеримы с людскими, ибо у людей имена сотворены и метафоричны (муста‘а̄ра «заимствованы». — А. С.), их имена — не то же самое, что их атрибуты, они разнятся (мух̱а̄лифа) с их атрибутами, тогда как имена Бога и есть Его атрибуты, а не что-то разнящееся с ними, и ни один из Его атрибутов не разнится с Его именами. Поэтому тот, кто утверждает, будто какой-либо из божественных атрибутов сотворен или метафоричен, допускает неверие
[1] См. [Таханави. С. 707—708, 1496—1497].
34
(кафара) и нечестие (фаджара). Ведь если сказать «Бог (’алла̄х)», то это — именно «Бог», если сказать «Милостивый», то это — именно «Милостивый» и именно «Бог», если сказать «Милосердный», то это — то же самое, и если сказать «Мудрый», «Достохвальный», «Славный», «Великий», «Возвышенный», «Подчиняющий», «Могущественный», то и здесь — так же, и это именно «Бог»: ни одно Его имя не разнится ни с одним из Его атрибутов, и Его атрибут — ни с одним Его именем.
А человека могут именовать «мудрым», тогда как он невежествен, «справедливым судией», тогда как он — притеснитель, «могущественным», тогда как он ничтожен, «щедрым», тогда как он скряга, «здоровым», тогда как он истощен, «счастливым», тогда как он бедствует, «похвальным», тогда как он заслуживает порицания, «любимым», тогда как его ненавидят, а также «львом», «ослом», «собакой»… «занозой», «ершом»[1] — а он не есть ничто из этого [Дарими. Т. 1. С. 161—162].
Оказывается, что атрибуты Бога всегда указывают на самого Бога, равно как на свой собственный смысл, причем это — строго одно и то же, поскольку нет никакого «разногласия» (мух̱а̄лафа) между тем и другим. Такое разногласие бывает в случае, когда речь идет о людях, поскольку их атрибуты могут быть, во-первых, ложными (невежду именуют «мудрым» и т. д.), а во-вторых, метафоричными (человека называют «ослом», «занозой» и т. д.). И то и другое исключено в отношении Бога: указание имени и указание атрибута — не разное, говорит ад-Да̄римӣ. Фактически он утверждает, что указание на некий атрибут-«смысл» (например, «милость») и есть указание на самого «Бога», что эти указания — одинаковые.
Это и означает, что «имя» и «атрибут» в отношении Бога, хотя и не одно и то же, но тем не менее фактически — не разное. Такое утверждение известного хадисоведа, конечно же, можно принять только на веру, догматически, применив известный ашаритский прием би-ла̄ кайф — «не задавая вопроса как?». Стоит лишь озадачиться таким вопросом, как настойчивая попытка ад-Да̄римӣ убаюкать читателя повторением одного и того же тезиса, никак его не обосновывая, развеется как дым. В самом деле, если рах̣ма̄н «Милостивый» указывает на свой смысл, то как может этот смысл оказаться ровно
[1] Последние два слова в оригинале — х̣анз̣ала и ‘алк̣ама, оба имеют значение «колоквинт», переносное значение — нечто горькое, как в русск. «хрен редьки не слаще»; фигурируют в арабских поговорках в сравнениях с людьми, обозначая едкость их характера.
35
тем же, что тот, на который указывает имя ’алла̄х «Бог»? Этот вопрос концептуализируется в терминах арабской теории указания на смысл следующим образом. Либо различие рах̣ма̄н и ’алла̄х — чисто номинальное (то есть различие на уровне лафз̣ — высказанности), тогда как смысл (ма‘нан) того и другого — строго один и тот же; но тогда все имена Бога — синонимы и не имеют собственного значения, чего ад-Да̄римӣ допустить никак не может. Либо каждое из имен указывает на собственный смысл-ма‘нан, и тогда нельзя не признать множественности смыслов-ма‘а̄нин, добавляемых к самости (з̱а̄т) Бога, фиксируемой высказанностью ’алла̄х («Бог»), чего ад-Да̄римӣ также признать категорически не может. Но третьего попросту не дано, поэтому приходится отрицать саму возможность концептуализации и запрещать ставить этот вопрос. К счастью, в исламе, где отсутствует церковь, невозможно эффективно провести такие догматические запреты, и классическая мысль оставила нам великолепные образцы теоретизирования по поводу этого вопроса; об одном из целого ряда предложенных решений и пойдет у нас речь.
Тавх̣ӣд и имена: связанность несовпадающего
Принцип тавх̣ӣд и положение о божественных именах и атрибутах тесно связаны в исламском вероучении. Однако вектор их действия в определенном смысле — противоположный.
Одна из существеннейших импликаций принципа тавх̣ӣд — положение об отсутствии «общности» (иштира̄к) между Богом и миром. Эта категорически отрицаемая исламским вероучением общность может пониматься в процессуальном ключе; тогда она дает мощный импульс развитию тезиса о тавх̣ӣд в направлении тавх̣ӣд аф‘а̄л, когда Бог и все прочее разводятся как действователь и претерпевающее, так что вся действенность оказывается на стороне Бога, а все прочее не имеет ничего общего с Богом как абсолютным действователем. Но не менее важным, даже неизбежным, следствием оказывается трактовка отсутствия общности между Богом и всем прочим в субстанциальном ключе. Тогда это положение означает полную неприложимость к Богу каких-либо описаний, которые приложимы ко всему остальному, т. е. прежде всего — к человеку и миру.
Оба этих смысла важны, их невозможно разорвать, и оба они занимают важнейшее место в составе ядра исламского вероучения. Отрицание общности между Богом и миром, прямо вытекающее из принципа тавх̣ӣд, разводит, расталкивает по противоположным
36
полюсам Бога и все прочее. Еще на ранних стадиях развития исламской мысли, во времена мутазилитов, вошли в употребление термины «Бог» (’алла̄х) и «все, что кроме Бога» (ма̄ сива̄ ’алла̄х)[1]. Они зафиксировали совершенную разведенность этих двух полюсов — разведенность, которую можно было бы назвать дихотомической, если бы имелось то общее, что целиком распадалось бы на эти две ни в чем не перекрывающиеся части.
Положение об именах ориентирует нас в противоположном направлении. Ведь имена как раз сближают Бога и мир, стремятся установить связь между ними. Конечно, эта связь видится вовсе не как субстанциальная общность: имена и атрибуты Бога, даже если номинально совпадают с теми, что применимы к человеку и миру, отнюдь не означают их общности в смысле субстанциальной одинаковости. Связанность Бога и мира очевидна хотя бы потому, что Бог творит этот мир и ежемгновенно управляет им. Эта направленность действия Бога на все прочее и выражена в его именах и атрибутах. Лишь небольшая их часть должна быть понята как указывающая исключительно на Бога (например, имена «Один» или «Единый»), прочие же не могут быть осмыслены иначе нежели как указывающие на его связанность со всем прочим (например, имена «Творящий» или «Желающий»).
Таким образом, совершенное несовпадение Бога и мира является многократно заявленным, разработанным и подтвержденным тезисом исламского вероучения. Не менее несомненна в контексте этого вероучения и связанность Бога и мира. Связанность несовпадающего — это центральная проблема, центральный пункт напряжения исламского вероучения. Именно его последовательное продумывание рождает критическое, философское мышление (как у мутазилитов, ал-Кирма̄нӣ, Ибн ‘Арабӣ и других авторов); и именно догматическое постулирование отсутствия самой такой проблемы (как у ад-Да̄римӣ и других вероучителей) рождает вероучительную мысль. Эта точка, следовательно, — логическая развилка, где исламская мысль расщепляется на вероучение и философию.
Посмотрим, какое решение этой проблемы предложил наиболее выдающийся исмаилитский философ Х̣амӣд ад-Дӣн ал-Кирма̄нӣ.
[1] Именно так, «термины»: слово ’алла̄х, употреблявшееся задолго до того, стало термином и получило особое смысловое наполнение, включившись в эту систему из двух понятий, которая предполагает определенную логику отношения между ними, их определенное наполнение и тем самым содержит в зародыше всю проблематику соотношения между Богом и всем прочим. Этот зародыш — не слово как таковое, а система соотношений с их логикой.
37
Бог и причинность у ал-Кирма̄нӣ:
сетка смысла в С- и П-логиках
Связанность Бога и мира концептуализируется для ал-Кирма̄нӣ через категорию причины (‘илла). Бог — причина всего прочего: в такой упрощенной формулировке можно представить его взгляд на этот предмет.
Ал-Кирма̄нӣ доказывает это, отталкиваясь от положения о невозможности бесконечного ряда и от представления о лестнице причин, о поэтапной передаче необходимости от вышестоящей причины к нижестоящей. Оба эти положения, как и доказательство необходимости Первоначала, были подробно разработаны фала̄сифа. Ал-Кирма̄нӣ использует это доказательство, оформляя и разъясняя его с присущим ему красноречием:
Мы скажем: непреложные законы гласят, что следствие (ма‘лӯл) может существовать лишь благодаря своей причине (‘илла), которая делает его существование необходимым. С сей причиной его существование связано, и на нее оно в своем существовании опирается: не будь ее, не было бы и его. Теплота, например, не существует без своей причины, которая делает ее существование необходимым, с которой ее существование связано и на которую она в своем существовании опирается; эта причина — движение, и не будь его, не было бы и ее. И движение не существует без своей причины, которая делает его существование необходимым, с которой его существование связано и на которую оно в существовании опирается, а именно — двигателя, не будь которого, не было бы и его. Или составные телесные порождения, которые существуют благодаря первоэлементам: с первоэлементами связано существование их, на них они в своем существовании опираются, и не будь их, и тех бы не было. Или первоэлементы, которых не было бы, не будь тех материи и формы, на существование которых они опираются в своем существовании. Или материя и форма, которых не было бы, не будь тех причин (асба̄б), на которые обе они опираются в своем существовании и от существования которых и их существование может происходить, а именно — небесных тел и высших форм.
Так вот, поскольку одно из сущего опирается в своем существовании на другое, и поскольку, будь то, на что сие в существовании своем опирается и с чем существование его связано, неутвержденным (г̣айр с̱а̄бит) в существовании и не существующим, то и существование сего было бы невозможно,— итак, поскольку доказано, что сие существует только благодаря тому, то отсюда вытекает, что Тот, к Кому восходит все сущее, существующее благодаря Ему,
38
от Него и опираясь на Него — это Бог (кроме Которого нет бога), Чья ничтойность (лайсиййа) невозможна и отрицание оности Которого ложно: если бы Он был ничем (лайс), то и все сущее было бы ничем, а поскольку сущее есть, то и Его ничтойность невозможна [Кирмани 1983. С. 129—130[1]].
Причинность ал-Кирма̄нӣ понимает здесь не как порождение одним сущим другого, а как онтологическое обоснование; в фальсафе было принято называть это соответственно горизонтальной и вертикальной причинностью. Нетрудно заметить, что приведенные ал-Кирма̄нӣ примеры заимствованы у аристотеликов. Последовательно, слой за слоем проходя онтологические уровни, мы должны прийти к некоему началу — к тому, с чего начинается весь ряд обоснования. Это начало и есть Бог — то, без чего не могла бы существовать вся причинно-следственная цепочка онтологического обоснования сущего.
Рассуждение опирается на логику причинно-следственной связи и строится как доказательство от обратного: без причины нет следствия, однако следствие (мир) существует, следовательно, его причины существуют; а поскольку бесконечный ряд нельзя пройти (ал-Кирма̄нӣ говорит об этом многократно в других местах), то мы, открывая за каждым следствием обосновывающую его причину, а затем — причину этой причины, должны где-то остановиться. Эта логическая необходимость и обосновывает вывод о том, что Бога не может не быть, поскольку иначе разрушилась бы вся цепочка причинно-следственных связей.
Отметим также, что, говоря о Боге, ал-Кирма̄нӣ употребляет термин «оность» (хувиййа). «Оность» — абстрактное имя от местоимения «он»; для ал-Кирма̄нӣ этот термин служит указанием на Бога как такового, не примешивающим к такому чистому указанию ничего постороннего: оность — это Бог как таковой, чистый Бог, о котором нельзя ничего сказать, поскольку такое указание не предполагает никаких атрибутов и субъект-предикатных высказываний. Подобное понимание Бога можно считать даже в каком-то отношении более строгим, нежели предлагаемое вероучением, рассматривающим Бога как самость, поскольку вероучение не может не признавать имена и атрибуты Бога, что создает, как мы видели на примере ад-Да̄римӣ,
[1] Ссылаюсь на арабский оригинал, поскольку перевод несколько изменен в сравнении с публикацией 1995 года (см. [Кирмани 1995]), где интересующие нас отрывки представлены на с. 50—51 и 67—68.
39
определенные теоретические трудности. Здесь же речь идет только о «чистом» Боге, Боге, понятом как исключительно «он», без чего-либо дополнительного.
Итак, согласно ал-Кирма̄нӣ, причина — это опора вещи, ибо вещь в своем существовании (вуджӯд) опирается (йастанид) на свою причину, то есть на то, что придает ей необходимость (вуджӯб). Наша задача теперь — понять, что все это значит. Истолковать слова ал-Кирма̄нӣ, т. е. выполнить классическую востоковедную задачу, которая дополняется в нашем случае историко-философским аспектом.
Как это сделать? Начнем с методологии. Она основана на нескольких принципиальных положениях[1].
1. Любое высказывание представляет собой субъект-предикатный комплекс. (Даже если это верно лишь для утвердительных предложений, можно было бы сказать, что вполне допустимо ограничиться ими. Однако вопрос, приказание и иные модальности также скрыто содержат субъект-предикатный комплекс, который без труда может быть восстановлен.)
2. Языковая форма высказывания предоставляет в наше распоряжение чистую номинальность, т. е. чисто словесную форму. Эта словесная форма может быть осмыслена (превращена в осмысленность) двумя альтернативными способами, опирающимися на С-логику и П-логику.
3. В словесной форме высказывания самой по себе нет ничего, что отдавало бы предпочтение С-логике над П-логикой или наоборот; во всяком случае, нет ничего, что однозначно определяло бы такое предпочтение и не могло бы быть при желании перетолковано в пользу альтернативного осмысления. (Понятно, что вытекает из этого для понимания настроя ученого при чтении текстов инокультурной традиции: если перетолкование в привычную логику возможно, оно всегда будет осуществлено; чтобы этому воспрепятствовать, нужны специальные приемы.)
4. Таким образом, любая субъект-предикатная конструкция, выраженная в языке, объективно дает возможность извлечь из нее смысл двумя альтернативными способами на основе двух логик.
[1] Эти положения опираются на представления о том, что такое сознание, смысл и осмысленность, высказанные в моей последней работе (см. [Смирнов 2014б]).
40
5. Исследовательская задача расщепляется на объективную и субъективную составляющие, которые ясно отличаются одна от другой. Объективная составляющая — это экспликация содержания, объективно вытекающего из субъект-предикатного комплекса, в двух альтернативных логиках, субстанциальной и процессуальной. Субъективная составляющая — это попытка ответить на вопрос «что на самом деле имел в виду автор».
6. Объективная составляющая исследования может быть выполнена всегда и полностью; препятствием могут оказаться лишь ошибки в применении объективных законов смыслополагания. Субъективная составляющая может быть выполнена с разбросом вероятности от почти нулевой до почти полной. Помочь повысить вероятность выводов может большой массив данных (чем он больше, тем больше вероятность встретить «лакмусовые бумажки» — такие положения, которые почти определенно указывают на С- или П-логику и требуют для своего перетолкования в другой логике слишком сильных допущений), определенность мысли автора и другие контекстуальные факторы. Субъективная составляющая никогда не может быть выполнена с абсолютной точностью, поскольку она имеет дело с историческим фактом, а не с объективной закономерностью.
Эти тезисы верны всегда. Я хочу сказать, что любое высказывание, каждое предложение всегда можно истолковать в двух логиках, субстанциальной и процессуальной. Какая из них действовала «в голове» автора в каждом конкретном случае, мы знать не можем, хотя можем с большей или меньшей долей вероятности дать ответ на этот вопрос. Чем шире контекст, тем больше вероятность, тем увереннее мы можем делать выбор между двумя логиками, хотя абсолютной уверенности не достигаем никогда, поскольку всегда сохраняется теоретическая возможность перетолкования в другую логику за счет гипотез ad hoc. Если у нас единственное высказывание, дошедшее от автора, вероятность установить, какой из двух возможных логик он руководствовался, практически нулевая. Если в нашем распоряжении обширный текст, вероятность повышается почти до единицы. Но в любом случае объективную сетку возможностей мы можем — и должны — задать всегда. Только с заданием такой сетки смысла, т. е. благодаря экспликации смысла субъект-предикатной конструкции в С-логике и в П-логике, задача понимания того, «что сказал нам
41
автор», обретает объективное основание, она перестает быть гаданием и угадыванием, перестает быть пресловутой «интерпретацией», свободной от каких-либо объективных обязательств. С другой стороны, любая «интерпретация» все равно опирается на объективную логику, позволяющую судить, «как можно» и «как нельзя» сказать, — однако, поскольку эта логика скрыта, остается невыясненной принципиальная и объективная сетка смысла, которая задается номинальностью любого предложения благодаря возможности экспликации его смысла в двух логиках.
Так можно работать с любым отдельным предложением[1]. Здесь нас, однако, интересует не такой единичный анализ высказываний; нас интересует учение ал-Кирма̄нӣ в части причинности, взятое «в целом». Что значит «в целом» и как это «целое» понимание учения складывается на смысловых сетках отдельных, единичных высказываний, — это особый вопрос. Его, конечно, следует ставить, причем ставить в рамках общей задачи исчисления смысла. Что смысл исчислим, вытекает из того, что, согласно гипотезе, о которой говорилось в начале, для любой словесно выраженной субъект-предикатной конструкции мы можем с помощью конечного числа шагов, заданных процедурно (т. е. не зависящих от конкретного предложения), эксплицировать ее смысловое наполнение как минимум в двух логиках; это значит, что возможен алгоритм исчисления смысла. Когда-то, пятнадцать лет назад, в «Логике смысла» я поставил в качестве основного вопроса такой: «Исчислим ли смысл?», — предвидя, конечно же, положительный ответ на него (иначе зачем такой вопрос ставить), но не зная, каким именно он будет. Сегодня я могу сказать, что есть точка (участок, проблема, то, от чего можно оттолкнуться), в которой постановка и выполнение этой задачи обрели ясные контуры. Исчисление смысла одного и того же предложения в двух логиках может быть алгоритмизировано.
Из этого вытекают многие следствия, прежде всего то, что «понимать предложение» можно интуитивно, как это делают все люди, а можно это понимание сделать научным. Как аристотелевская логика понималась интуитивно до того, как ее положения были сформулированы, и чувствуется до сих пор многими лишь интуитивно: кто учит фигуры силлогизма? — так и логика смысла не нуждается в эксплицитной формулировке, чтобы действовать и определять наше понима
[1] Конкретный пример такого разбора высказывания как субъект-предикатной конструкции в С- и П-логиках см. в [Смирнов 2014б. С. 225—234].
42
ние языковых предложений и понимание мира (между этими двумя пониманиями имеется существенный параллелизм потому, что оба представляют собой осмысление субъект-предикатных конструкций). Однако эксплицитная формулировка законов логики смысла и их применение дает нам в руки эффективный инструмент; и если все, с чем мы имеем дело, это субъект-предикатные конструкции, то такой инструмент, во-первых, универсален, а во-вторых, попросту незаменим.
Если одна и та же словесно выраженная субъект-предикатная конструкция объективно имеет два эксплицируемых смысла, восстанавливаемых в С- и П-логике, причем эти две экспликации строго равновозможны и альтернативны, то мы должны рассматривать их как варианты. Тогда встает вопрос об инварианте: можно ли говорить о каком-то «общем» смысле, который бы интегрировал два вариативно эксплицируемых смысла? Думаю, можно и нужно; это то, что в «Логике смысла» я назвал обобщением второго порядка, «обобщением обобщения»: как можно обобщить разные логики смысла, как можно их интегрировать? Этот вопрос по прежнему на повестке дня, к нему неизбежно придется обращаться, но теперь, имея представление о ясной алгоритмической процедуре исчисления смысла субъект-предикатной конструкции в двух логиках, можно представить хотя бы с какой-то мерой конкретности возможные подходы к постановке и решению проблемы обобщения второго порядка.
Вернемся к нашей теме. Есть текст ал-Кирма̄нӣ, приведенный выше (оставим пока в стороне вопрос перевода: мы могли бы читать его и по-арабски); и есть — или должно быть сформулировано — некое общее представление о его учении, некая «выжимка». Какова связь между этими двумя текстами? Текст ал-Кирма̄нӣ дан нам, для нас это, так сказать, эмпирическая реальность. Текст, выражающий «общее содержание» его учения, должен быть создан нами. Как от первого текста мы переходим ко второму? Если считать текст частью «объективного мира», то вопрос можно поставить так: есть две реальности, две вещи, между которыми мы усматриваем некую связь; первая дана нам изначально, вторая создана нами. Какова связь между ними? Как эта связь может быть описана? Наконец, как доказать, что второй текст (наш «общий смысл» учения ал-Кирма̄нӣ) вытекает из первого (текста ал-Кирма̄нӣ)?
Здесь описана обычная, можно сказать, стандартная ситуация, в которой находится исследователь — или любой читатель — философского текста. Ведь даже «просто читая» текст, никто не старается запомнить его наизусть; это не только сложно, но и бессмысленно:
43
такой текст лежал бы мертвым грузом в нашей памяти. Прочитанное должно быть «усвоено», должно быть как-то переведено в «нашу систему координат», для того, чтобы включиться в наше собственное размышление, чтобы стать участником смыслополагания. Даже если мы читаем не философский текст, а детектив, который будет трудно вспомнить послезавтра, все же завтра мы сможем пересказать его — естественно, не слово в слово, а передав «суть дела». Вот я и спрашиваю, как мы извлекаем «суть дела» из прочитанного текста: как историк философии формулирует «суть учения» изучаемого автора, как любой читатель схватывает «суть прочитанного»? Эта «суть», с одной стороны, имеет отношение к исходному тексту, берет что-то из него; но с другой, она не является простой механической «обработкой» этого текста, она не выполнена по известной технике «рекле» («режу-клею»). Если бы «общий смысл» текста, который изымается из исходного, воспринятого текста любым читателем, получался благодаря применению реклейной техники, он легко воспроизводился бы машинными методами; тогда работа историка философии была бы очень простой, почти механической. Но это не так; «общий смысл», извлекаемый любым читателем из прочитанного текста и составляющий плод профессиональной деятельности историка философии, является именно обобщением; вопрос в том, как осуществляется это обобщение? Как смыслы отдельных высказываний интегрируются в некий «общий смысл» учения?
Вопрос об обобщении, вопрос об общем — самый что ни на есть философский вопрос. Тем удивительнее, что его не ставят, кажется, теоретически, а в любой исследовательской практике он решается только интуитивно, никак иначе, причем этот интуитивный характер не обсуждается. В самом деле, что представляет собой приведение цитат как прием доказательства (иногда говорят: иллюстрации) правильности предлагаемого изложения «общего смысла» учения исследуемого автора? Приведя цитату, ее, бывает, разбирают и поясняют отдельные слова, выражения и даже целые предложения. Тем не менее никогда не бывает показано, как именно читатель должен извлечь из цитаты смысл и почему именно тот, который он, как полагает исследователь, должен извлечь. Почему цитата «подтверждает», «иллюстрирует» изложение «общего смысла» учения обсуждаемого автора, почему она вообще соотносится с этим общим изложением? Чем оправдан этот переход от текста автора к тексту исследователя, где тот мостик, по которому мы проходим от одного к другому?
44
На эти вопросы я никогда не слышал ответа: любое «цитатно-подкрепленное» исследование полагает, что мостик имеется, однако оно не объясняет, откуда этот мостик взялся и как устроен: мы должны или верить в это, или вовсе не задаваться такими вопросами. А ведь цитатно подкреплено любое исследование, скрыто или явно, поскольку не бывает неинтерпретирующих исследований, неважно, в гуманитарных или естественных науках (неинтерпретирующая деятельность была бы божественной, творческой).
Наверное, исключением может быть лишь априорная наука. Когда мы говорим о сетке смысла, объективно и неизбежно задаваемой любой субъект-предикатной конструкцией благодаря равновозможности двух логик (С- и П-логики) ее истолкования, мы говорим именно об априорном. Не имеет никакого значения, понимал ли автор, «что он говорит», или не понимал: эта сетка смысла все равно будет задана объективно. Точно так же сумма углов треугольника будет равна ста восьмидесяти градусам, даже если ребенок, начертивший его с помощью линейки, не знает, что такое «градус», «угол» и «180».
Итак, наша задача — набросать такую сетку смысла для прочитанного отрывка текста ал-Кирма̄нӣ, взятого не как отдельные предложения (для которых, как уже говорилось в начале этого раздела, всегда объективно возможны два прочтения, в С- и П-логиках), а как именно текст, т. е. как целое. Выдвинем следующую гипотезу относительно того, как «общий смысл» текста получается из смыслов отдельных предложений. Ведущую роль в этом играют слова, которым мы придаем терминологический статус. В этом утверждении самом по себе нет ничего необычного. Новое заключается в другом. Во-первых, сама процедура вычленения терминов из текста: откуда мы знаем, какие слова должны быть включены в терминологический список, а какие — нет? Уже здесь мы сталкиваемся с серьезной угрозой «опрокидывания» на изучаемый текст собственной терминологической сетки. Во-вторых, как такой список превращается в собственно текст? Ведь «общий смысл» учения — это не список терминов, это некий — в свою очередь — текст, который исследователь должен написать. И в-третьих, каждый из таких терминов может быть раскрыт как в С-логике, так и в П-логике. Это значит, что «общий смысл» учения должен быть показан a priori как расщепляющийся на два равновозможных прочтения. После выполнения этой объективной составляющей можно приступать к субъективной части исследовательской задачи: установить, какое из двух прочтений предпочтительно и, следовательно, какая из двух логик имеет больше шансов на то, чтобы быть признанной «аутентичной».
45
Начнем по порядку. Из приведенного выше отрывка текста ал-Кирма̄нӣ вычленим следующие центральные термины: причина, следствие, необходимость, существование, утвержденность (в существовании), опора, оность, ничто, ничтойность, сущее. Проблематичным может оказаться включение в список терминов «утвержденность», «опора» и «оность». «Может оказаться» потому, что эти слова не находят очевидного соответствия в терминологическом языке западной традиции — той, которая задает образец терминологического мышления. Нужны специальные усилия (я о них не раз говорил), чтобы «разглядеть» терминологический статус этих слов и отнестись к ним «всерьез». Помимо названных, есть, совершенно очевидно, и другие термины: теплота, движение, двигатель, тело (= телесное порождение), первоэлемент, материя, форма. Их, однако, следует счесть в данном случае второстепенными, поскольку речь идет о раскрытии смысла первой группы терминов, тогда как вторая группа играет тут вспомогательную роль: смысл этих терминов полагается ясным, они — лишь иллюстрация, а не центр внимания. Дальше мы будем иметь дело только с первой группой.
Второй вопрос: как эти термины превратятся в наш, исследовательский текст, излагающий «общий смысл» учения ал-Кирма̄нӣ? Не пытаясь сейчас в деталях вскрыть эту технику (это — совершенно особый вопрос, которому следует посвятить отдельные работы), скажу лишь следующее: мы сможем понять это, если свяжем это с ответом на третий вопрос — как возможна априорная сетка смысла, выстроенная на основе С- и П-логик?
Начнем с С-логики. Она требует понимать причину как причину существования вещи, как то, что составляет ее сущность, дает ей силу бытийствования. Примеры, приведенные в тексте ал-Кирма̄нӣ, вполне подтверждают эту точку зрения. Материя и форма — это то, благодаря соединению чего образуется сущность всего. Здесь схвачено универсальное понимание причинности в аристотелевской парадигме, которую ал-Кирма̄нӣ (вслед за фала̄сифа) принимает. Необходимость — это сам факт образования, формирования сущности вещи: вещь необходима, т. е. вещь обладает существованием, если имеется ее сущность. Вспомнив о четырехчастном аристотелевском понимании причинности (которое ал-Кирма̄нӣ также принимает — об этом свидетельствуют соответствующие параграфы «Успокоения разума»), найдем, что в этом отрывке ал-Кирма̄нӣ сперва упоминает действенную причину (или то, что можно считать действенной причиной) — двигатель, движение; потом — формальную и материальную; целевая, хотя и не
46
упомянута здесь, неоднократно вводится в рассмотрение в других частях «Успокоения разума»: цель возникновения мироздания — явить наибольшее совершенство, дав наиболее пригодные формы всему творению. Бог понимается в этом отрывке как первопричина, т. е. как нечто вроде перводвигателя.
Такое прочтение объективно возможно. Если говорить о субъективной стороне дела, то оно имеет тот недостаток, что не объясняет терминологического статуса терминов «утвержденность» и «оность», а также «снижает» терминологическую силу «необходимости», поскольку фактически растворяет ее в других терминах. Кроме того, оно предполагает «сущность», которая как термин нам не встретилась.
Однако это — именно субъективная сторона дела, поскольку в данном случае (как и всегда) все эти возражения могут быть отклонены, а то, что представлено как факт (игнорирование терминологического статуса и др.), — перетолковано. Мы скажем, если захотим сохранить С-прочтение, что «утвержденность» — обычное слово, это не термин: утвержденность в существовании и означает некую сущностную прочность, упроченность. То же будет сказано о «необходимости». Далее, мы скажем, что «оность» (хувиййа) и есть «сущность» — тем более что термин хувиййа в самом деле использовался, среди прочих, для передачи греческой «усии».
Привлекая расширяющийся контекст (сперва — весь текст «Успокоения разума», далее — контекст арабской философии в целом, а затем — и всей арабо-мусульманской культуры), можно показать, что эти объяснения, сохраняющие С-прочтение, малооправданы и что гораздо предпочтительнее было бы от них отказаться. Однако все дело в том, что, во-первых, и такие контраргументы могут быть перетолкованы — ведь и они, как любые субъект-предикатные конструкции, могут быть прочитаны в обеих логиках, а во-вторых, в крайнем случае у С-интерпретатора всегда остается выход в виде гипотез ad hoc. Поэтому субъективная сторона дела может быть решена не абсолютно, а с той или иной долей вероятности.
Дадим теперь П-прочтение этого же отрывка. П-логика требует видеть причинность как процесс (процесс «причинения» — то, что по-арабски будет названо та‘лӣл), протекающий между инициализирующей стороной, действователем, и стороной принимающей, т. е. претерпевающим. Читая так, увидим, что «передача необходимости» и есть такой процесс, связывающий, если говорить в общем, причину и следствие. А если брать конкретно, то в качестве такой причины-действователя может выступать движение, передающее
47
необходимость теплоте; двигатель, передающий необходимость движению; первоэлементы, передающие необходимость телам; материя и форма, передающая необходимость первоэлементам; небесные тела, передающие необходимость материи и форме. Эта лестница передачи необходимости должна восходить к Богу — к тому первому, что обеспечивает действенность всего. Миропорядок с этой точки зрения — это система действий, система передачи необходимости: именно необходимость, точнее даже «передача-необходимости» (т. е. процесс), — центральный термин, именно он показывает, на чем зиждется устройство мира.
П-прочтение дает стройную интерпретацию всему терминологическому списку, и в этом смысле оно — с субъективной точки зрения — более предпочтительно. Со стороны С-интерпретатора на это всегда можно возразить, что список терминов формируется на основе прочтения, а не наоборот. П-прочтение иначе расставляет акценты: оно начинает не с материи и формы, а с действ[ован]ия — с передачи необходимости (помним, что необходимость была маргинализирована в С-прочтении, тогда как П-прочтение отводит ей центральное место). Правда, кажется несколько искусственным считать материю и форму действователем, а первоэлементы — претерпевающим; однако, если последовательно принять П-парадигму, то эта непривычность вскоре будет преодолена. П-интерпретатор скажет, что в данном случае мы видим, как содержание С-философии (аристотелизм) преобразуется в П-мышлении, как оно подгоняется под априорные требования П-парадигмы.
Пойдем дальше. Возьмем следующий отрывок текста, в котором речь идет о божественных атрибутах. Только что проанализированный отрывок заканчивался утверждением о том, что «ничтойность Бога невозможна». Иначе говоря, Бог должен как-то присутствовать в той картине мира, которую рисует ал-Кирма̄нӣ; и даже не «как-то», а решающим образом, поскольку без него невозможен был бы и весь мир. Но что можно сказать о Боге? — ведь любое высказывание представляет собой субъект-предикатную конструкцию, до предела урезанным случаем которой будут простейшие высказывания, приписывающие Богу какой-либо атрибут, например, высказывание «Бог — сущий».
Мы покажем на примере одного атрибута, как это (приписывание Богу атрибутов. — А. С.) приводит к невозможному, из чего будет следовать тот же вывод для всех остальных атрибутов. Итак, мы скажем: существование — один из атрибутов; утверждение, что оно должно быть приписано Всевышнему как истинный атрибут, приводит с необходимостью к выводу о том, что у Него есть, во-первых,
48
Всевышняя самость (да славится Всевышний Бог!), которая имеет существование как атрибут, а во-вторых, сам сей атрибут, существование, ибо Всевышний — не сей атрибут, а сей атрибут — не Всевышний. Тогда сей атрибут, приписанный Всевышнему, неизбежно должен быть обусловлен и сделан необходимым (мук̣тад̣ӣ-ха̄ ва мӯджибу-ха̄) либо Его самостью (а она превыше того!), либо чем-то иным. Если сама Его самость вызывает и обусловливает сей атрибут, то необходимость и обусловленность (ӣджа̄б ва ик̣тид̣а̄’) его будет связана с утвержденностью этой самости самой по себе, прежде сего атрибута и без него, дабы она могла тогда произвести это действие — вызвать необходимость [атрибута]; а изначальная утвержденность самости означает, что нет ничего ей в том препятствующего и что она не нуждается ни в чем, что как-либо уводило бы ее в сторону от этой утвержденности. Если же самость утверждена без этого атрибута и не нуждается ни в чем, что уводило бы ее в сторону от утвержденности, а существование — атрибут, с которым утвержденность никак не связана, то совершенно ясно, что для самости в этом атрибуте нет нужды (ибо сама она утверждена), а значит, нет и необходимой потребности (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было). А коль скоро она в нем не нуждается и не испытывает в нем необходимости (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было), то и приписывать его Ему как обязательный явно невозможно и не соответствует Его достославности, невозможное же нельзя приписывать Всевышнему.
Это в том случае, если обязательность сего атрибута соотносится с Его самостью, которая утверждена прежде сего атрибута. Если же приписать этот атрибут Всевышнему таким образом, что самость не будет предшествовать ему по утвержденности, но они будут в том равны, то это вызовет потребность в чем-то ином, что сделало самость особой (так что она — не этот атрибут) и атрибут особым (так что он — не эта самость) — ведь самость не свободна от сего атрибута, как было бы, если бы она его делала необходимым, но сей равный с самостью атрибут не вызван ею и не ею сделан необходимым. Тогда получается, что утвержденность самости связана с необходимостью иного; если же необходимо иное, то и о нем придется говорить подобным образом, и так до бесконечности, что явно невозможно.
Итак, если иное, а не Он, вызывает необходимость сего атрибута, то речь пойдет, как мы сказали, до бесконечности, против чего свидетельствует разум, ибо сущее утверждено. И коль скоро необходимость сего атрибута приводит к тому, что мы показали, а сие ложно, и все атрибуты подобным же образом влекут невозможное, то Всевышний, следовательно, свободен от атрибутов (которые суть под дланью Его творения) и вознесен над ними, Он — действователь их (фа̄‘илу-ха̄) и всех вещей [Кирмани 1983. С. 151—153].
49
Составим терминологический список для этого отрывка. В него войдут: атрибут, приписывание атрибута, истинный атрибут, существование, необходимость, вызывать необходимость, самость, утвержденность.
Дадим С-прочтение. Вообще говоря, сделать это будет непросто, поскольку основная мысль ал-Кирма̄нӣ здесь заключается в том, что утвержденность и существование принципиально разведены и что самость Бога может обладать утвержденностью, которая ничего не добавляет к ней (утвержденность и есть самость; это и есть оность, с которой мы встречались в предыдущем отрывке), тогда как существование будет дополнительным атрибутом. Это нарушает привычное понимание термина «существование» в пространстве С-логики. Однако дополнительные гипотезы сделают даже здесь С-прочтение возможным. Например, С-интерпретатор может сказать, что под личиной утвержденности скрывается бытие, тогда как существование понимается как нечто внешнее в отношении сущности, имея в виду ту парадигму разведения сущности и существования, которая использовалась в средневековой западной философии. Такая интерпретация немного хромает, но это можно списать на особенности текста или иные случайные обстоятельства. При большом желании тут даже можно увидеть аналог тождества сущности и бытия в Боге; правда, это потребует перетолкования терминов (придется понимать утвержденность как бытие), но какая интерпретация обходится без этого? Тогда С-прочтение будет означать, что Бог абсолютен, т. е. не может быть описан никаким атрибутом; такой вывод будет вполне комфортен для С-интерпретатора. Последнее предложение, утверждающее, что Бог — «действователь» всех вещей, будет понято в том духе, что Бог — творец всех вещей (а как это согласуется с общим строем системы ал-Кирма̄нӣ — вопрос другой; здесь интерпретатор опять-таки имеет свободу выбора в перетолковании этого высказывания).
Дадим теперь П-прочтение. Мы здесь видим то же самое «вызывание необходимости», с которым встретились в первом отрывке. Атрибут рассматривается не как то, что составляет суть бытия, т. е. самого Бога (так дело должно быть понято при С-прочтении), а — изначально — как нечто парное в отношении самости Бога. Это возможно при П-прочтении (хотя исключается С-прочтением) в том случае, если атрибут понимается как претерпевающее. В самом деле, ал-Кирма̄нӣ ставит вопрос так: что делает атрибут необходимым, — явно используя здесь ту же парадигматику процесса, с которой мы встретились в первом отрывке. Дальнейшее рассуждение отчетливо
50
выстроено в заданной П-логике. Если самость Бога передает необходимость этому атрибуту, значит, она уже является действователем; она уже, до всякого атрибута, способна осуществлять процесс передачи необходимости (она утверждена, говорит ал-Кирма̄нӣ, без этого атрибута и вызывает его необходимость), т. е. играть ту роль первоопоры, о которой ал-Кирма̄нӣ говорил в конце первого процитированного отрывка, — тогда зачем ей атрибут? Он, собственно, и понимается как претерпевающее; как то, что испытывает воздействие Бога, а не обеспечивает это воздействие. Если же атрибут получает необходимость не от самости Бога, а от чего-то иного, то тогда самость, имеющая данный атрибут, имеет его только потому, что имеется некое иное: здесь опять конечное объяснение опирается на П-логику, требующую действователя как конечное обоснование необходимости того, о чем идет речь; таким действователем и выступает «иное», передающее необходимость атрибуту, который приписан самости Бога. Но тогда, во-первых, это «иное» также либо имеет атрибут, либо не имеет его; если не имеет, то оно и должно быть названо Богом, а если имеет, то мы возвращаемся к началу рассуждения. Таким образом, если атрибут понимается как нечто «особое», то он требует действователя для своего объяснения, поскольку является претерпевающим, а таким действователем Бог быть не может.
Отсюда и вытекает невозможность приписать атрибуты Богу — при том, повторю, понимании статуса атрибута (атрибут — результат действия, а не выражение аспекта действователя), которому следует ал-Кирма̄нӣ. Последнее высказывание о том, что Бог — действователь и атрибутов, и всех вещей, подтверждает это: атрибуты — предмет его воздействия, он — действователь, они — претерпевающее, а значит, они противоположны ему согласно парадигме фа̄‘ил-маф‘ӯл (действователь-претерпевающее), они никак не могут быть ему «приписаны». В этом смысл последнего предложения при П-прочтении: здесь все встает на свои места и не требует натянутых допущений.
Так обе логики оказываются возможны (моя гипотеза состоит в том, что они всегда возможны, поскольку таковы закономерности смыслополагания), хотя для того, чтобы быть примененными к тексту, они требуют допущений разной степени искусственности. И тем не менее, поскольку исследователь выстраивает «общий смысл» учения, он всегда волен такие допущения ввести.
Однако чем больше пространство текста, который подвергается прочтению в С- и П-логиках, тем большим массивом данных мы обладаем, чтобы сделать выбор в пользу одной из них как более ве
51
роятной. Объективно всегда возможны обе, хотя для самого автора, субъективно, должна была по меньшей мере преобладать только одна (трудно предположить, что он постоянно меняет исходные условия рассуждения, перемещаясь между С- и П-перспективами, хотя чисто теоретически такое невероятное допущение возможно), если не быть исключительной. В том, что касается ал-Кирма̄нӣ, мне представляется, что ведущей для него в целом является С-логика, хотя рассуждения в рассмотренных двух отрывках явно предпочтительнее рассматривать как выполненные в П-ключе. Является ли это в данном конкретном случае следствием общего влияния П-логики, преобладающей в системе арабо-мусульманской культуры, или вызвано другими факторами — решить сейчас невозможно.
Влияние С-логики и ее комфортность для построений ал-Кирма̄нӣ явно заметны в его описании Первого разума как единой самости, наделенной атрибутами совершенства (см. [Кирмани 1995. С. 95—98]). Вместе с тем в понимании мироздания как движения между двумя Пределами, Первым разумом и Вторым пределом (которому предстоит возникнуть и который завершит историю мира), можно видеть влияние П-логики на аристотелевскую схематику потенциального-
актуального, которая переосмыслена в терминологии первого-второго пределов (это переосмысление выражается в том, что здесь начальное и конечное выражены не как состояния одной и той же субстанции, находящейся в становлении и движении к совершенству, а как две независимые субстанции, между которыми и «пролегает» процесс).
Так можно читать текст ал-Кирма̄нӣ почти без конца — и, конечно, не только его текст, поскольку предложенная методология прочтения в С- и П-логиках, думаю, универсальна. Особенно интересно сравнивать словесно совпадающие или почти совпадающие формулировки у разных авторов, например, у ал-Кирма̄нӣ и Ибн ‘Арабӣ, фигурирующие в контексте одних и тех же проблем (например, божественных атрибутов), но используемые в обосновании очень разных, часто диаметрально противоположных выводов. Сама по себе такая ситуация не должна вызывать никакого удивления с точки зрения нашей методологии. Словесная формулировка всегда может быть понята в С-логике и П-логике, причем сама по себе эта формулировка не содержит ничего, что отдавало бы предпочтение одной из логик над другой. Положения, о которых идет речь (например, о том, что единое по самости может быть множественным по сопряженностям), часто восходят к античности, однако, попадая в среду мысли, сформированную на основе С- и П-логик, приобретают, естественно,
52
совершенно разный смысл. Это различие всегда может быть просчитано и показано как объективное — вот основная идея данной работы. И оно всегда должно быть показано: нельзя полагать, что словесная формулировка может быть истолкована в каком-то одном смысле, и не рассматривать ее толкование в альтернативной логике. Сама по себе словесная формулировка не говорит ничего — она говорит только при ее прочтении в С- или П-логике, и не видеть возможности такого выбора (а значит, и расщепления смысла словесной формулировки) значит подставить ту логику, которой сам исследователь пользуется «по умолчанию», как якобы единственно возможную там, где всегда имеется вариативность.
Литература
Азхари — ал-Азхарӣ. Тахз̱ӣб ал-луг̣а. Байрӯт: Да̄р их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, 2001.
Дарими — ад-Да̄римӣ. Нак̣д̣ ал-’има̄м ‘Ус̱ма̄н б. Са‘ӣд ад-Да̄римӣ ‘ала̄ ал-Марӣсӣ ал-джахмийй ал-‘анӣд. Ас-Са‘ӯдиййа: Мактабат ар-рушд, 1998.
Ибн Манзур — Ибн Манз̣ӯр. Лиса̄н ал-‘араб. Байрӯт: Да̄р с̣а̄дир, б. г.
Ибн Таймиййа — Ибн Таймиййа. Кутуб ва раса̄’ил ва фата̄вӣ шайх̱ ал-исла̄м Ибн Таймиййа. Мактабат Ибн Таймиййа. 2-е изд. Б. м., б. г.
Кирмани 1983 — ал-Кирма̄нӣ, Х̣амӣд ад-Дӣн. Ра̄х̣ат ал-‘ак̣л. Байрӯт: Да̄р ал-Андалус, 1983.
Кирмани 1995 — аль-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума (Рахат аль- акль) / Пер. с араб., введ. и коммент. А. В. Смирнова. М.: Ладомир, 1995.
Смирнов 2014а — Смирнов А. В. Шкатулка скупца, или почему мы верим в законы логики // Ибн Араби. Избранное. Т. 2 / Пер. с араб., вводн. статья и коммент. А. В. Смирнова. М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2014. С. 9—73.
Смирнов 2014б — Смирнов А. В. Сознание как смыслополагание. Культура и мышление // Россия в архитектуре глобального мира: цивилизационное измерение. М.: Языки славянской культуры, 2014, С. 167—237.
Таханави — ат-Таха̄навӣ. Кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. Т. 1—2. Стамбул: Да̄р кахрама̄н, 1984 (репринт калькутского изд. 1862 г.).
Шавкани — аш-Шавка̄нӣ. Фатх̣ ал-к̣адӣр. Т. 3. Байрӯт: Да̄р ал-фикр, б. г.
Blachere — Blachere R. Al-Azharī // Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.
Sellheim — Sellheim R. Al-Layth b. al-Muẓaffar // Encyclopaedia of Islam CD- ROM Edition v. 1.0. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.
 |
3.2 Об иерархической парадигме соотношения части и целого в искусстве музыки[1]* (Г. Б. Шамилли) |

|
53
Прежде чем приступить к изложению темы, мне бы хотелось зафиксировать внимание читателя на двух вещах.
Первая касается употребления понятий «музыкальный язык» и «музыкальная речь» не в метафорическом, а в терминологическом смысле. Как и любая другая информационная система, искусство музыки оперирует элементами языка и реализуется в музыкальной речи. Под музыкальным языком понимается единство двух грамматик — звуковысотной, как набора различных единиц (например, таких как тон, интервал, тетрахорд, пентахорд, октавный звукоряд и т. д.1), и метроритмической. Соответственно, под музыкальной речью понимается звуковая последовательность, которая разворачивается в реальном физическом времени и несет в себе тот или иной постигаемый смысл.
В связи со сказанным выше две парадигмы части и целого будут рассматриваться исключительно в плоскости музыкального языка, а не музыкальной речи, что провоцирует вопрос — почему предпочтение отдается первому из них?
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
1 Широкой читательской аудитории, не знакомой с музыкальной грамотой, набор языковых единиц легче всего представить в упрощенной схеме на клавиатуре фортепиано. Например, структурной единицей музыкального языка может быть октавный звукоряд в диапазоне от любого звука до повторяющегося через семь ступеней, например, от c 1 (до-первой октавы) до звука c 2 (до-второй октавы). В традиционной европейской нотации такой звукоряд изображается слева направо и каждая последующая его ступень по звуковысотности выше предыдущей. Далее, единицей языка может быть звукоряд из пяти ступеней (пентахорд) от c 1 (до-первой октавы) до g 1 (соль-первой октавы); из четырех ступеней (тетрахорд) от c 1 (до-первой октавы) до f 1 (фа-первой октавы); интервал как отношение двух ступеней звукоряда любого объема, например, от c 1 ( до-первой октавы) до d 1 (ре-первой октавы). Наконец, звук, измеряемый одной ступенью звукоряда, например, тот же самый звук c 1 (до-первой октавы).
54
В отличие от вербального языка и других информационных систем, музыкальный язык оперирует не знаками, а не имеющими знакового характера единицами[1], которые актуализируются в музыкальной речи[2]. Отсюда, думается, проистекает жесткая зависимость музыкально-речевого процесса или действия от изначально заданной системы языковых единиц и такого отношения части и целого, которое имплицитно в ней заложено. Мысль о двух парадигмах отношения части и целого высказывается здесь впервые, и поэтому ее можно рассмотреть как развернутый тезис, согласно которому это отношение:
(1) может быть иерархическим и неиерархическим;
(2) имплицитно заложено в звуковысотной грамматике музы-
кального языка;
[1] Эта мысль принадлежит известному французскому лингвисту Эмилю Бенвенисту (1902—1976) и утверждается на страницах статьи М. Г. Арановского «Музыка и мышление» (см. Арановский М. Г. Музыка и мышление // Музыка как форма интеллектуальной деятельности. М., 2007. С. 23). Э. Бенвенист, в отличие от Арановского, не различал понятия музыкального языка и музыкальной речи, практически характеризуя музыкальный язык через свойства музыкально-речевой деятельности, то есть описывая его как нечто, состоящее из «комбинаций и последовательностей различным образом соединенных звуков» (с. 81). Тем не менее одно из основных положений его теории представляется абсолютно точным. Он говорит: «…у речи и у музыки есть сходство: производство звуков и факт воздействия на слух, но это сходство не может перевесить различий в природе единиц этих систем и различий в типах их функционирования… В музыке нет единиц, непосредственно сопоставимых со “знаками” языка… элементарная единица, звук, не является знаком; каждый звук определяется только своим положением на шкале высот, и ни один из них не обладает функцией означивания. Это типичный пример единиц, которые не являются знаками, не служат для обозначения, а представляют собой лишь ступени внутри произвольно установленного диапазона на некоторой шкале. Здесь мы обнаруживаем принцип разграничения: системы, в которых можно выделить единицы, распадаются на две группы — системы с означивающими единицами и системы с единицами не означивающими (разрядка моя. — Г. Ш.). В первую группу попадает язык, во вторую — музыка» — см. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 78, 81.
[2] В этом смысле музыкальная речь смыкается с понятием музыкального текста под которым мы понимаем «звуковую последовательность, которая интерпретируется субъектом как относящаяся к музыке, представляет собой структуру, построенную по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального языка, и несет тот или иной интуитивно постигаемый смысл» — см. М. Г. Арановский. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998. С. 35.
55
(3) актуализируется в музыкальной речи, представляющей со-
бой разворачивание звуковой последовательности в реаль-
ном физическом времени;
(4) обусловливает логику музыкальной композиции в ее самом
обобщенном виде;
(5) формирует дление, без которого невозможно представить
временнóе искусство музыки;
(6) осуществляется через два типа деривации — процесс (не-
иерархическое отношение части и целого) и действие
(иерархическое отношение части и целого).
Таким образом, соотношение части и целого в искусстве музыки в первую очередь является проблемой музыкального языка и только потом — проблемой моделирования музыкальной речи, что в конечном итоге обусловливает необходимость рассмотрения именно языкового слоя музыкального текста.
Во-вторых, необходимо строго отличать «процесс» как тип деривации музыкальной речи от «процессуальности» как звуковой последовательности, разворачивающейся в реальном физическом времени, и сущностной характеристики музыки как временнóго искусства. Сегодня эти термины используются как взаимозаменяемые, или синонимичные друг другу. Напомню, что понятие процесса утвердилось в русской теории музыки благодаря концепции ак. Б. В. Асафьева (1884—1949), известной по многократно изданному труду «Музыкальная форма как процесс»[1]. Б. В. Асафьев понимал музыкальную форму как процесс о-своения времени, связанный с тремя фазами ininium — movere — terminus, или начального толчка, движения и границы. Эта идея была подготовлена научным опытом Э. Курта (1886—1946) и Б. Л. Яворского (1877—1942). Она стала новым словом в советском музыкознании, хотя для западноевропейской культуры не была таковой, ибо начиная с Гераклита из Эфеса (530—470 до н. э.) последняя понимала пространство как вместилище вещи, связывая процесс со временем, а истинность вещи с ее вневременным состоянием[2]. Б. Асафьев писал:
Два основных явления помогают постигнуть свойства процесса музыкального формования: 1) музыкальное движение (последование звуков друг за другом как взаимоотношение высотностей),
[1]Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
[2]Смирнов А. В. Как различаются культуры // Философский журнал. № 1 (2). 2009. М.: ИФ РАН, 2009. С. 70.
56
2) условия запоминания музыки или средства, какие выработало наше сознание для удержания протекающих созвучий. Временнáя природа музыки, ее текучесть, и — с другой [стороны] — вызванные этим особого рода способы запоминания неизбежно влияют на формы, в которых фиксируется музыкальное движение. Законы его, обусловленные самим звучащим материалом, не поддаются пока точному определению. Но, наблюдая за постоянно и повсюду во всякой музыке проявляющимися сходными явлениями в образовании музыкальной ткани, можно установить их закономерность через их же повторяемость. Изучение функций этих повторяемых явлений позволяет приблизиться к установке полезных рабочих гипотез и с их помощью систематизировать и приводить к единству многообразнейшие факты музыкального оформления[1].
М. Г. Арановский, исходя из этой парадигмы и возражая основным положениям теории А. Бергсона (1859—1941) относительно восприятия звука, высказанным предположительно в «Опыте о непосредственных данных сознания»[2], настаивает на том, что «процессуальность в музыке — не просто дление (А. Бергсон): она организована; любой процесс есть действие…»[3]. По Арановскому, процесс (= процессуальность) всегда является действием, выраженным через «приемы суммирования или дробления, дополнения и обобщения», а приемы представляют собой «не только структуры, но и определенные внутритематические сюжеты»[4]. Другими словами, действие, выраженное через суммирование, дробление и т. д. приводит к внутритематическим сюжетам как событиям, формирующим собственно художественное, или музыкальное время.
Между тем необходимо добавить, что течение событий в каждом отдельно взятом музыкальном произведении индивидуально, а принципы их организации в классической западноевропейской и ближне-, средневосточной (исламской) музыке не сводятся к одним и тем же логическим интуициям, что требует отдельного пристального внимания и изучения. Сегодня исследовано и обнародовано совершенно иное понимание процесса в классической арабо-мусульманской
[1]Асафьев Б .В. Музыкальная форма как процесс. С. 29.
[2]Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. СПб., 1888. С. 89—90.
[3]Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998. С. 90.
[4] Там же. С. 89.
57
философии (VII—XV вв.)[1], что в конечном итоге восходит к двум архитектоникам сознания — субстанциальной и процессуальной — обоснованных в логико-смысловой теории (А. В. Смирнов) в связи с положением о различной организации границ, в пределах которых формируется осмысленность.
Задать границу и расположить ограниченное можно по меньшей мере двумя принципиально различными способами. Граница может задавать предел, охватывая ограничиваемое и замыкая его внутри себя… Аристотелевское определение границы фиксирует именно это понимание… Другой способ задать границу не опирается на идею линейного очерчивания внешнего, опоясывающего предела... Здесь граница задается как возможность протекания, и эта возможность определяет и протекание, и обе его стороны, исходную и результирующую, отличные от самого протекания (разрядка моя. — Г. Ш.)[2].
Нет необходимости углубляться в тот очевидный факт, что музыка не является исключением из ряда информационных систем: она доносит до нас тот или иной постигаемый смысл не только благодаря вербальному тексту, на который распевается мелодия, но и одному из двух способов организации звукового пространства, имплицитно заложенных еще на уровне грамматик музыкального языка[3]. Именно грамматики являются средним звеном между архитектоникой сознания и музыкальной речью, обусловливая характер протекания границ музыкальной речи, то есть формируя границу как замкнутую, «опоясывающую» (термин А. В. Смирнова), либо как разомкнутую[4].
[1] История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А. В. Смирнова. М., 2013.
[2]Смирнов А. В. Как различаются культуры? // Философский журнал. № 1 (2). 2009. С. 61—72; об этом так же — см. Смирнов А. В. Смыслополагание и инаковость культур // Россия и мусульманский мир. М., 2010. С. 15—115.
[3] Здесь нужно уточнить то положение, что если речь идет о музыкальном языке, та или иная парадигма соотношения части и целого в организации языковых единиц становится мощным фактором смыслопорождения; если же говорить непосредственно о музыкальной речи, то к факторам смыслопорождения необходимо добавляются такие свойства речи, как тембр, артикуляция, темп, динамика и т. д., без которых невозможно представить искусство музыки.
[4] Термин «разомкнутая граница» представляется мне на данный момент единственно возможным противоположением к термину «опоясывающая граница».
58
Таким образом, выделяя два типа деривации музыкальной речи — «процесс» и «действие», я противопоставляю их друг другу как то, что сжимает физическое время в событие (процесс), как бы останавливая его, и, напротив, дробит время на множество стремительно сменяющих друг друга событий (действие). По той причине, что каждый из этих типов требует отдельного рассмотрения как на языковом, так и речевом уровне, в настоящей работе вниманию читателя на примере организации грамматик музыкального языка будет представлен только первый из них, основанный, по моему убеждению, на иерархической парадигме соотношения части и целого.
Наконец, объектом рассмотрения будет музыкально-теоретическая мысль классической арабо-мусульманской культуры (VII—XV вв.), изначально не являвшейся гомогенным феноменом. Ее анализ предполагает выход за рамки данной культурной общности и необходимость подробного освещения основополагающих положений античной теории музыки. При этом мне хотелось бы заранее предупредить читателя, что факторы «сходства» разных теорий, например, античной и арабо-мусульманской, ни в коем случае нельзя трактовать как результат «заимствования» или «влияния» одной культуры на другую, что всегда носит поверхностный характер и не обусловливает смыслополагание какой-либо культуры[1]. Поэтому здесь рассматривается не содержательная сторона теории музыки, схожие тематические области, термины и т. д., что при желании всегда можно объяснить посредством теории «заимствования», а принципы, организующие теоретическое мышление и практику музыкального искусства. Эти принципы обнаруживают удивительное согласие между теорией и практикой, потому что они восходят к определенным архитектоникам сознания (субстанциальной и процессуальной), существующим параллельно друг другу — вот почему исторические факты свидетельствуют о том, что в соседних городах одной и той же исторической области классической арабо-мусульманской культуры на одном промежутке времени создавались теоретические труды, точно так же, как и бытовала музыка, принадлежавшая к совершенно разным типам музыкального
[1] Точно так же заимствованные тем или иным языком иностранные слова не обусловливают синтактику вербальной речи — последовательность слов, правила организации субъектно-предикатных связок и т. д.
59
мышления[1]. Что же касается иерархической парадигмы соотношения части и целого, то она не связана исключительно с греко-византийским миром или классическим исламом, о которых речь пойдет ниже. Ее действие много шире и может быть обнаружено в разных музыкальных феноменах Запада и Востока.
Таким образом, возвращаясь к начальному положению о связи музыкального языка и музыкальной речи, я перехожу к изложению темы, рассматривая область языка как нечто, готовящееся стать музыкой, и предлагаю самую общую схему рассуждения на эту тему.
Иерархическая парадигма
Одну из двух вышеназванных парадигм соотношения части и целого в организации звукового пространства можно назвать иерархической на том основании, что она обнаруживает родо-видовую логику упорядочивания вещей. В этом случае родовая структура как целое становится, если говорить словами Аристотеля, во-первых, тем, «у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется целым от природы», а во-вторых, тем, «что так объемлет объемлемые им вещи, что последние образуют нечто одно »[2].
Анализ иерархической парадигмы, выявленной на самом разном звуковом материале, показал, что части, сколько бы их ни было:
во-первых, всегда меньше целого, и отсюда проистекает иерархический характер отношения «часть — целое»;
во-вторых, сохраняют свою автономию внутри целого, благодаря разъединенному и соединенному способам связи, которые обусловливают ее взаимно-дополнительный, то есть комплементарный характер;
в-третьих, части образуют контрарные недихотомические противоположения по типу «верх — низ», «легкость — тяжесть» и т. д.;
в-четвертых, будучи «производными» от целого, части при выводе из него не меняют своей структуры, так же как и це
[1] Об этом подробно см. Шамилли Г. Б. Философия музыки исламского мира: классическая теория (IX—XV вв.) и современная практика [М.: Языки славянской культуры; подготавливается к изданию].
[2]Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., С. 174—175.
60
лое в случае приумножения или уменьшения числа частей не перестает оставаться «суммой своих частей», а их может быть две, три, десять и т. д.
Иерархическое соотношение части и целого в теории музыки впервые обосновал Клавдий Птолемей (ок. 100—175) в «Гармонике», позднее откомментированной Порфирием (232—301/305)[1].
Клавдий Птолемей
Известно, что центральным понятием теории музыки Птолемея была «полная система» (σύστημα τέλειου)[2], или базовый звукоряд, охватывающий четыре тетрахорда, два разделительных тона и в общей сложности пятнадцать звуков от просламбаномен до нета высших[3]. Другими словами, данная система представляла двухоктавный звукоряд, «включающий в себя постоянные и подвижные звуки тетрахордов»[4]. Ниже мы имеем возможность увидеть, каким образом устроена полная совершенная система (см. рис. 1) с той оговоркой, что представленный рисунок переведен из горизонтального положения в вертикальное и выполнен на основе немецкого издания Дьюринга[5], в котором «верхний звук А изображен крайним слева, а нижний О — крайним справа»[6].
Очевидно, до нас дошел оригинальный вариант изображения, пусть с несущественными изменениями, что не мешает понять характер соотношения части и целого. Мы видим, что родовой структурой, или целым, является полная система, каждый звук которой приравнивается к струне[7] и соответствует определенному буквенному знаку.
[1] Ниже по тексту рисунки, представляющие теорию Птолемея приведены по изданию — см. Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах. Порфирий. Комментарий к «Гармонике» Птолемея / Изд. подгот. В. Г. Цыпин. М., 2013, далее — Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах.
[2] В переводе Е. В. Герцмана — «совершенная система» — см. Е. В. Герцман. Античное музыкальное мышление. Л., 1986. С. 29, далее — Е. В. Герцман. Античное музыкальное мышление.
[3] Полную систему также называли «неизменной» (άμετάβολου) на том основании, что она представляла звукоряд конкретного лада.
[4] Там же. С. 415.
[5]Düring I. Ptolemaios und Porphyrios über die Musik. Göteborg: Elanders Boktryckreri Aktiebolag, 1934.
[6]Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах. С. 204.
[7] В данном случае речь идет о пятнадцатиструнном каноне (κανών πεντεκαιδεκάχοϱδος).
61
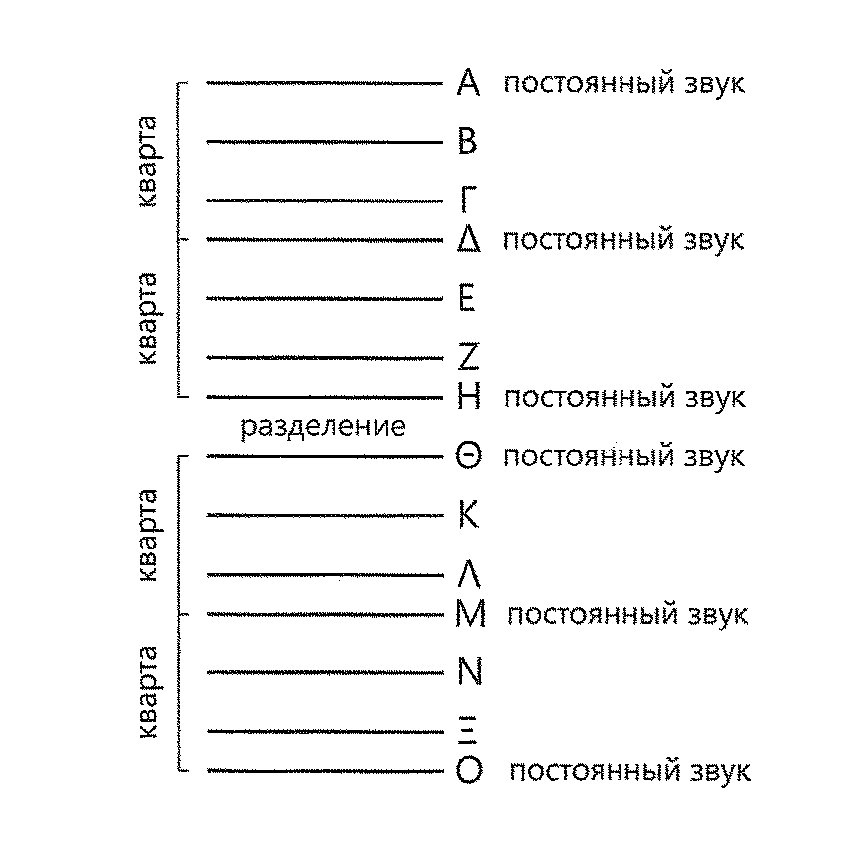
в полной системе Птолемея |
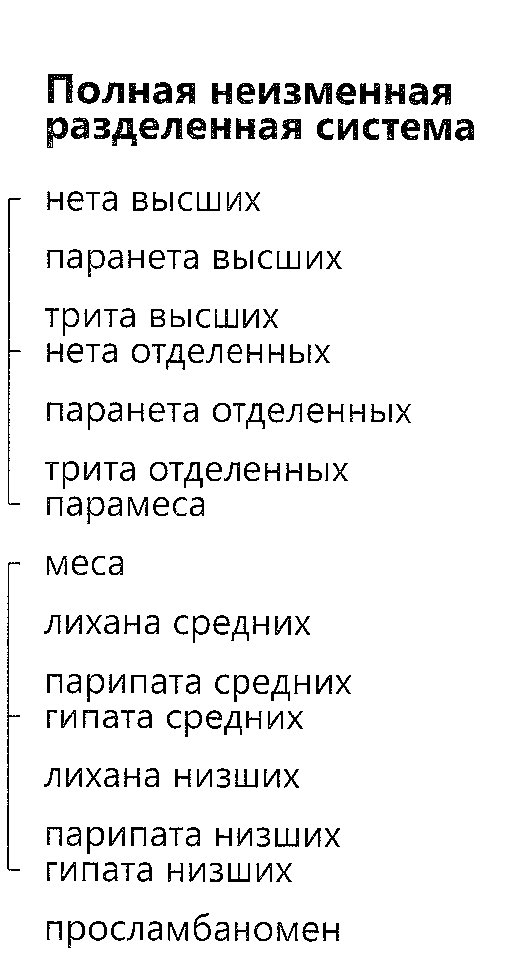
|
Кроме того он имеет собственное название по функции (см. рис. 2). Из полной системы извлекаются единицы, основной из которых является тетрахорд (τετράχορδον), дословно «четыре струны»[1]. Тетрахорд, или тетрахордный род, согласно иерархической парадигме в свою очередь становится родовой структурой для низших единиц на иерархической лестнице, в частности, для интервала (διάστημα)[2]. Таким образом, части всегда предстают как нечто меньшее относительно целого.
Постоянные звуки маркируют границы четырех тетрахордов в интервале кварты. Сами тетрахорды различаются по противоположениям, например, тетрахорд низших (τών ύπάτων), средних (τών μέσων), отделенных (τών διεζευγμένων) и высших (τών ύπεϱβολαίων). В зависимости от способа их связи и положения разделительных тонов вся система определяется как полная неизменная разделенная (см. рис. 2), или соединенная система (см. рис. 6).
[1] В. Г. Цыпин переводит как «четырехструние» — см. Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах. С. 427. Цыпин разъясняет тетрахорд как «фрагмент (раздел, часть) полной системы в объеме кварты, ограниченной звуками, остающимися неизменными при смене родов мелоса» — там же.
[2] Отношение двух звуков, соответствующее отношению двух чисел. Например, звуки в интервале октавы соответствует выражению 1:2, квинта — отношению 2:3, кварта — 3:4, тон — 8:9 и т. д.
62
Порфирий, комментируя Птолемея говорит:
В этой двухоктавной неизменной системе, сложенной из четырех тетрахордов и двух разделительных тонов, нижнего и верхнего, постоянных звуков оказывается семь: просламбаномен, гипата низших, гипата средних, меса, парамеса, нета отделенных и нета высших, которая, как он говорит, в некотором смысле тождественна просламбаномену, потому что она всегда остается неподвижной и постоянной, как и просламбаномен. Остальные же звуки, когда функции приводятся к иному положению, уже не соответствуют прежним местам. Отсюда же он выводит и виды октавы…[1]
Рис. 3. Семь видов октав. (Схема В. Г. Цыпина)
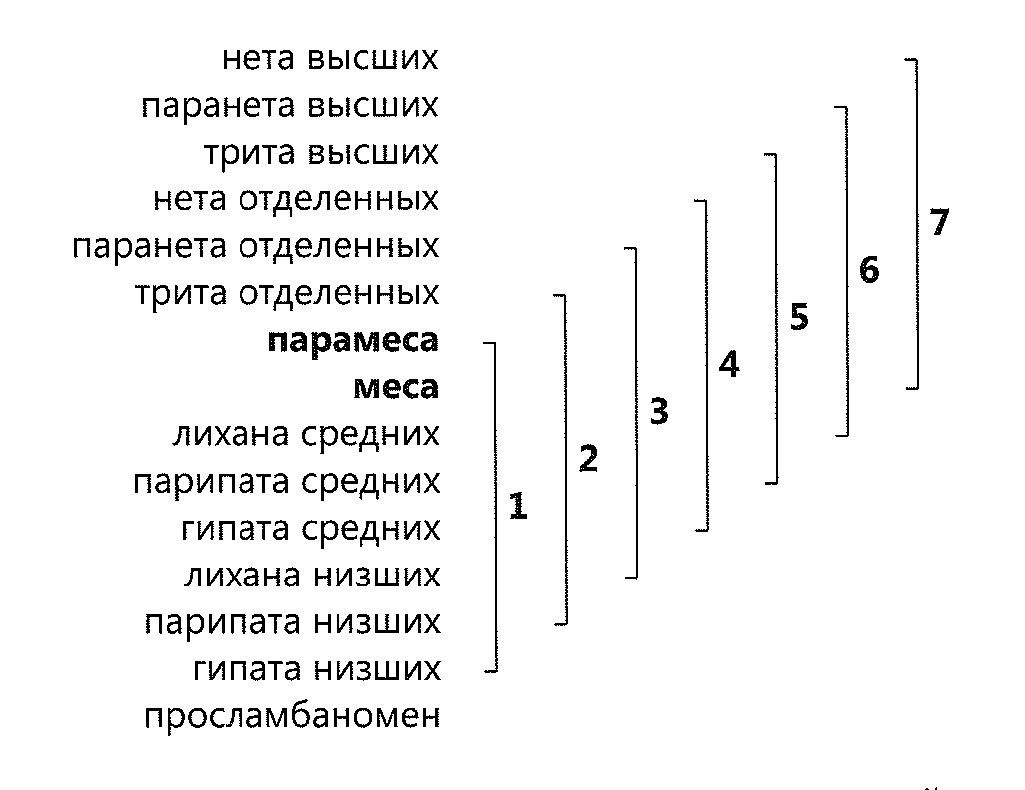 Виды октав (τό διά παϭών)[2] изображены на следующей схеме (см. рис. 3). Они охватывают два тетрахорда и разделительный тон, расположение которого возможно как внизу, так и в середине и верхней части звукоряда.
Виды октав (τό διά παϭών)[2] изображены на следующей схеме (см. рис. 3). Они охватывают два тетрахорда и разделительный тон, расположение которого возможно как внизу, так и в середине и верхней части звукоряда.
В зависимости от того, где находится разделительный тон, формируется октавный лад (τόνος)[3], имеющий собственное название[4]. Другими словами, каждый из семи видов октавы, соответствующий определенному положению полной системы, является ладом и становится основанием для мелодии (см. рис. 4)[5].
Обратим внимание, что извлечение октавных звукорядов из полной системы никак не связано с ее трансформацией, точно так же, как и изъятие неповторяющихся видов кварты (см. рис. 5) и квинты (см. рис. 6) не связано с изменениями в структуре целого.
[1]Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах. С. 214.
[2] Буквально «через все» — там же, с. 420.
[3] Буквально «натяжение», «напряжение».
[4] В общей сложности их семь: миксолидийский, лидийский, фригийский, дорийский, гиполидийский, гиподорийский и гипофригийский.
[5] На рис. 4 следует различать названия звуков (= струн) по функции (в левом столбце) и по положению, что видно по нисходящему движению разделительного тона, образующегося между парамесой и месой.
63
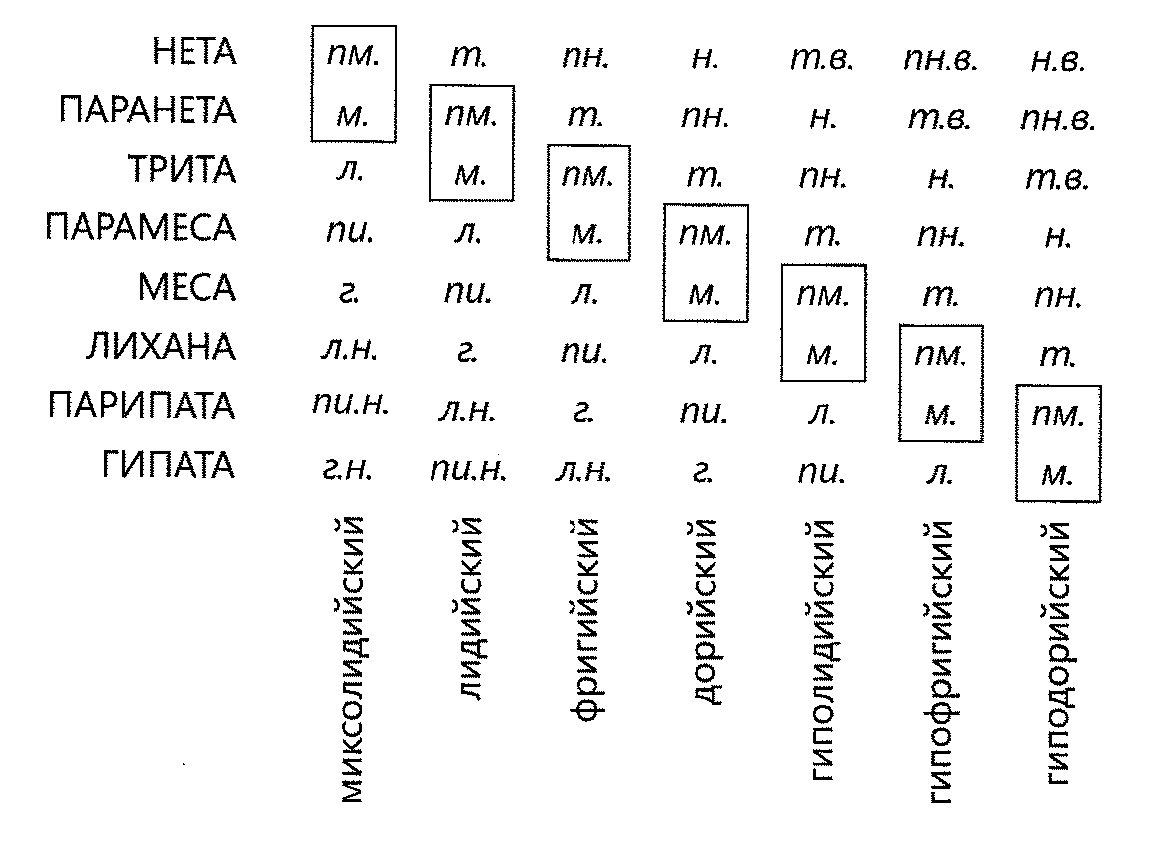 Точно так же и каждая единица в иерархически организованной структуре сохраняет свою автономность внутри целого, благодаря разъединенному и соединенному способам связи, что особенно примечательно, когда осуществляется переход, или метабола (μεταβολή)[1], из одного лада в другой.
Точно так же и каждая единица в иерархически организованной структуре сохраняет свою автономность внутри целого, благодаря разъединенному и соединенному способам связи, что особенно примечательно, когда осуществляется переход, или метабола (μεταβολή)[1], из одного лада в другой.
Рис. 4. Древнегреческие лады. (Схема В. Г. Цыпина)

вида кварты. (Схема В. Г. Цыпина) |
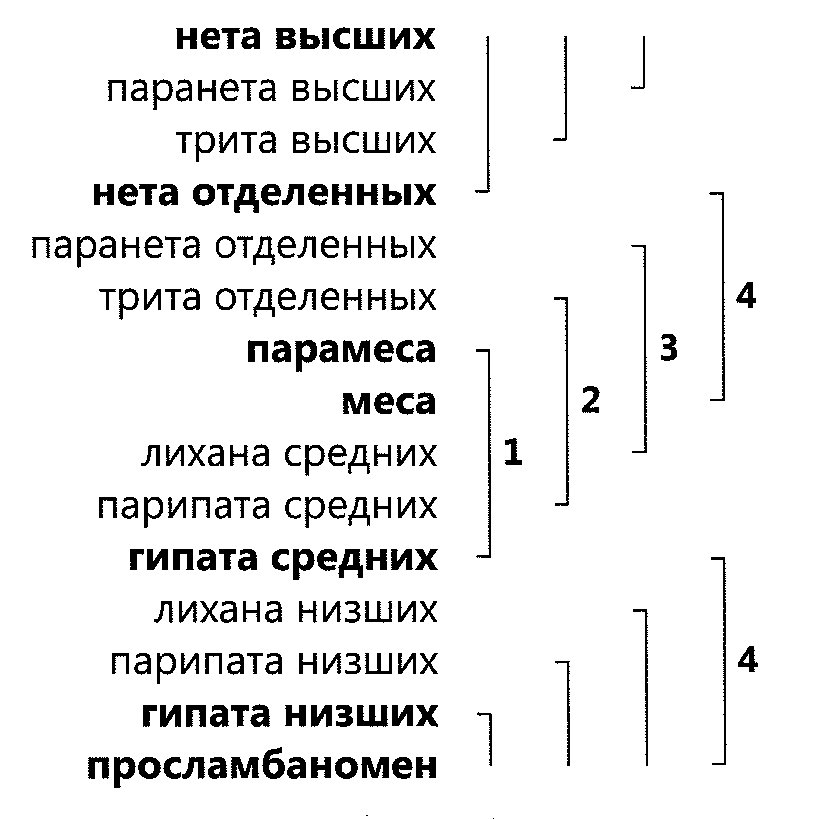 Рис. 6. Четыре неповторяющихся вида квинты. Схема В. Г. Цыпина) |
Здесь мы подошли к самому любопытному фрагменту теории Птолемея — тому, как осуществляется метабола. Она бывает двух видов, и первая из них — метабола по роду — происходит в пределах полной неизменной системы (см. рис. 1), потому что благодаря подвижным звукам, расположенным между постоянными, одни тетрахорды можно настроить в энармонике, а другие — в хроматике или диатонике[2]. Оставаясь в пределах целого, части в таком случае
[1] Буквально, «смена», «поворот».
[2] Энармоника, хроматика и диатоника — виды тетрахордного рода в пределах кварты, отличающиеся друг от друга интервальным составом. Например, энармоника выражается числовыми пропорциями — 4:5 23:24 45:46, хроматика мягкая — 5:6 14:15 27:28, напряженная — 6:7 11:12 21:22, диатоника мягкая — 7:8 9:10 20:21, мягко-напряженная — 8:9 7:8 27:28, напряженная — 9:10 8:9 15:16. Особенностью энармонического и хроматического родов является т. н. «пикнон», когда два взятых вместе отношения меньше, чем одно третье (23:24 и 45:46 меньше, чем 4:5); напротив, особенностью диатонического — «апикнон», когда ни одно из трех отношений не больше вместе взятых двух других (7:8 больше, чем соединение 9:10 и 20:21 и т. д.).
64
принимают различный облик, так сказать, наполняются различным «содержанием» именно благодаря изменяющимся элементам системы.
Совершенно иная ситуация возникает при втором виде метаболы — при переходе «по ладу», или из одного лада в другой, когда сохранение неизменной разделенной системы (см. рис. 2) становится невозможным и целое неизбежно разрушается. Любопытно, как античное теоретическое мышление решило эту проблему? Выход был найден через конструктивное понятие соединенной системы (σύστημα συνημμένον), которая должна была выполнять функцию целого для объединяемых пар ладов, например, дорийского и миксолидийского (см. рис. 6б) и т. д.
|
а |
б |
 |
 |
Рис. 6а, б. Соединенная система.
(Схемы В. Г. Цыпина)
65
Другими словами, необходимость сохранения иерархической парадигмы как гаранта гармонии и порядка в мире звуков становится самой главной задачей и главным мотивом для появления теоретических концептов. На практике она решается переходом при наличии одного общего звука между соединяемыми ладами и значительно облегчается при наличии нескольких звуков, способствующих переходу между частями единого целого — соединенной системы[1].
Теория Птолемея завораживает своей простотой и стройностью. Обоснованная им грамматика музыкального языка станет не только достоянием греко-византийского мира, но и мусульманского, а краеугольные положения его взгляда на организацию звукового пространства будут повторяться в самых разных вариантах на уровне усвоенного научного метода обращения со звуковыми реалиями.
Таким образом, четыре вышеназванных принципа соотношения части и целого можно проследить на материале самых разных звуковысотных грамматик, одна из которых принадлежит Боэцию (ок. 480 — ок. 525).
Боэций
Римский философ, государственный деятель и христианский богослов[2] — Боэций, чьей целью было приведение к единству древнегреческой философии Платона, Аристотеля и неоплатоников,
[1] В. Г. Цыпин так разъясняет этот вид метаболы: «…мелодия, поднимаясь по звукам, к примеру, дорийского лада, доходит до его месы (разделительного тона. — Г. Ш.), после чего идет на парамесу и, далее, не на тетрахорд отделенных, а на тетрахорд средних другого — миксолидийского — лада. Его гипата средних подменяет собой дорийскую парамесу, перипата средних — триту отделенных и т. д., т. е. мелодия спускается ровно на тон, а все ожидаемые квинтовые отношения с тетрахордом средних дорийского лада заменяются на квартовые. В результате слух сталкивается со звукорядной аномалией и, испытав замешательство, постепенно адаптируется к условиям нового лада» — Клавдий Птолемей: Гармоника в трех книгах. С. 419.
[2] Аниций Манлий Торкват Северин Боэций происходил из знатного римского рода Анициев, рано осиротел и был усыновлен Квинтом Симмахом (в разное время консул, глава сената и префект Рима); учился предположительно в одном из трех городов (Александрия, Рим, Равенна), женился на дочери Симмаха, сделав блестящую карьеру (принцепс римского сената, первый министр королевства при Теодорихе ); предположительно в 523/524 гг. обвинен в государственной измене и приговорен к смерти — Боэций // Новая философская энциклопедия // URL: http://iph.ras.ru/elib/0470.html//20.10.2013.
66
а в функции богослова — перенесение на латинскую почву тонких различений «греческого богословия (никейского и халкидонского) в учениях о Троице и об ипостаси и природах Христа»[1], известен также как автор Institutio musica «Основ музыки»[2]. Принципиальная для христианской культуры дихотомическая соотнесенность светского и религиозного знаний, их комплементарность обусловила тот факт, что античная музыкальная мысль в обобщении Боэция осталась прежней; в его опусе не обсуждается иная — христианская картина мира, которая могла бы повлиять на основные положения древнегреческой теории, или изменить язык описания о музыкальной грамматики в ее частностях. Исследователи «Основ»[3] Боэция, объявляя его компилятором[4], в один голос утверждают, что Птолемей, Никомах из Герасы (1-я пол. 2 в. н. э.)[5], Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), Архит (ок. 435 — после 360 до н. э.), Платон (427—347 до н. э.), Филолай (ок. 470 — после 400 до н. э.)[6] и Пифагор (ок. 570 до н. э. — ок. 497)[7]
[1]Боэций // Новая философская энциклопедия // URL: http://iph.ras.ru/elib/0470.html//20.10.2013.
[2]Боэций А. М. С. Основы музыки / Подгот. текста, пер. и коммент. С. Н. Лебедева. М., 2012, далее — Боэций А. М. С. Основы музыки.
[3] Здесь и далее «Основы» вместо «Основы музыки».
[4] Первый русский исследователь и переводчик данного трактата — Е. В. Герцман заключает: «Становится ясно, что текст Боэция — свободный парафраз на “тему” Птолемея. Причем это парафраз сменяется длительной импровизацией по поводу положительных и отрицательных сторон рационального и иррационального методов познания в сопоставлении которых римский автор освещает даже мельчайшие детали, не зафиксированные Птолемеем» — Герцман Е. В. Музыкальная Боэциана. СПб., 1995. С. 124, далее — Герцман Е. В. Музыкальная Боэциана.
[5] Боэций пересказывает его «Арифметику».
[6] Теория этого представителя пифагорейцев используется в 5—8 главах Третьей книги для доказательства «истинной половины тона», которую трактата Боэция искренне отстаивал, вычисляя микроинтервалы (диеса малая, или отношение 128:125; диеса большая, или отношение 648:625; схизма, или отношение 32805:32768; диасхизма, или отношение 2048:2025).
[7] Имеются в виду «историко-мифологические экскурсы» — выражение С. Н. Лебедева, которым он характеризует фрагменты трактата Боэция об открытии Пифагором числовых оснований музыки и «рост объема звуковысотной “материи” греческой музыки — от тетрахорда до двухоктавной полной системы» — Боэций А. М. С. Основы музыки. С. xiv. Второе положение о росте объема звуковысотной материи, на мой взгляд, дискуссионное, так как полная система apriori предполагалась для описания структурных единиц от звука до самой же полной системы, другими словами, теоретическая мысль разворачивалась по схеме: от целого — через описание частей — к целому.
67
Рис. 7. Подвижные звуки в полной системе Боэция [5]
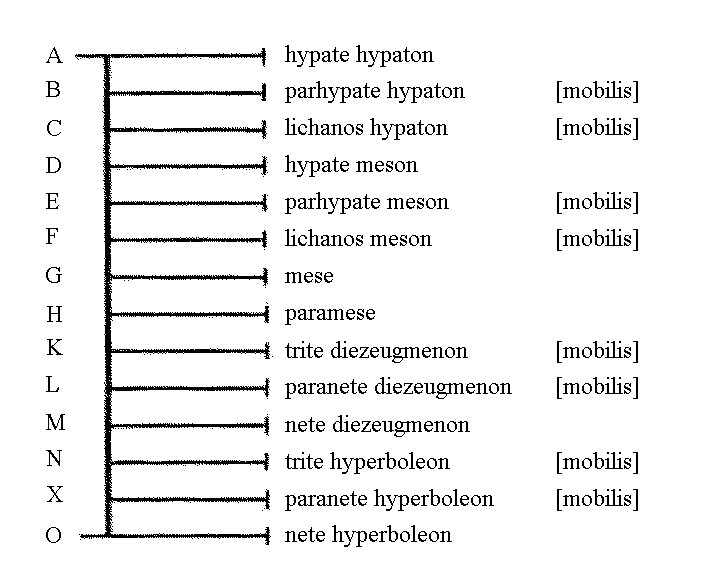
были его непререкаемыми авторитетами, включая Аристотеля (384 — октябрь 322 до н. э.), на которого нет прямых ссылок, и «авторитетного оппонента» — Аристоксена из Тарента (ок. 370—300)[1].
Между тем Боэций привносит изменения в установленную его предшественниками структуру изложения теоретических вопросов[2], — создает пятичастный план развертывания теоретических положений, опуская такую важную для нас с точки зрения поставленной проблематики тематическую область, как метабола, о которой говорилось выше, но заостряя внимание на новых элементах — историографии, нотации[3] и монохорде[4].
Исследуя «Основы», можно заключить, что иерархическая парадигма соотношения части и целого была представлена автором в тех же самых ясных графических схемах, что и у Птолемея, хотя сравнение дает возможность говорить о своеобразных акцентах, расставленных Боэцием. Например, когда он говорит о видах консонансов, или благозвучных интервалов, то предлагает читателю схему полной системы, в которой выделяет подвижные звуки (см. рис. 7 и ср. рис. 1):
Сейчас нужно объяснить [положение] о видах первых консонансов. Первые консонансы — это октава, квинта [и] кварта. Вид
[1] Там же. С. xii—xiii; Герман Е. В. Музыкальная Боэциана. С. 103.
[2] Обычно они сохраняли семичастный порядок изложения: о звуке, об интервалах, о родах, о звукорядах («системах»), о «тонах» (в пер. С. Н. Лебедева «о ладах»), о метаболах и мелопомее.
[3] Эта тематическая область предположительно написана им на основе книги Алипия, друга Ямвлиха (не позже 280, вероятно в 245 — ок. 325).
[4] Напомню, что этот инструмент с античных времен являлся основанием для точного исчисления звука и измерения интервалов; деление струны, выраженное сверхчастичным (2:3, 3:4, 4:5 и т. д), кратным (1:2, 1:3, 1:4 и т. д.), сверхчастным (3:8) и прочими типами числовых отношений, являлось доказательством возможности рационального постижения звуковой информации.
[5] Здесь и далее рисунки приводятся по изд. Боэций А. М. С. Основы музыки.
68
же — это некая позиция, получающая особую форму [консонанса] в каждом роде и установленная границами, создающими консонанс каждой пропорции, например, в диатоническом роде[1].
Кроме того, Боэций вносит тонкости в описание функций звуков, разделяя их на «полностью постоянные» (totum mobiles) и «полностью подвижные» (totum immobiles) звуки и противопоставляя им «не полностью постоянные»[2] (nec in totum mobiles) и «не полностью подвижные» (nec in totum immobiles) звуки на том основании, что первые — полностью постоянные и подвижные — сохраняют свой статус в каждом из трех тетрахордных родов (см. рис. 8) — хроматическом (chromaticum), диатоническом (diatonum) и энгармоническом (enarmonium), а вторые — меняются, как правило, в одном из них.
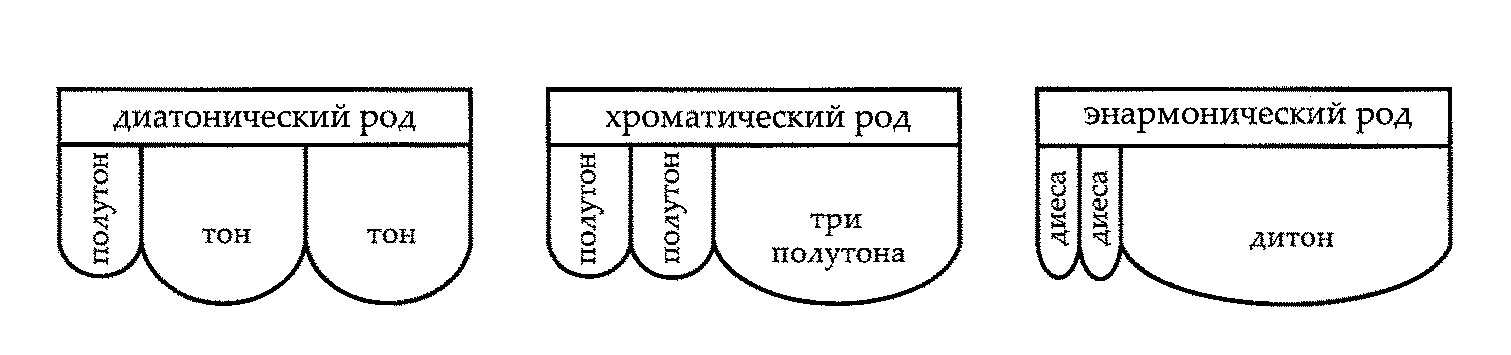
Рис. 8. Тетрахордные роды в теории Боэция[3]
Величайшая заслуга Боэция состояла в том, что он подробным образом, пусть с оттенком субъективности, описал все расхождения между Аристоксеном, Архитом и Птолемеем относительно их взглядов на внутреннее деление тетрахордов, одновременно отстаивая свое собственное намерение разделить его ровно пополам.
Многочисленные рисунки, сопровождающие его размышления, свидетельствуют о том, что части целого всегда имеют общую границу. Например, интервал октавы — это часть полной системы, что несомненно отражается и на ее визуальном воплощении (см. рис. 9а); одновременно с этим октава является целым для интервалов меньшего объема (см. рис. 9б).
Эти интервалы — квинта и кварта — не только изображаются как части целого (см. рис. 9б), но и как самостоятельные, автономные части (см. рис. 10а, б), что весьма показательно для иерархической системы организации грамматических единиц, когда часть, выведенная
[1]Герцман Е. В. Музыкальная Боэциана. С. 403.
[2] Термин приводится по переводу Е. В. Герцмана и представляется более предпочтительным, нежели альтернативный «вполне постоянные» С. Н. Лебедева.
[3] Здесь и далее в разделе рисунки даны по изд.: Боэций А. М. С. Основы музыки.
69
|
а |
б |
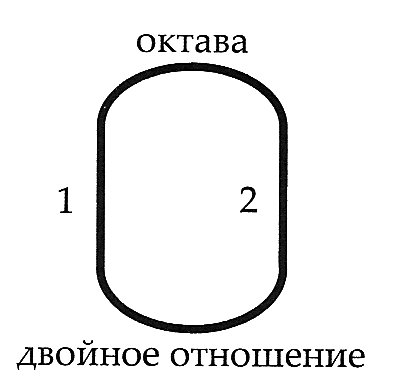 |
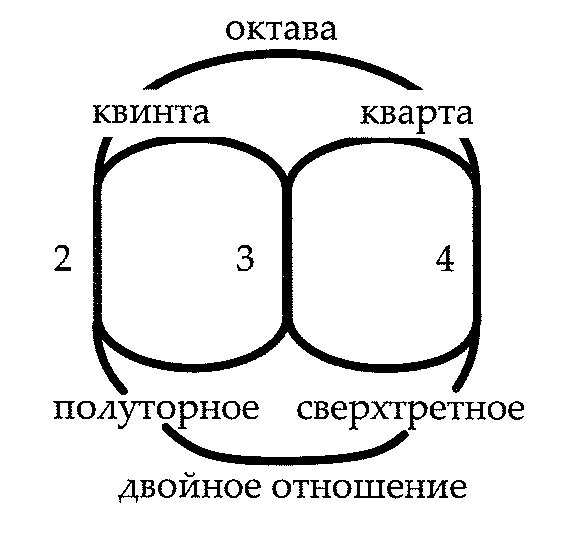 |
Рис. 9а, б. Интервал октавы как часть (а) и целое (б)
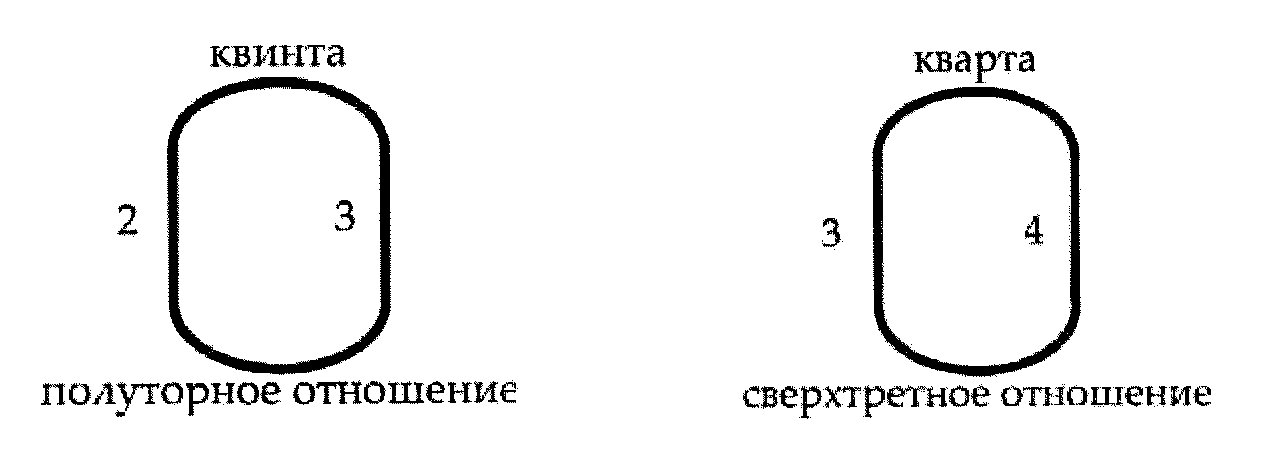
Рис. 10а, б. Интервалы кварты и квинты как части целого
из целого, становится основанием для мелодического высказывания. В каждой из указанных позиций языковые единицы сохраняют свою комплементарность.
Наконец, Боэций подарил нам относительно целостное изображение иерархически организованной системы единиц музыкального языка (см. рис. 11)[1].
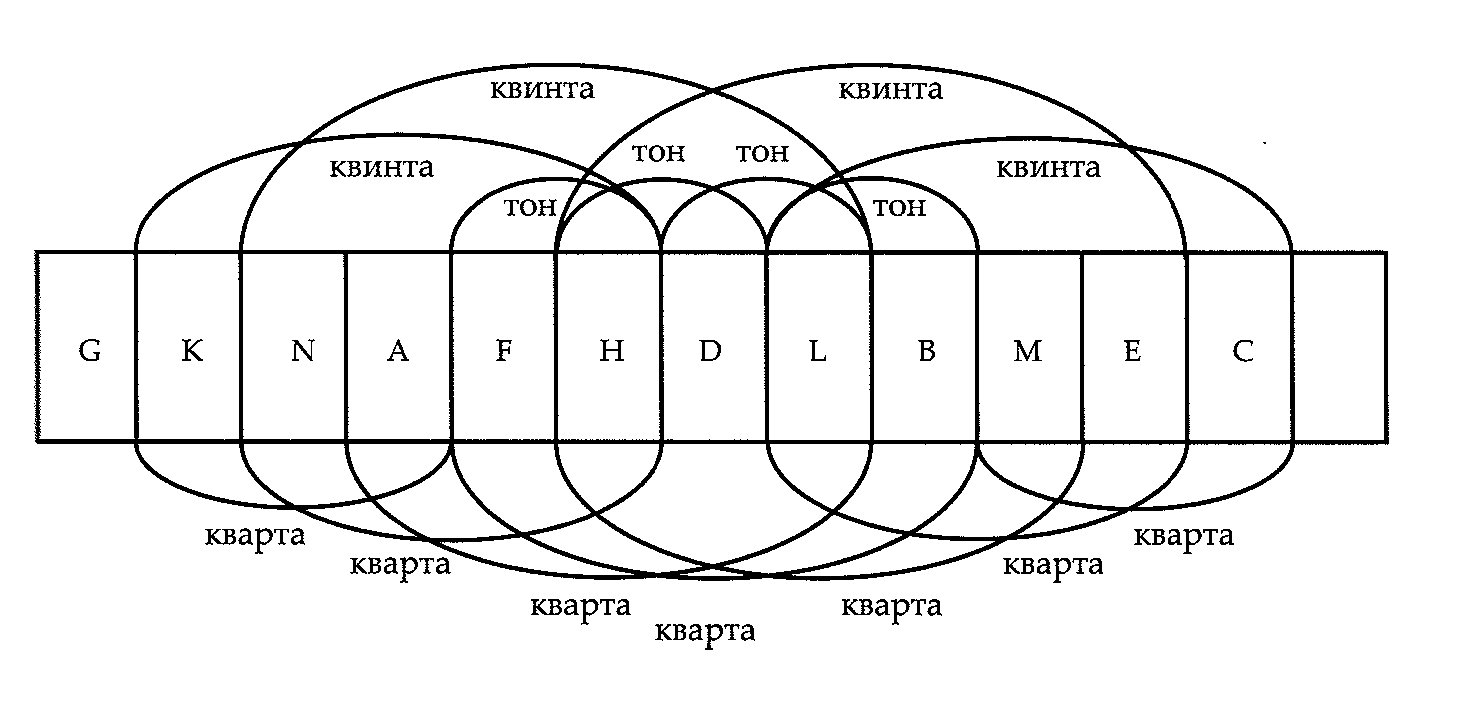
Рис. 11. Иерархическая система единиц музыкального языка
[1] Спустя столетия в своем трансформированном виде оно появится на страницах персидских трактатов о музыке — об этом см. Раздел «Сафи ад-Дин аль-Урмави».
Рис. 12. Боэций. Фрагмент из «Основ музыки».
Оттиск МS. Clm 18480, f. 197 v.,
Bayerische Staatsbibliothek
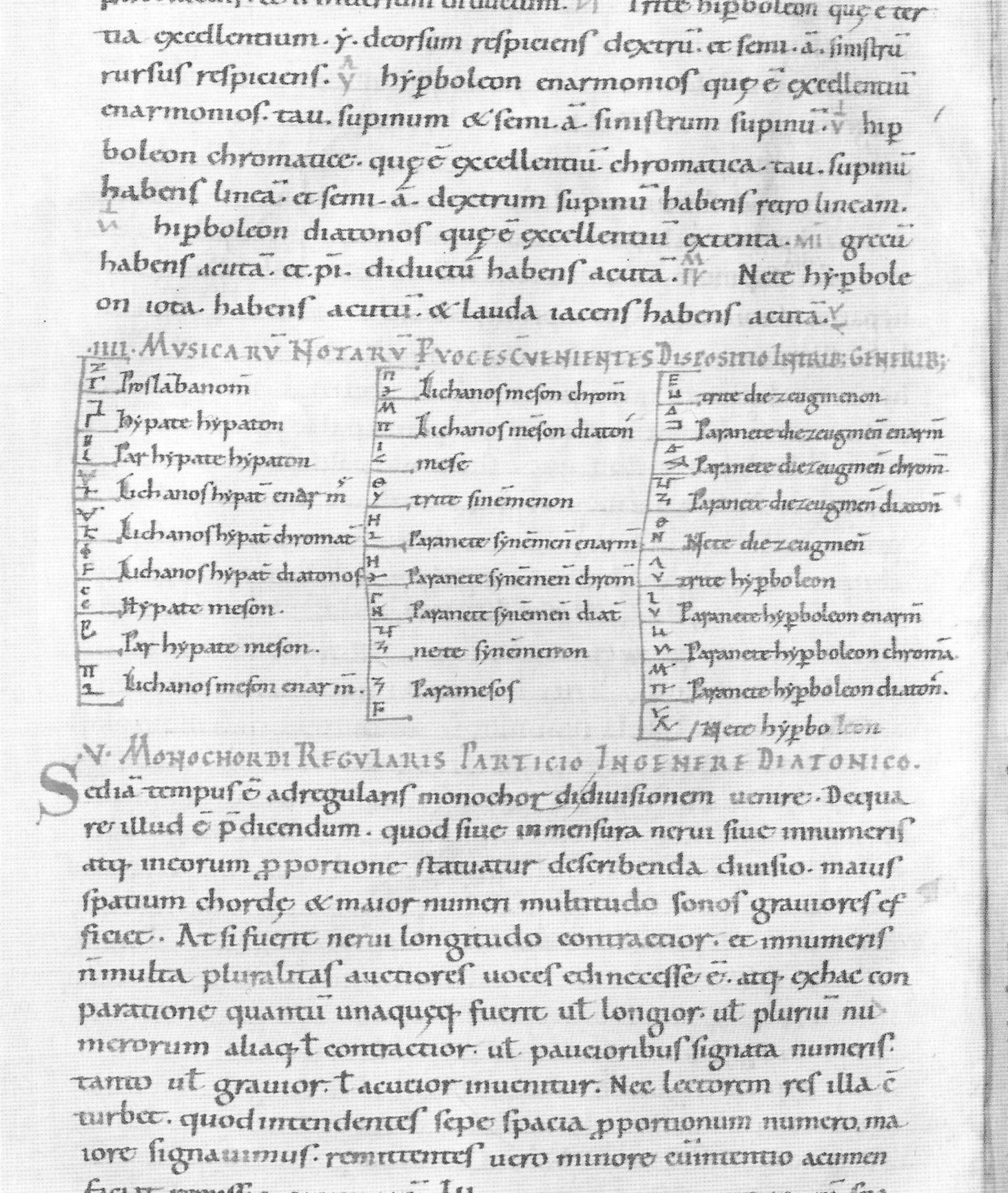
70
На этом рисунке показан расчет микроинтервала коммы, который выражается числовым отношением 531441/524288[1], то есть имеет 23,5 цента[2], и доказательством того, что «весь интервал MN меньше, чем квинта»[3], другими словами, «интервал h – ges 1 (MN) меньше интервала квинты h – fis 1 (на схеме Боэция не показана) на комму ges 1 – fis 1»[4].
Таким образом, рассмотрение определенных деталей общей теоретической системы Боэция лишний раз убеждает в том, что он мыслит в соответствии с древнегреческой традицией, сохраняя за звукорядом полной системы его традиционное изображение в виде вертикальной «расчески» с ее пятнадцатью звуками, поделенными на три зоны — верхнюю, среднюю и нижнюю — когда основной единицей остается тетрахордный род с его «опоясывающим» ограничением ладового пространства и двумя типами связи (см. рис. 12):
а) «по соединению», когда верхний звук нижнего тетрахорда является нижним звуком верхнего (таковы связи тетрахордов «нижних» и «средних», «средних» и «соединенных», «разделенных»[5] и «верхних»);
б) «по разделению», когда верхний звук нижнего тетрахорда и нижний звук верхнего отстоят друг от друга на расстоянии одного тона (этот тип связи представлен соединением тетрахордов «средних» и «разделенных»)[6].
[1] Речь идет о пифагорейской комме в числовом отношении 52:53, которое было больше Дидимовой коммы 80:81, но меньше пифагорейской лиммы или пифагорейской малой секунды 24:25.
[2] Цент (лат. centum — «сто») — безразмерная логарифмическая единица отношения двух частот или значений границ музыкального интервала, иными словами — сотая доля полутона равномерно темперированного строя.
[3]Боэций А. М. С. Основы музыки. С. 147.
[4]Боэций А. М. С. Основы музыки. С. 312.
[5] В переводах В. Г. Цыпина — «отделенных».
[6]Герцман Е. В. Античное музыкальное мышление. С. 37—38.
71
Все это позволяет сделать вывод о том, что целое в музыкальной грамматике Боэция равно сумме четырех тетрахордов, организованных внутри таким образом, что каждый из них сохраняет автономное положение и при выводе из целого не меняет структуры, являясь, как уже говорилось выше, основанием для возникновения мелодии. Важно, что при уменьшении объема полной системы она не перестает оставаться суммой своих частей и на этом основании является богаче них, следовательно, — не перестает оставаться целым по определению.
Теория музыки арабо-мусульманской культуры
Такое понимание соотношения части и целого позднее было усвоено арабо-мусульманской философской мыслью, в первую очередь, по причине органичного соответствия иерархической парадигмы музыкальным реалиям этой культуры. Кроме того, этому способствовало широко развернувшееся движение по переводу античной философии[1], способствовавшему распространению аристотелизма[2] и возникновению жанра рисāла фū-л-мȳсūк̣ā «трактата о музыке».
Зарождение этого жанра можно связать с теоретическими трудами аль-Халиля ибн Ахмада (ум. ок. 791), известного филолога из Басры[3]; основы — с именем Абу Йусуфа Йакуба аль-Кинди (ум. между 860/879); эволюцию — с арабскими и персидскими энциклопедическими трудами, включавшими разделы по музыке как части математического знания (Ибн Сина, 980—1037; Шамс ад-Дин Мухаммад Амули, XIII—XIV вв. и др.); а расцвет — с систематическим появлением трактатов о музыке как самостоятельных сочинений, обнаруживающих методологию исследования музыкальных явлений, характерную для собственно арабо-мусульманской культуры (Сафи ад-Дин
[1] Речь идет о периоде правления халифа аль-Мамуна (813—833), основавшего в Багдаде дāр ал-х̣икма «Дом мудрости» — переводческий центр с обсерваторией и богатейшей библиотекой.
[2] Напомню, что на территории Ирана аристотелизм распространялся еще до включения последнего в состав арабского халифата. Представители эдесской школы и афинской школ после их закрытия императорами Зеноном (474—491) и Юстинианом (527—565) нашли пристанище у Сасанидов, переместившись в Гундешапур и Райшахр, где были созданы академия с тремя факультетами (медицинский, астрономии, математики) и школа медицины, астрономии и логики.
[3] Речь идет о Китāб ан-наг̣ам «Книге о мелодиях» и Китāб ал-’ūк̣а‘ «Книге о ритмических длительностях», не сохранившихся до наших дней.
72
аль-Урмави, ум. 1294 и др.) после длительного стояния на позиции арабоязычного перипатетизма[1].
Таким образом, продолжим рассмотрение иерархической парадигмы соотношения части и целого уже в пространстве арабо-мусульманской классической теории музыки в связи с фигурой Абу Насра Мухаммада аль-Фараби (870—950)[2] — первого автора, разработавшего звуковысотную грамматику музыкального языка в виде стройной логической системы, — выдающегося мыслителя, прозванного в арабо-мусульманском мире «вторым учителем» после Аристотеля.
Абу Наср Мухаммад ал-Фараби
Является ли теория музыки аль-Фараби столь же изолированной от всего остального наследия ученого, как мы видели это в случае с Боэцием? Известно, что смысловое «тело» арабо-мусульманской культуры выстраивается по иным силовым линиям смыслополагания и дихотомическое разделение знания на «светское» и «религиозное» не является ее характеризующей чертой. Вопрос — к какому из них можно отнести арабо-мусульманскую философию, столь же бессмыслен по отношению к философии, сколь и теории музыки — ее неотъемлемой части[3]. За отношением «части» и «целого» здесь всегда стоит парадигма «Бог — мир»[4], а механизмы реализации этого отношения обнаруживаются как универсальные для Текста классической арабо-мусульманской культуры.
В контексте сказанного выше необходимо помнить о том, что иерархическая парадигма соотношения части и целого для арабо-
мусульманского мира является только одним из возможных решений — она не исчерпывает многообразия музыкальных явлений.
[1] Исследование эволюции жанра рисāла фū-л-мȳсūк̣ā дает основание выделить два этапа: 1) классический период — с IX по XV в. и 2) постклассический период с XVI по XIX в.
[2] Полное имя — Абȳ Нас̣р Мух̣аммад бин Тарx̱ан бин Авзалаг (Узлуг?) ал-Фāрāбӣ.
[3] Такого рода вопрошание оборачивается методологическим конфузом, особенно в области классификации источников, неоправданно выстраиваемых по дихотомической схеме «musica speculativa — musica practica», органичной для западноевропейской культуры.
[4] Исследование показывает, что ни один из жанров традиционной музыки исламского мира невозможно строго обозначить как «светский» или «религиозный».
73
Кроме того, вне зависимости от того, был ли какой-либо автор сочинений о музыке известным философом или нет, его рассуждения всегда встраивались в определенную философскую систему и управлялись ее фундаментальными категориями. С этой точки зрения аль-Фараби целиком и полностью принадлежит арабоязычному перипатетизму.
Автор фундаментальных трактатов о музыке[1], в том числе Китāб ал-мȳсūк̣ā ал-кабūр «Большая книга о музыке»[2], чей объем не удалось превысить ни одному из его последователей, аль-Фараби использовал «рационально-логический, дедуктивный принцип исследования музыки»[3]. Методологические основания его трудов в своих ключевых характеристиках не противоречили ни античной теории музыки, ни музыкальной традиции Хорасана, знатоком и исполнителем которой он являлся, породив множество легенд на эту тему[4]. Свои теоретические умозаключения аль-Фараби выражал посредством арабского алфавита, скреплявшего графическое начертание определенной арабской буквы с высотным положением каждого звука полной системы (см. рис. 13).
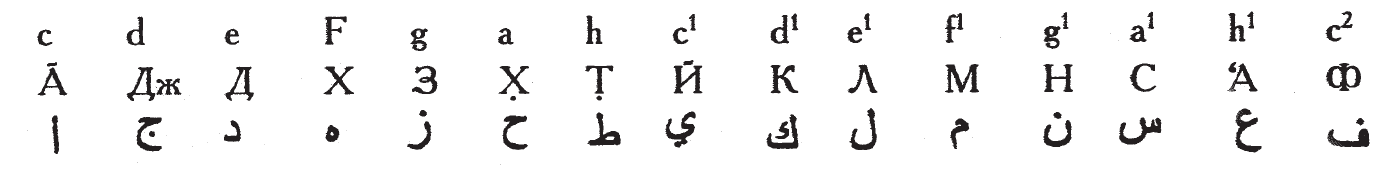
Рис. 13. Буквенная система для обозначения тонов полной системы. (Схема С. Даукеевой)
[1]Abu Nasr Аl-Fārābī. Kitāb al-mūsīqī l-kabīr. Edited by Ghạttas ̒ Abd al-Malik Khashaba. Cairo: Dār al-Kātib al- ̒̒Arabī-li-l-̣Tibā ̒ a wa-1-Nashr, 1967; Kitāb al-mūsīqī al-kabīr = Grand Book of Music. Reproduced from MS 953 Köprülü Kütüphanesi, Istanbul. Edited by Eckhard Neubauer. Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1998; Ihsā ̓ al-̒ ulūm. Edited by ̒A1ī Bū Mulaḥḥam. Beirut: Dār wa-Maktabat al-Hilāl, 1996.
[2] Трактат имеет введение, две части, три раздела и восемь глав, тем не менее перевод одного только содержания этой книги на русский язык занимает более десяти страниц текста — см. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы, 2002. С. 247—259.
[3]Даукеева, Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. С. 66.
[4] По свидетельству Ибн Абу Усайбийа (1194—1270), Абу Наср Мухаммад, родившийся в местечке Фараб на земле Хорасана в семье персидского военачальника, провел там почти сорок лет, прежде чем перебрался в Багдад, а оттуда в Дамаск, где и был похоронен — там же, с. 136.
74
Субстанциальный взгляд на природу музыки (мӯсӣк̣ӣ) выразился в его понимании мелодии (лах̣н) как «вещи», наделенной атрибутами времени, движения, места, а следование аналитическому методу, подробно рассмотренному на примере античной музыкальной мысли, — в обосновании полной (совершенной) системы (джам‘ ка̄мил) и тетрахордного рода (джинс) в его трех уже известных нам позициях, в разъяснении перехода (интик̣а̄л) из одной мелодии в другую и обосновании потенциально охватывающей системы (джама̄‘а тух̣ӣт̣ би-к̣увва), позволяющей при переходе сохранить иерархически обусловленную систему единиц музыкального языка (см. рис. 14).

Рис. 14. Аль-Фараби. Иерархическая система
единиц музыкального языка в теории. Вариант 1
Другими словами, можно с полным правом говорить об античном методе исследования, который в то же время не переводит аль-Фараби в разряд греческих апологетов. Предлагаемые им практические решения звуковысотной грамматики по части микрохроматики были в высшей степени обусловлены неравномерно темперированным строем струнных щипковых и плекторных инструментов — хорасанского и багдадского танбура, а также уда, то есть его собственной традицией и соответствующим ей слуховым опытом. Сказанное вместе с тем не отменяет иерархическую парадигму и того, что каждая из единиц таксономического ряда (полная система, тетрахорды, интервалы, звук), включая саму полную систему, которая, предположительно, точно так же могла быть извлечена из бесконечности, является результатом выведения меньшей части из большей.
75
Ниже я привожу еще один рисунок (см. рис. 15) вместе с комментарием самого аль-Фараби:
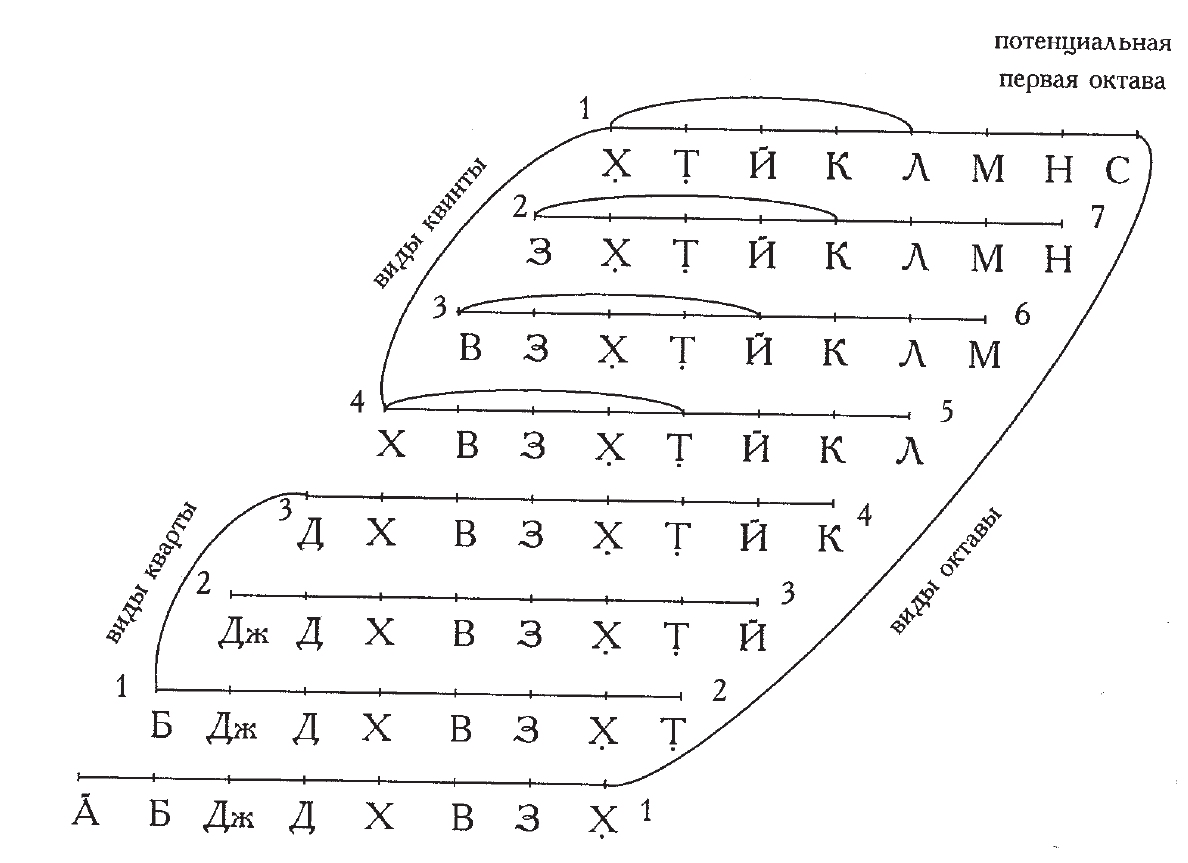
Рис. 15. Аль-Фараби. Иерархическая система
единиц музыкального языка в теории. Вариант 2
В этой схеме содержатся виды октав, кварт и квинт, и это освобождает нас от [приведения] отдельной схемы для каждого из этих [интервалов]. Крайние [звуки] этих видов, с какой бы из двух сторон они ни брались, представляют собой основы мелодий, а совокупность звуков, расположенных между ними в восходящей или нисходящей [последовательности], есть основания мелодий в этом виде[1]
Более детальное рассмотрение показывает, что перед нами семь видов октавных звукорядов (ср. рис. 4), извлекаемых по тому же принципу, что и в теории Птолемея. И здесь важное значение получает характеристика звуковых функций: выделение двух краев (т̣арафайн) звуковой структуры, одновременно обозначаемых как основы, или начала (маба̄дӣ)[2] мелодий и их оснований (маба̄нӣ). В первом случае речь идет о начальном тоне мелодии, который
[1]Аль-Фараби. Большая книга музыки (перевод фрагментов) [перевод названия С. Даукеевой. — Г. Ш.]. С. Даукеева Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы, 2000. С. 224, далее — Аль-Фараби. Большая книга музыки.
[2] Более точный перевод — «начала».
76
одновременно выполняет функцию перехода из одного лада (лах̣н) в другой[1], тогда как основания мелодий — это «необходимые звуки, из которых они сочиняются» и таковых «в октаве семь, в квинте четыре, в кварте три… »[2].
Важно, что аль-Фараби рассматривает края звуковой структуры как границы, за пределами которой разрушается ладовая плоскость. Между краями кварты формируется тетрахорд, тогда как слитное соединение тетрахорда и тона формирует пентахорд, а слитное соединение двух тетрахордов и тона приводит к октавному звукоряду (джам‘). Но не менее важно и то, что за тетрахордом как осознанной ладовой плоскостью стоят вполне конкретные представления аль-Фараби о времени и движении:
…время присуще движению, к тому же оба они — время и движение — взаимосвязаны и неотделимы друг от друга[3].
Это значит, что движение по тонам тетрахорда темпорально и представляет линейно-континуальную процессуальность как действие, приводящее к освоению времени: оно формирует иерархически обусловленную мелодическую линию в пределах опоясывающей, замкнутой границы. Сказанное выше имеет прямое отношение к особенностям протекания музыкальной речи на основе функции краев тетрахорда как «рамки», или опорных тонов мелодического высказывания. Выходит, что необыкновенно точная характеристика, данная Е. М. Герцманом тетрахорду как единице музыкального языка, вовсе не ограничивается Античностью[4]:
…крайние тоны тетрахорда функционировали как своеобразные колонны «ладового ордера» (по аналогии с античными архитектурными ордерами), как некие «геракловы столбы», поддерживающие всю внутреннюю конструкцию тетрахорда. Между ними существовала осознанная ладовая плоскость… Выход за рамки был равносилен попаданию в иной звуковой мир, в котором прекращались выявленные связи[5].
[1] Термин лах̣н в теории аль-Фараби бифункционален, поэтому указывает на «лад» и на «мелодию» в зависимости от контекста.
[2]Аль-Фараби. Большая книга музыки. С. 222.
[3]Аль-Фараби. Большая книга музыки (перевод фрагментов). С. 157.
[4] Я приводила в пример эти слова в своих работах, и обращаюсь к ним еще раз — так тонко передана в них суть рассматриваемого вопроса.
[5]Герцман Е. М. Античное музыкальное мышление. С. 54.
77
Идентичная показанной выше организация ладовой «плоскости» обнаруживается не только в теории выдающегося философа и музыканта Абу Насра Мухаммада аль-Фараби, но и в описании языковых единиц трактата о музыке анонимного автора начала XIV в., — одного из первых трактатов о музыке на персидском языке, чье авторство долгое время приписывалось Мухаммаду Нишапури[1] — известному мастеру хорасанской музыкальной традиции XIII в.
Заключение
Иерархическая организация музыкального языка актуализирует вопрос о субстанциальном типе музыкального мышления, предполагающем:
a. таксономический ряд единиц от большего к меньшему, что становится решающим при разворачивании музыкальной речи;
b. такое течение в реальном физическом времени звуковой последовательности (процессуальности), при котором последняя разворачивается по пути синтезирования (поглощения) меньших единиц в бóльшие и возникает иерархически обусловленная мелодическая линия;
c. механизм поглощения, при котором меньшее остается узнаваемым, ясно-различимым и автономным внутри большего, я определяю как действие на том основании, что данная логика организации звукового пространства порождает плотную череду событий, формируя внутреннее музыкальное время;
d. поскольку музыкальное время осознается «только в присутствии событий»[2], мотивно-тематическая работа, связанная
[1] Трактат о музыке Мухаммада бин Махмуда бин Мухаммада Нишапури, очевидно, в свое время был широко известен и даже выполнял функцию практического руководства, по которому обучались игре на струнном музыкальном инструменте. Отчасти поэтому он дошел до нас в версиях анонимных комментаторов, создавших свои сочинения на основе этого источника, дополнив его другими необходимыми сведениями. Комментированный русский перевод двух списков трактата о музыке (список С-612 ИВР РАН и список манускритпа «Сафина-и табризи», факсимиле, 2001) см. Шамилли Г. Б. Философия музыки исламского мира. [М.: Языки славянской культуры; готовится к изданию].
[2]Бендицкий А. А., Арановский М. Г. К вопросу о моделирующей функции музыки: музыка и время // Музыка как форма интеллектуальной деятельности. М., 2007. С. 147.
78
с приемами суммирования и дробления синтаксических единиц (мотив, синтагма, фраза, сверхфразовое единство), формирует иерархически устроенную мелодическую линию (часто как тему, из которой вырастает вся музыкальная композиция);
e. логика действия обусловливает музыкальную композицию как субстанциальное целое, исчисляемое суммой своих частей и ограниченное опоясывающей границей.
Другая, неиерархическая парадигма соотношения части и целого, основанная на принципах, обнаруживающих иные законы, опирается на логику процесса (процессуальная картина мира). Ее рассмотрению посвящена отдельная работа, подготавливаемая автором к изданию.
 |
3.3 Понятия единого и множественного в поэме Махмуда Шабистари «Цветник тайны»* (А. А. Лукашев)[1] |

|
79
Единое является одним из фундаментальных понятий не только в исламской, но и в античной философии. С зарождения философской мысли, уже с досократиков1 стало очевидно, что без решения проблемы единого, а именно, его осмысления в отношении к множественному, невозможно выстраивание целостного философского мировоззрения, а потому уже на самом раннем этапе развития классической философии были предложены различные трактовки самого единого:
Парменид, как представляется, понимает единое как мысленное (logos), а Мелисс — как материальное. Поэтому первый говорит, что оно ограниченно, второй — что оно беспредельно; а Ксенофан, который раньше их (ибо говорят, что Парменид был его учеником) провозглашал единство, ничего не разъяснял и, кажется, не касался природы единого ни в том, ни в другом смысле, а, обращая свои взоры на все небо, утверждал, что единое — это бог[2].
Единое было основополагающим понятием также для пифагорейцев и Евклида. Неслучайно последний начинает седьмую книгу «Начал» с того, что соотносит единицу и Единое, а число объясняет как множество, составленное из единиц[3] — образ весьма важный для исламской мысли как мы покажем ниже.
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 13-03-00414.
Корректность термина «досократики» в настоящее время является предметом научной дискуссии. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-kritiki-a-v-lebedeva-termina-dosokratiki-dilsa-krantsa (дата обращения 21.08.2011).
[2]Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1976. С. 77.
[3] Начала Евклида. Кн. VII—X / Пер. Д. Д. Мордухай-Болтовского. М.; Ленинград, 1949. С. 9.
80
Взгляды Платона и Аристотеля в значительной степени различаются их отношением к единому. Оба отводят ему важное место, но Платон рассматривает Единое как трансцендентную самостоятельную сущность, стоящую выше бытия в структуре универсума. Аристотель же утверждает, что единое не имеет самостоятельного существования помимо единичных вещей. Единое — вещи, сущность которых одна и не допускает деления. Единое для Аристотеля — скорее единица, мера (в этом он ближе к пифагорейцам, Евклиду), чем нечто имеющее самостоятельное существование[1].
Плотин, следуя Платону в понимании Единого, утверждает его трансцендентный характер. Однако здесь Плотину приходится иметь дело с проблемой порождения Единым множественного мира (центральная проблема средневековой исламской философии). Он приходит к выводу о том, что Единое должно быть началом не только трансцендентным, но и имманентным миру[2]. Основатель неоплатонизма задается вопросом: «Почему из Единого — многое?» и сам же отвечает на него:
…благодаря тому, что Единое существует повсюду, что нет ни одной точки, где бы его не было. Таким образом, оно наполняет собою все. А это уже кладет начало многому, вернее — всему. Ибо если бы всюду было одно только Единое, то само Единое и было бы всем. Но так как Единое есть вместе с тем и нигде, то оно дает начало многому лишь постольку, поскольку оно само есть всюду, и многое это отлично от Единого, именно поскольку Единое есть нигде. Почему же, однако, само Единое существует не только везде, но и нигде? Потому что Единое должно существовать раньше, чем все другое. Наполняя собою и создавая все, Единое не должно быть, однако, всем тем, что оно творит[3].
Критикуя своих предшественников за соотнесение Единого с точкой или единицей Плотин пишет:
Ему (Единому. — А. Л.) принадлежит бесконечно более совершенное единство, чем то, какое представляют собой точка и единица, потому что в представлении той и другой душа, абстрагируясь от величины и численной множественности, получает нечто самое меньшее и успокаивается на нем, имея нечто действительно неделимое,
[1]Гайденко П. П. Единое // Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2008. С. 375—376.
[2] Там же. С. 376—377.
[3]Плотин. Эннеады / Пер. Б. Ерогина. Т. 2. Киев, 1996. С. 113.
81
однако такое, которое имеет бытие лишь в чем-либо другом и притом в делимом, между тем, как верховное Начало не только не находится в чем-либо делимом, но и вообще ни в чем другом, и, если оно есть неделимое, то вовсе не потому, что есть нечто самое меньшее, так как, напротив, оно есть самое большее — не по величине, конечно, а по своему могуществу. Не имея величины, оно, конечно, неделимо, тем более, что существа, стоящие ниже Его, тоже суть неделимы по своим силам. Можно, пожалуй, называть Его бесконечным, но опять-таки не в смысле необозримой величины или массы, но в смысле необъятного, безмерного всемогущества, так что, если кто смог бы представить себе Дух или божество, то и они все еще были бы неизмеримо меньшими Его, ибо, если попытаться мыслить самое высшее и совершеннейшее единство, какое мы обыкновенно вносим в понятие божества, то и оно не будет вполне адекватным верховному Началу, которое, будучи самосущим и исключая из себя все акцидентальное, есть, в то же время, довлеющее себе, притом в превосходнейшей степени есть совершенно самодовлеющее, не нуждающееся ни в чем другом[1].
Приведенное объяснение весьма важно для нас, поскольку в относительно сжатой форме эксплицирует отношение единого ко множественному, в значительной степени усвоенное исламской мыслью, также утверждавшей единство Первоначала, его невеличинность, присутствие во всем универсуме и одновременную трансцендентность миру.
Для иллюстрации этого отношения Плотин прибегает к образу центральной точки и круга (вспомним, что образ «точка-линия» в этом контексте им отвергался):
…само оно (Единое. — А. Л.) должно оставаться в покое, а к нему должно быть обращено все, как круг обращен к центру, из которого исходят все радиусы. Примером может служить Солнце, поскольку оно — центр по отношению к исходящему от него и зависящему от него свету (Эннеады I, 7,1, 20—28) (пер. С. В. Месяц)[2].
В исламской философии, многое почерпнувшей из античного наследия, Единое занимает особое место не только в силу своей важности для философского дискурса вообще, но и благодаря тому, что ислам является религией строгого монотеизма. При рассмотре
[1]Плотин. Эннеады / Пер. Г. В. Малеванского. Т. 1. Киев, 1995. С. 361.
[2] Цит. по: http://smirnov.iph.ras.ru/win/audio/oit.mp3 (дата обращения 13.02.2014).
82
нии единого мусульманские авторы обращались в первую очередь к Первоначалу, основной характеристикой которого является единство. Здесь они активно пользовались достижениями античных авторов, однако, если для тех же пифагорейцев единое было тождественно единице, и математика была для них средством получения истинного знания о положении вещей, то для исламских авторов единица — образ, позволяющий наглядно говорить о метафизическом Едином. Например, Аль-Кинди применяет метафору соотношения единицы и множества чисел для иллюстрации неразрывности единства и множественности[1]. Однако далее он последовательно доказывает, что это — не истинное Единство. Последнее абсолютно трансцендентно, связано с множественным миром лишь как его Первоначало и Первопричина. Таким образом, в силу своей трансцендентности, оно не может характеризоваться через фундаментальные характеристики вещи:
Истинно единое есть нечто единое само по себе, что ни в каком отношении не является чем-то множественным, что не поддается никакому виду деления — ни само по себе, ни в отношении чего-либо другого. Истинно единое не есть ни время, ни место, ни субстрат, ни атрибут, ни целое, ни часть, ни субстанция, ни акциденция. Оно не поддается ни делению, ни разложению на множество[2].
В этом он следует упомянутому выше Плотину, что не удивительно, поскольку аль-Кинди принадлежал к фальсафе — направлению исламской философии, занимавшемуся, в первую очередь, переводом и комментированием античных памятников. Хотя фальсафу иначе и называют арабским или восточным перипатетизмом, именно в вопросе о Едином арабские авторы расходятся с учением Аристотеля, считавшего, что единое не является самостоятельной сущностью, имеющей существование вне единичных вещей. В других направлениях исламской философии были предложены другие трактовки Единого, зачастую более близкие к досократическим. Это не означает, что им были неведомы достижения философии после Парменида. Причина заключалась в том, что авторы по-разному решали фундаментальную проблему исламской философии — проблему соотношения Бога и мира (обсуждавшуюся зачастую как соотношение
[1]Аль-Кинди. О первой философии // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. / Пер. А. В. Сагадеева. М., 1961. С. 88.
[2] Там же. С. 104.
83
Единого и множественного). Все они стремились к осмыслению Первоначала как абсолютного единства (ведь единство — наиболее значимая характеристика Первоначала в исламской мысли). Для большинства авторов принципиальная сложность заключалась в том, что Коран — основной текст исламской мысли, в разных местах говорит о Боге и как о трансцендентном, и как об имманентном. Исламские философы были вынуждены в своем стремлении к моделированию предельного единства Первоначала балансировать между Его трансцендентностью и имманентностью множественному миру. В итоге мы имеем набор систем философских взглядов, которые нельзя типологически свести ни к строгому пантеизму, ни к трансцендентализму, однако склонность к одному из указанных полюсов определяла существенные отличия в их философских построениях.
Даже в рамках одного направления мы зачастую не обнаруживаем единомыслия по вопросу о соотношении Единого Бога и множественного мира. Если взять суфизм — направление исламской философии, к которому принадлежал Махмуд Шабистари, то здесь также выделяются особенности трактовки соотношения Бога и мира, проистекающие из видения предельного единства в трансцендентности или имманентности. Известно высказывание одного из наиболее знаменитых средневековых суфиев — ал-Халладжа:
Точка — основа каждой линии, а вся линия — это совокупность точек. Линия не может обойтись без точки, а точка — без линии. Всякая линия, прямая или кривая, исходит именно из точки, а все, на что падает взгляд каждого из нас, это — точка, расположенная между двумя точками. Это доказательство проявления Бога во всем том, что предстает взгляду, и Его обнаружения взору во всем том, что предстает воочию. Оттого я говорю: «Что бы я ни видел, я вижу в нем Бога»[1].
Здесь мы видим подход, подвергнутый критике еще Плотином за то, что единое в качестве точки, находящейся на линии, зависит от других точек лини, представляющих собой множество. Отношение «точка-линия» аналогично отношению «единица-множество чисел» и такую постановку вопроса мы уже встречали у Евклида. Аль-Халладж мог и не знать Плотина, но представление о том, что это — не истинное единство, было распространено уже и непосредственно
[1] Цит. по: Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма. Генезис и эволюция. М., 2009. С. 246—247.
84
в исламской мысли, в частности, у аль-Кинди, критиковавшего утверждение о причастности истинно Единого множественному. Вероятно, причиной неприятия такого подхода являются специфические априорные установки средневекового автора. Каковы же были эти априорные установки?
Мансур Халладж был не столько философом, сколько мистиком, и мистическое откровение было для него более значимо, чем логические доказательства. Это, впрочем, не мешало ему пользоваться достижениями философов, о чем и свидетельствует заимствование образа линии и точки, подвергнутого критике Плотином.
Известность Халладжу принесли не столько его жизнь и творчество, сколько смерть: по легенде, он был казнен за слова «Я — Истина». В исламском обществе публичное отождествление себя с Богом — довольно смелый шаг, но Халладж не был единственным, кто высказывал подобные заявления. Тем не менее казнен был только он, что говорит, с одной стороны, о наличии нетеологических причин его казни, а, с другой — о том, что данное высказывание было подкреплено мотивацией, не вступавшей в сколько-либо острое противоречие с исламским мировоззрением, основанном на единобожии. Эта мотивация эксплицируется на основании приведенной выше цитаты о точке и линии как символе отношения Бога и мира. Если Бог соотносится с миром как точка с линией, Он сохраняет свое единство, но оказывается имманентен миру, будучи тождественным каждой вещи. Истиной оказывается не только сам Халладж, но и всякая вещь[1].
[1] Важно отметить, что трактовка данного образа (точка-линия), равно и знаменитого высказывания аль-Халладжа «Я — Истина» как манифестации субстанциального единства человека и Бога, не является единственной или общепринятой. Эти высказывания оставляют ряд вопросов, например, что имеется в виду под «обнаружением взору того, предстает воочию»: подразумевает ли это субстанциальное тождество Бога каждой видимой вещи или вещи видятся, воспринимаются как Бог, таковым не являясь? В истории исламской мысли имеется по меньшей мере три подхода к интерпретации отношений между человеком и Богом, выраженных аль-Халладжем как «Я — Истина», что само по себе говорит о невозможности однозначного выбора какого бы то ни было из них как аутентичного. Например, старший современник аль-Халладжа — Абу Язид аль-Бистами говорил: «в моей одежде — только Бог» (цит. по: Ибн Араби. Избранное / Пер. А. В. Смирнова. Т. 2. М., 2014. С. 393), указывая на субстанциальное тождество человека и Бога. Этот же подход находился под прицелом критики Ибн Таймийи. Аль-Газали говорит о том, что единение мистика с Богом — метафора. В состоянии опьянения (сукр) мистику кажется что он достиг единения, в то время как он остается субстанциально иным по отношению к Богу (Там же. С. 392—393). Третий вариант предлагается Ибн Араби, утверждавшим, что различие между Богом и миром невозможно нивелировать, а их единство заключается в том, что они обладают одним бытием: Бог является единственным сущим благодаря самому себе, мир же получает бытие от Бога. Таким образом, бытие оказывается общим у Бога и мира при их субстанциальной разделенности (Там же. С. 394—395). Для интерпретации мы выбрали первый подход не в силу того, что считаем его более аутентичным: как отмечалось выше, у нас нет неоспоримых доказательств в пользу адекватности любой из трактовок непосредственно взглядам самого аль-Халладжа. Мы смотрим на аль-Халладжа глазами Шабистари, который апеллирует к опыту аль-Халладжа и утверждает на страницах своей поэмы «Цветник тайны» невозможность соединения (иттих̣а̄д) человека с Богом в силу того, что соединение предполагает двойственность, в то время как есть только единство.
85
Таким образом, мы имеем систему взглядов, которая отводит Богу предельно высокое место в универсуме — Он оказывается тем, кто этот универсум конституирует так, что в нем не обнаруживается ничего иного Богу. Высказывание «Я — Истина» есть не утверждение равенства человека Богу, но утверждение того, что кроме Бога ничего нет.
Несколько иной подход обнаруживается у Ибн Араби. В отличие от Халладжа, Ибн Араби был философом не в меньшей степени, чем мистиком. Он, конечно, испытывал мистические состояния, в этих состояниях ему отрывалось мироустройство, но излагалось и осмыслялось его откровение в дискурсивной форме и логическое обоснование для него имело большое значение. Вместе с тем тексты Ибн Араби весьма сложны для понимания в виду их глубокого символизма: общим местом в исследованиях, посвященных ему, является указание на то, что одну его фразу можно изучать в течение года[1]. Действительно, тексты Великого Шейха весьма концептуально нагружены и требуют глубокой эрудиции в области исламских наук, не говоря уже о богатой полемике вокруг его трудов в среде ближайших учеников философа[2]. Не претендуя на сколько-нибудь полное изложение его взглядов, попытаемся сфокусировать внимание на наиболее значимых вопросах для настоящего исследования.
Для Ибн Араби принципиальной была идея о разделенности мира и Бога — необходимый тезис для утверждения божественной тран
[1]Смирнов А. В. Бог-и-мир и Истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Араби // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 3. М., 2012. С. 41.
[2] В частности, ат-Тилимсани, один из учеников Ибн Араби, подвергает критике утвержденность вещей до их существования. (‘Афӣф ад-Дӣн ат-Тилимса̄нӣ. Шарх̣ фус̣ӯс̣ ал-х̣икам. Тихра̄н, 1392 с.х./2013. С. 159).
86
сцендентности. Он раскрывается через термин «двойственность» (тас̱нийа), многократно употребляемый им на страницах основных работ[1]. Утверждение необходимости разделенности мира и Бога, их наличия как двоицы выводится автором из довольно распространенного тезиса о том, что мир как возникшее нуждается в том, что дало ему возникнуть — в Первопричине (Боге). Соответственно, он существует не сам по себе, но через Первопричину, которая дала ему существование, и фундаментальное различие между ними заключается в том, что Первопричина (Бог) существует сам по себе, в то время как мир существует благодаря Первопричине[2]. Сходная идея высказывалась и в фальсафе, но там мир и Бог были связаны каузальностью через цепь причин, у Ибн Араби же с Богом соотнесена каждая конкретная вещь (вспомним высказывание ал-Халладжа «Я — Истина»). Как же Ибн Араби решал проблему совмещения божественной трансцендентности и имманентности множественному миру?
Божественное единство не ставится им под сомнение, напротив, оно весьма важно для Великого Шейха. Имя Единственный (Ах̣ад) соотносится им с единицей и нечетностью, в то время как мир признается составляющим ему пару, и именно в этом заключается упомянутая двойственность мира и Бога. Бог самодостаточен, существует сам по себе. Мир же существует благодаря Ему и таким образом образует пару по отношению к Его единственности. Эта пара выстроена по принципу «явное-скрытое», где мир является явным миропорядка, а Бог — скрытым[3]. При этом Бог как единый и единственный не может иметь субстанциальной связи с миром, но связан с ним особым отношением. Это отношение божества и реципиента его воздействия — отношение действующего к претерпевающему. Такая характеристика, однако, не исчерпывает всю сложность построений средневекового суфия. Важной частью системы его философских взглядов является представление о божественной оности (тождественной самости) совершенно трансцендентной миру и божественности (улӯхийа) как совокупности божественных имен соотнесенных с миром:
[1]Смирнов А. В. Бог-и-мир и Истина Истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Араби // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 3. М., 2012. С. 43—48.
[2] Там же. С. 47—48.
[3] Там же. С. 43—44.
87
Самость не зависит ни от чего, а значит, быть причиной она не может. А вот божественность может принимать сопряженности[1].
Бог не тождественен миру, не находится внутри него, однако божественность как совокупность божественных имен соотносится со всеми вещами мира как их сущими проявлениями. Их отличие заключается в том, что первые являются утвержденными (с̣а̄бита), а последние — сущими (мавджӯда). Это и имеется в виду под «сопряженностью»: они соотнесены как тело и его отражение в зеркале.
Однако связь Бога и мира не сводится к «сопряженности» (соотнесенности утвержденных воплощенностей и вещей мира). Вещи мира обладают бытием, полученным от Бога и через бытие причастны Ему.
Истинный Сущий — само (‘айн) Свое существование в Своей соотнесенности с Собой и со Своей оностью, а также — само (‘айн) то, чем описано Его местоявление[2]. Значит, эта воплощенность (‘айн) — одна в обеих соотнесенностях[3].
Таким образом, оказывается, что мир соотнесен с божественностью как совокупностью божественных имен или утвержденных воплощенностей (а‘йа̄н с̣а̄бита), а бытие, тождественное самости, присутствует в каждой вещи мира. Однако это ставит вопрос, на который у Ибн Араби, по видимому, нет ответа: как самость и божественность, различаясь по функциям, могут оставаться одним, и как можно совместить это положение с тезисом о божественном единстве?
Возможным решением проблемы могло бы быть утверждение того, что божественность является лишь соотнесенностью самости с миром, но сам Ибн Араби говорит о том, что соотнесенность имеется именно между божественностью и миром[4], что исключает рациональное, непротиворечивое понимание этого тезиса в контексте единобожия в силу принципиальной различности самости и божест
[1]Ибн Араби. Избранное / Пер. А. В. Смирнова. Т. 2. М., 2014. С. 186.
[2] «То, чем описано» — это существование, поскольку местоявление Истинного — это возможная воплощенность, которая получила существование.
[3]В обеих соотнесенностях: в соотнесенности Истинного с самим собой, когда он выступает как чистая Самость, и в соотнесенности с сущими возможными вещами, или с миром, когда он выступает как божественность (Ибн Араби. Избранное / Пер. А. В. Смирнова. Т. 2. М., 2014. С. 266).
[4]Смирнов А. В. Бог-и-мир и Истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Араби // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 3. М., 2012. С. 187, 224—225.
88
венности. Утверждение того, что божественность является «степенью самости»[1] также не добавляет ясности в данном вопросе, ибо как может быть совершенно единым то, что имеет различные «степени»? Сам же Ибн Араби говорит о таинственном характере отношения самости и божественности[2].
Предметом дискуссии остается также вопрос о том, можно ли считать систему взглядов Ибн Араби монистичной. С точки зрения субстанциального монизма как наличия лишь одной сущности ответ скорее отрицательный, но монизм может также трактоваться через противопоставление его дуализму. Дуализм, понятый субстанциально, имеет все основания для того, чтобы быть приписанным в этом контексте взглядам Ибн Араби. Если же мы понимаем дуализм как наличие независимой сущности, существующей наряду с Первоначалом, а монизм как ее отсутствие, то в такой трактовке взгляды Ибн Араби могут быть поняты как монистические: мир и Бог, хотя и являются двумя разными сущностями, тесно взаимосвязаны так, что потеря одного из них неизбежно приведет к разрушению всей системы. Эта связь оказывается теснее, чем связь, например, частей тела человека и имеет принципиально иной характер. Бог и мир оказываются двумя сторонами одного отношения или действия, которое нельзя разъять на составляющие. Мир как сотворенное всегда составляет пару Богу как творцу, божественность всегда соотнесена с миром как реципиентом божественного воздействия, что также может трактоваться как форма несубстанциального единства.
У Шабистари обнаруживается стремление к пониманию единства Бога и мира как субстанциального. Он так же, как и Ибн Араби, постулирует непознаваемый характер божественной самости, однако многократно в тексте поэмы указывает на недопустимость утверждения какой бы то ни было множественности или двойственности в универсуме, поскольку она вступает в противоречие с тезисом о божественном единстве. Само представление о наличии чего бы то ни было наряду с Богом совершенно неприемлемо для Шабистари, о чем он прямо говорит на страницах поэмы «Цветник тайны»:
445. «Яйность»[3] подобает Истине,
[1]Ибн Араби. Избранное / Пер. А. В. Смирнова. Т. 2. М., 2014. С. 187.
[2] Там же.
[3]Яйность (̕ана̄ниййат). Дихх̱уда определяет яйность как восприятие всего через отношение к себе (напр. «моя душа», «мой дух», «мое сердце»). В мистической литературе связывается с идеей того, что ничто не существует само по себе, но лишь через Бога, и, таким образом, Богу подобает относиться ко всякой вещи, как имеющей отношение к Нему. «Яйность» Истины (хак̣ӣк̣а) определяет как бытийность без небытийности. URL: http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8beb92938edf479185f44c9eab0f1bce-fa.html (дата обращения 11.09.2013), то есть все сущее принадлежит Богу, связано с Его я. Того же, что находится вне этих отношений, просто нет.
89
Ибо «Он» — это [указание на] отсутствие и отсутствующего[1],
воображение и помышление.
446. В присутствии Истины нет двойственности[2],
В том присутствии нет никаких «я», «мы», и «ты».
447. И «я», и «мы», и «ты», и «он» суть одно,
Ибо в единстве нет никакого различения (тамӣӣз)[3].
448. Кто стал пустым, как [сама] пустота (х̱ала̄), [избавившись]
от себя,
В том раздался отзвук [слов] «Я — Истина».
449. Соединяется с (шӯд ба̄) вечным ликом (ваджх̣-и ба̄к̣ӣ)
гибнущий «иной» (г̣айр-и ха̄лик)[4],
Путь (сулӯк), движение (сайр) и путник (са̄лик) становятся
одним.
450. Здесь невозможны воплощение[5] и соединение (иттих̣а̄д),
Ибо [полагать] двойственность в единстве есть сущее заблуждение (‘айн д̣ала̄л)[6].
[1]Отсутствующий (г̣а̄иб) — в терминах арабской грамматики также и местоимение 3-го лица.
[2] Бихрӯз С̱арватиа̄н предлагает переводить слова джана̄б и х̣ад̣арат как «порог» и «присутствие» соответственно. Таким образом, дословным переводом будет «На пороге присутствия…» (Мах̣мӯд Шабистарӣ. Гулша̄н-и ра̄з/ тас̣х̣ӣх ва шарх̣-и с̣а̄де аз Бихрӯз С̱арватиа̄н. Тихра̄н: 1384. С. 207).
[3]Различения (тамӣӣз) — досл. «отличия», разделенности на множественное, которую предполагает наличие отношений между «я», «ты», «мы», «он» и др.
[4] Зд. аллюзия на два коранических аята: «Всякая вещь гибнет, кроме Его лика» (Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. 28:88), «Что у вас, то погибнет; а что у Бога, то вечно (ба̄к̣ин) » (Коран / Пер. Г. С. Саблукова. 16:98). Таким образом Шабистари говорит о том, что состояние пребывания бак̣а̄’ доступно лишь Богу. Человек же может достигнуть его, осознав себя как неиное Богу.
[5]Воплощение (х̣улӯл) — представление о том, что Бог мог воплотиться в конкретном человеке. К сторонникам этой доктрины исламские авторы традиционно относят христиан, алавитов и отдельные группы суфиев.
[6] Данное высказывание контрастирует с философскими построениями Ибн Араби, утверждавшего важность двойственности в дискурсе о возможном и необходимом бытии. Подробнее см. (Смирнов А. В. Бог-и-мир и Истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Арабӣ // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 3. М., 2012 С. 45—47).
90
451. [Мысли о] воплощении и соединении возникают от «иного»
(г̣айр)[1],
Но единство как таковое возникает от движения [путника
по пути][2].
452. Воплощением (та‘ййун)[3] было то, что отделилось от бытия[4],
Истина не стала рабом, раб не соединился с Истиной[5].
453. Существование творения и множественности — видимость,
Не все то, что видимо, есть собственно бытие (‘айн бӯд)[6].
[1] От иного — представление о том, что есть нечто иное по отношению к Истине.
[2] Лахиджи объясняет данный бейт следующим образом: «Всякий раз, когда путник по пути очищения движется в обратном направлении (от познания Бога к познанию мира. — А. Л.), проявление (таджаллӣ) самостного единства: воплощения и образы, представляемые (муваххим) как умножение и увеличение числа [сущностей], стираются (мах̣в) и уничтожаются (фа̄нӣ)…, и становится ясно, что множество (кас̱рат), дуализм (ис̱нӣйат) и инаковость (г̣айрӣйат) — все умозрительны (и‘тиба̄ри), и кроме единой Истины нет иного сущего (мавджӯди)» (Мух̣аммад Ла̄хӣджӣ. Мафа̄тих̣ ал-и‘джа̄з фӣ шарх̣-и Гулшан-и ра̄з. Тихра̄н, 1371. С. 320).
[3] Воплощение (та‘ййун) — пер. термина А. В. Смирнова. Данный перевод не вполне передает смысл арабского слова та‘ййун. Последний дословно означает «становление ‘айном», то есть вещью в наиболее широком смысле этого слова, включая как сущие вещи, так и вещи, не получившие существования. Слово же воплощение предполагает обретение плоти, что не соответствует содержанию арабского понятия. Тем не менее на данный момент нам не известно варианта перевода, вполне адекватно передающего слово та‘ййун.
[4] Лахиджи объясняет воплощение как возникновение иллюзии (муваххим) инаковости (г̣айрӣйат) и множественности (кас̱рат). Когда же поднимается завеса множественности, становится ясно, что кроме Истины нет другого сущего (мавджӯд) (Мух̣аммад Ла̄хӣджӣ. Мафа̄тих̣ ал-и‘джа̄з фӣ шарх̣-и Гулшан-и ра̄з. Тихра̄н, 1371. С. 321). Представления о том, что есть воплощение (та‘ййун) — вне бытия, то есть небытийно, а следовательно — ложно. В этом ложном представлении средневековый автор видит корень непонимания сути единобожия: если мы предполагаем наличие чего бы то ни было наряду с Богом — мы придаем Ему соучастников, что противоречит кораническому запрету. Если же мы утверждаем отсутствие чего бы то ни было наряду с Богом, то не может быть и соединения с Истиной, так как в этом случае некому с ней соединяться.
[5]Истина не стала рабом — опровержение идеи вселения Бога в человека (х̣улӯл), раб не соединился с Истиной — опровержение тезиса об их соединении (иттих̣а̄д).
[6]Собственно бытие — Истина, Бог. Человеку видится множественность мира, но невидима его (мира) истинная суть, которая есть Единое. В контексте
философских взглядов Шабистари «бытие» противопоставлено «тлению». Единство — пребывает, множество — тленно, иллюзорно, небытийно.
91
Приведенный отрывок рассказывает о познании Истины — Бога и его условиях. Основным условием оказывается формирование особого рода отношений между Богом и познающим Его. Шабистари раскрывает это отношение через местоимения «я» и «он».
Личные местоимения имеют относительный характер: использование того или иного местоимения по отношению к одному и тому же человеку зависит от того, кто является субъектом речи. Если в диалоге между А и Б субъектом является А, то А будет «я», а Б — «ты», если же субъектом будет Б, то Б станет «я», а А — «ты». Такое отношение предполагает разделенность субъекта и объекта речи. Если же оказывается, что разделенности на субъект и объект нет, то стирается и различие между «я» и «ты». Либо «я» становится «ты», либо «ты» — «я», а фактически пропадает и сама возможность называть нечто «я» или «ты». Аналогичная постановка вопроса обнаруживается у Джалал ад- Дина Руми в «Поэме о [скрытом] смысле»:
Один [человек] пришел, в дверь друга постучал.
Сказал друг его: «Кто ты, о доверенный?»
Сказал тот: «Я». Он сказал ему: «Ступай! Не время.
За таким столом места незрелому [человеку] нет».
Незрелого кроме огня расставания и разлуки
Кто испечет? Кто освободит [его] от лицемерия?
Ушел тот бедняк, [проведя] год в путешествии,
В разлуке с другом, обжигаясь искрами.
Испекся тот сгоревший, затем возвратился,
Вновь вокруг дома напарника обошел.
Кольцом ударил по двери он, [исполненный] сотней страхов
и учтивостью,
Чтоб не сорвалось неучтиво какое-нибудь слово с губ.
Крик издал друг его: «У двери кто там?»
Сказал тот: «У двери ты сам, о сердце забравший».
Сказал он: «Сейчас раз я ты есть, то, я, входи!
Нет вместилища двум я в [одном] доме»
(пер. О. Ф. Акимушкина)[1].
Здесь в истории о двух друзьях воспроизведены отношения мистика и Бога. Пока мистик воспринимает себя чем-то внешним по отношению к Богу, он не может Его достигнуть. В приведенной истории это выражается через указание мистиком на себя — «я». Когда же
[1]Джалал ад-дин Мухаммад Руми. Маснави-йи ма’нави («Поэма о скрытом смысле»). Первый дафтар. СПб., 2007. С. 217.
92
он осознал иллюзорность разделенности человека и Бога, он указал на себя «ты», подчеркнув свою тождественность, неинаковость Богу, и как неиной Богу он переживает опыт достижения Бога, ведь, как неоднократно подчеркивает Шабистари, небытийное возможное не может достичь необходимого («Как небытийное возможное [может] достигнуть необходимого?!» (бейт 474)). Фактически, опыт достижения заключается в осознании своей неинаковости по отношению к Богу, отсутствия какой бы то ни было разделенности.
Тот же принцип мы видим и в приведенном отрывке из Шабистари, с той лишь разницей, что идея отсутствия разделенности человека и Бога подается через местоимения «я» и «он», где «он» указывает на обращение к Богу как иному по отношению к человеку, и здесь Шабистари вступает в заочную полемику с Ибн Араби, для которого оность и самость были почти синонимами[1]. Однако важно понимать, что оность не является именем самости. Для Ибн Араби весьма важен тезис о том, что у самости не может быть никакого имени[2]. Мы уже упоминали, что различение в Боге трансцендентной «оности» и божественности, связанной со множественным миром, рождает вопросы о следовании Ибн Араби принципу тавх̣̣ӣда, но, даже если не обращать внимания на эту проблему, для Шабистари оказывается неприемлемым выделение мира или человека как чего-то иного по отношению к Богу, чего-то, что претендует на наличие наряду с Богом, о чем Шабистари и пишет в приведенных выше бейтах 445—447, и в этой связи в 448 бейте отсылает нас к известному высказыванию Мансура Халладжа «Я — Истина».
Вспомним, что для Ибн Араби большую роль играла идея разделенности, мира и Первоначала. По этой причине он, подобно Плотину, вместо точки и линии использует образ точки и окружности (у Плотина — круг). Центральная точка у Ибн Араби не тождественна точкам окружности, она является причиной их существования, они же — ее своеобразными проекциями. Также и Единое является источником существования вещей, вещи же не тождественны Единому, более того, Единое трансцендентно им, но, вместе с тем, и находится в отношении особого рода связи — связи действующего с претерпевающим. Ибн Араби в этом контексте говорит о связи
божества и обожествляемого, но обожествляемого не в смысле получения статуса божественности или отождествления с божеством, а обо
[1]Ибн Араби. Избранное / Пер. А. В. Смирнова. Т. 2. М., 2014. С. 265.
[2] Там же. С. 297—298.
93
жествляемого как находящегося под воздействием божественного. Это отношение связывает Бога и мир, но не субстанциальной связью (здесь проявляется отличие от системы, предложенной Плотином), что позволяет соблюсти принцип одновременной трансцендентности и имманентности Бога множественному миру.
Шабистари привлекает все три образа — единицы-множества чисел, точки-линии, точки-окружности — как взаимозаменяемые. Он стремится к моделированию системы абсолютного монизма, и разделенность мира и Бога была для него неприемлема. Решением стало утверждение Бога как единого и единственного сущего. Бог порождает все множество вещей, как единица порождает числовое множество (напр. 3 = 1 + 1 + 1), как и линия, являющаяся многократным повторением точки. Поэтому, привлекая образ центральной точки и окружности, в отличие от Ибн Араби, Шабистари считает точки окружности не проекциями центральной точки, но ею же самой:
156. Из каждой отдельной точки получилась кружащаяся
окружность,
Она [Есть] и центр, и [точка] идущая по кругу[1].
Отождествление центральной точки и точек окружности нивелирует различия в отношениях точка-линия и точка-окружность: центральная точка как источник окружности важна, если мы предполагаем совершенную трансцендентность Первоначала. Если же источником окружности признается не только центральная точка, но и первая точка на окружности, которая, двигаясь по кругу, образует эту окружность, то мы получаем то же отношение «линия—точка», которое критиковал Плотин, только эта линия замыкается в окружность. Центральная точка была важна Ибн Араби и Плотину для утверждения трансцендентного характера Первоначала. Шабистари исходит из представления о неинаковости мира Богу, утверждения того, что мир неотделим от Бога, но является его внешней стороной, внешностью, если угодно. Поэтому он свободно совмещает образы единицы-множества чисел, точки-линии, точки-окружности как рав
[1] В бейтах 155—156 говорится о космологической модели, представленной в виде системы окружностей. Их центром является Истина, она же проявляется в каждой точке, находящейся на окружности. Показательно, что Плотин также описывает соотношение множественного мира и Единого как отношения окружности и центральной точки. Однако Плотин никогда не отождествлял центральную точку с точками окружности, настаивая на трансцендентности первой. Для Шабистари же важно показать, что не существует бытия, кроме Единого.
94
нозначные, что для Плотина было бы невозможно. Для Шабистари важно лишь то, что мир не является чем-то иным по отношению к Богу, а потому и невозможно соединение человека и Бога, ведь соединение предполагает наличие первоначальной разделенности, а если разделенности нет, не может быть и соединения, о чем и говорится в приведенных выше бейтах 451—452. Задача мистика заключается не в преодолении каких бы то ни было внешних препятствий для соединения с Богом, но в освобождении от иллюзии их разделенности, осознании того, что он не является чем-то иным по отношению к Богу, в выстраивании отношений с Ним по принципу «я».
Нельзя не отметить тот факт, что, хотя идеи гомогенности универсума и являются превалирующими в построениях Шабистари, периодически в поэме встречаются высказывания, говорящие о творении мироздания как об акте, например:
Он — Всемогущий, который в мгновение ока (т̣арафат аль- ‘айн)
Из «кяфа» и «нуна»[1] явил оба мира (кӯнайн)[2].
В данном бейте речь идет о мгновенном акте творения мироздания, «мгновение ока» дословно следует понимать как мгновение моргания: то есть мира не было, моргнул — мир есть, и непонятно, как он вдруг появился. Этот образ, насколько это возможно, удачно иллюстрирует появление мира из ничего. Мир — не только и не столько все многообразие вещей, сколько пространственно-временная система координат. Вне ее нет времени, а потому не может быть и протяженного во времени процесса творения. Мир является вместе со временем, а потому не имеет начала во времени, напротив, имеет Бога безначальным источником своего бытия. Мы не можем задать
[1] Буквы арабского алфавита «кяф» (ک) и «нун» (ن), составляют глагол в повелительном наклонении кӯн «Будь!». Это — аллюзия на Коран: «Когда Мы захотим быть чему либо, тогда наше слово только в том, чтобы нам сказать: «будь!» и то получает бытие» (Коран / Пер. Г. С. Саблукова. 16:42).
[2] Игра слов с аллюзией на два коранических аята: «Поистине, Господь ваш — Аллах, который создал небеса и землю…» (Коран / Пер. И. Ю. Крачковского. 7:52), «Когда Мы захотим быть чему либо, тогда наше слово только в том, чтобы нам сказать: «будь!» и то получает бытие» (Коран / Пер. Г. С. Саблукова. 16:42). Игра слов основана на сочетании букв «каф», «вав» и «нун»: «каф» и «нун» дают вместе слово кӯн — «будь!», если между ними находится буква «вав», являющаяся также и союзом «и», мы получаем слово кавн — бытие, мир. Таким образом, «каф» и «нун», соединенные союзом «и», дают слово «бытие».
95
вопрос о времени, когда был Бог, но не было мира: когда не было мира, не было и времени, о котором можно было бы задать вопрос «когда?», а, значит, не было и времени, когда был бы Бог, но не было бы мира, что подразумевает их единство с самого первого момента существования пространственно-временной системы координат. В этом утверждении Шабистари солидарен с Ибн Араби, которого прямо или косвенно критикует на страницах своих произведений по другим вопросам. Комментируя вопрос о творении мира Ибн Араби пишет:
Между ним (миром. — А. Л.) и его Создателем не было никакого времени, и Он не предшествовал ему, а оно не отставало от Него, когда бы говорилось об этом «после» и «до». Это невозможно. Нет, Бог предшествует ему по существованию (би ал-вуджӯд), как вчера предшествует сегодняшнему дню, ибо это — предшествование без времени, поскольку оно — само время. Небытие мира не было во времени, но воображению представляется, что между существованием Истинного и существованием Творения [имела место временнáя] протяженность. Это восходит к обыкновению усматривать чувством временное предшествование и отставание между возникшими вещами[1].
Шабистари, как и Ибн Араби, отвергает идею единовременного акта творения, они оба говорят об отсутствии у мира своего бытия и утверждают Бога вневременным началом мира, источником его бытия.
Основным различием в подходах философов является то, что Ибн Араби, стремясь к моделированию системы мироздания таким образом, чтобы очистить Первоначало от всякой множественности, опирается на принцип двойственности (тас̱нийа) выводя множественность мира вовне божественного единства. Шабистари же, стремясь к предельному единству, утверждает иллюзорность множественности как таковой. Для него в мире нет ничего иного Богу, а потому акт творения оказывается не созданием чего-то нового, но проявлением Абсолюта, которому «полюбилось стать вéдомым»[2], и Он, оставшись самим
собой, проявился в виде мира. Эта самоманифестация в виде мира не была творением из некоего субстрата, внешнего по отношению
[1]Ибн Араби. Избранное / Пер. И. Р. Насырова. Т. 1. М., 2013. С. 59.
[2] «Я был кладом неведомым, и полюбилось Мне стать ведомым. Я сотворил людей, ознакомил их с Собой — и они узнали Меня» (Цит. по: Ибн Араби. Мекканские откровения. Избранное / Пер. А. В. Смирнов. М., 2013. С. 330).
96
к Богу, а потому, утверждая отсутствие такового субстрата, Шабистари говорит о явлении мира в небытии как отсутствии чего бы то ни было, имеющегося наряду с Первоначалом:
136. Поскольку небытие в своей самости было чистым,
В нем стал явленным скрытый клад.
Когда же Шабистари говорит о чистой самости небытия, речь, очевидно, идет не о бытии как некоторой области, которая имеет наряду с бытием и свою самость, а последняя — качество чистоты. Речь идет о том, что небытие было полным отсутствием чего бы то ни было, имеющегося наряду с Богом, и таким образом Бог творит мироздание вместе с пространством и временем не из чего-то внешнего по отношению к себе, поскольку кроме Него самого ничего нет. В противном случае мир, явленный в чем бы то ни было, ощутил бы на себе его влияние как субстрата, и не мог бы стать совершенным проявлением божества, но нес бы на себе характеристики того субстрата, в котором зародился. Кроме того, наличие такого субстрата привнесло бы множественность в монистичную систему, что для Шабистари принципиально неприемлемо, поскольку противоречит идее единобожия. Именно в совершенной отрицательности небытия и заключалась та чистота, что позволила Богу проявиться в виде мира, не претерпев качественного изменения, которое бы имело место в случае взаимодействия мира как формы божественного проявления с чем-то иным по отношению к Богу, не говоря уже о том, что предположение о наличии некоторого субстрата, существующего наряду с Богом, нарушило бы божественную единственность.
Тем не менее нельзя не отметить ряд сложных мест, которые вступают в противоречие с изложенной теорией, в частности, использование терминологии фала̄сифа — «необходимое-возможное бытие».
В фальсафе эта теория связывается прежде всего с Ибн Синой, развивавшем ее, в частности, на страницах своего трактата «Книга знания». Она сводится к делению бытия на «необходимо-сущее благодаря самому себе» — Первоначало, Бога; «необходимо-сущее благодаря другому (Богу или другой причине), но возможно-сущее благодаря себе», — актуально явленные вещи мира; «возможно-сущее благодаря себе, но невозможное благодаря другому» — вещи, не явленные
в актуальном мире; «невозможное благодаря самому себе» — вещи, которые никогда не могут обрести существование. Необходимость здесь
97
тождественна существованию: сущее только то, что с необходимостью получило бытие от некоторой причины, а поэтому Первоначало, Бог является единственным сущим, необходимым само по себе. Все остальные вещи сами по себе — возможные и получают бытие или небытие от Первоначала, становясь, таким образом, либо необходимыми благодаря другому, либо невозможными благодаря другому. Цепь причин восходит к начальной точке причинности — Первоначалу, что позволяет избежать дурной бесконечности.
Данная система, очевидно, предполагает разделенность самостно возможного и необходимого бытия — мира и Бога. Бог, Первоначало является внешней причиной, которая дает существование самостно-возможной вещи. Таким образом, модус возможности вещи не предполагает ни ее существования, ни несуществования, соотносимые в данном контексте с необходимостью и невозможностью. Такую же роль в других направлениях исламской философии (прежде всего в мутазилизме и философском суфизме Ибн Араби) играет понятие утвержденной воплощенности (‘айн с̱а̄бит) — вещи как таковой без атрибутов существования и несуществования, которые она получает от Бога и становится, таким образом, либо сущей, либо несущей.
Разделенность мира и Бога как необходимого и возможного, столь важная для Ибн Сины и Ибн Араби, неприемлема для Шабистари, стремившегося к моделированию предельно монистичной системы взглядов, где любая инаковость (г̣айриййа) — иллюзия. Иллюзорным оказывается и разделение бытия на возможное-необхордимое
и вещей — на утвержденную воплощенность (‘айн с̱а̄бит)-бытие (вуджӯд). Неслучайно, на страницах его поэм мы не встречаем употребление термина ‘айн с̱а̄бит.
Шабистари отвергает любую двойственность и разделенность не только в вопросе о сущности Первоначала, но и о сущности любой вещи, которая, будучи явной стороной Бога, будучи неотъемлемой от Него, может быть лишь едина:
714. Поскольку бытие каждой [вещи] едино,
[Оно] стало свидетельством единства Истины.
Она не может содержать в себе ни множественности, ни двойственности, за приверженность которой средневековый поэт критикует в «Цветнике тайны» фаласифа:
98
102. Оттого, что в глазах у философа двоилось[1],
Ему осталось недоступным единство видения Истины.
Причиной критики является то, что они, разделяя бытие на возможное и необходимое (неслучайно автор говорит об эффекте двоения в глазах): полагают два вместо одного и этим нарушают принцип совершенного единства, которому ничто не может быть рядоположенно.
В вопросе о познании Истины он также придерживается мнения о том, что нельзя воспринимать божественную самость в отрыве от ее проявления, ее явности — метод очищения (танзӣх), равно как и ограничиваться в познании ее множественными проявлениями — метод уподобления (ташбӣх):
103. От слепоты пришло суждение, [построенное]
на «уподоблении»[2],
Постижение, [построенное на] «очищении»[3] — от одноглазия.
Разъясняя этот бейт Мухаммад Лахиджи говорит, что познание Истины нельзя свести ни к танзӣху, ни к ташбӣху. Те, кто используют ташбӣх, уподобляют Истину миру, тем самым они замыкаются в мире и не видят божественную самость (отсюда — образ слепоты). Те же, кто используют танзӣх, утверждают неописуемость самости, но игнорируют мир как ее проявление (отсюда — образ одноглазия). Люди же истины (суфии) соединяют ташбӣх и танзӣх. Они говорят, что божественная самость, не имеющая атрибутов, проявляется в каждой вещи мира, и, таким образом, все множество проявлений уподобляется ей (самости). Таким образом, только те, кто совмещают ташбӣх и танзӣх видят Истину обоими глазами[4].
[1]Двоилось — букв. «[глаза] были косыми». Двоение не всегда сопровождает косоглазие, однако комментаторы (Лахиджи, Сарватиян) делают акцент именно на этом симптоме офтальмологического недуга. Метафора «косоглазия» нередко используется суфийскими авторами (‘Аттар, Руми), чтобы подчеркнуть, что субъект видит два образа вместо одного. Шабистари этим указывает на разделение необходимого и возможного бытия в арабском перипатетизме, в то время как Истина едина и неделима.
[2]Уподобление — (ташбӣх) — уподобление Бога миру, стремление описать Его через атрибуты и качества множественного мира.
[3]Очищение — (танзӣх). Отказ от любых характеристик в дискурсе о Первоначале, утверждение Его совершенной несравнимости с чем бы то ни было в эмпирической реальности.
[4]Мух̣аммад Ла̄хӣджӣ. Мафа̄тих̣ ал-и‘джа̄з фӣ шарх̣-и Гулшан-и ра̄з. Тихра̄н, 1371. С. 69.
99
О явности же различий вещей мира Шабистари говорит как о том, что явилось благодаря «хамелеону возможности»:
713. Явность различий и множество рангов (ша’н)
Явились благодаря хамелеону (бӯг̣ламӯн)[1] возможности.
Словом бӯг̣ламӯн называется не только хамелеон, но и переливчатый шелк — те вещи, которые, сохраняя свое субстанциальное единство и неизменность, способны создавать видимость перемены цвета. Так же и множественность мира является лишь видимостью, в то время как в действительности мир как явность Бога един, неразделим и неизменен.
Серьезная сложность заключается в том, что Шабистари одновременно и развивает идею радикального монизма, использует терминологию возможности-необходимости фала̄сифа, и критикует представителей восточного перипатетизма именно за использование этой терминологии в виду того, что она предполагает разделенность Бога и мира. С одной стороны, Шабистари утверждает принципиальную невозможность преодолеть пропасть между необходимым и возможным, а с другой — говорит о том, что человек достигает Истины, отбросив покров воображаемой инаковости мира по отношению к Богу:
506. Достижение (вис̣а̄л) этого положения есть упразднение
воображаемого (х̱иа̄л),
Если [покров] иного[2] поднимается перед [тобой] это —
достижение (вис̣а̄л) [Истины].
507. Не говори: «возможное преодолело свой предел»,
Ни оно не стало необходимым, ни необходимое не превратилось
в него.
Эти противоречия довольно трудно объяснить. Можно предположить, исходя из принципиального стремления Шабистари к моделированию радикально монистической системы, что категории возможного-необходимого были заимствованы им из сочинений фаласифа или у Ибн Араби, который также активно ими пользовался. В системе взглядов последнего эти категории присутствуют достаточно органично, поскольку он утверждает принципиальную трансцендентность божественной оности. Шабистари же показывает, что если
[1]Хамелеон (буг̣ламӯн) — также «переливчатый шелк». На основании свойства изменения цвета стал метафорой изменчивого мира.
[2]Иного — в изданиях Сарватияна и Лахиджи — «воображаемого».
100
Бог и мир разделены как необходимое и возможное, человек не может преодолеть пропасть, лежащую между ними. Само представление о субстанциальной разделенности мира и Бога, лежащее в основании теории возможного-необходимого бытия, по Шабистари, противоречит идее тавхӣда и является формой дуализма. Для средневекового философа любая множественность — видимость, иллюзия, следовательно, иллюзорен и статус возможности мира. В акте постижения Истины, соединения с ней, ни человек не становится из возможного необходимым, ни Бог не превращается из необходимого в возможное, человек лишь освобождается от иллюзии того, что он является чем-то иным по отношению к Богу. Использование же категорий возможности и необходимости для Шабистари, очевидно, имеет под собой основанием представление о том, что мир не имеет самостоятельного бытия, отличного, отдельного от бытия божественного, самостно-необходимого. Мир существует лишь как неотъемлемая от Бога явность. Это разделение чисто условно и не предполагает фактической разделенности между миром и Богом, напротив, подчеркивает единство Бога и мира как не существующего вне Единого. В качестве примера такого отношения комментатор — Мухаммад Лахиджи — сравнивает Бога и мир с океаном и волнами: когда мы видим океан, нашему взору предстают волны. Они скрывают от нас океанские глубины, но не являются чем-то иным по отношению к океану[1].
В трактовке отношения между миром и Богом в системах взглядов Ибн Араби и Шабистари имеется существенная сложность, связанная с признанием субстанциального единства или субстанциальной различности мира и Бога. Ни один из авторов не говорит непосредственно о том, какой характер имеет то единство, о котором они рассуждают. Этот вопрос для них, очевидно, лежит в области априорного знания. Оба автора утверждают, что у мира нет бытия, кроме бытия, полученного от Первоначала (у Ибн Сины аналогичную роль играет необходимость, а у аль-Кинди — единство), и сам по себе этот тезис не свидетельствует в пользу их субстанциального единства или разделенности. Возможно восприятие текстов Ибн Араби, в соответствии с которым эта двойственность не противоречит единству миропорядка. Само единство в соответствии с этой трактовкой воспринимается не как единство субстанции, а как единство действия или отношения. Само же действие с необходимостью предполагает наличие двух сторон —
[1]Мух̣аммад Ла̄хӣджӣ. Мафа̄тих̣ ал-и‘джа̄з фӣ шарх̣-и Гулшан-и ра̄з. Тихра̄н: 1371. С. 320.
101
действующего и претерпевающего. Эта двойственность не нарушает единство действия, но, напротив, конституирует его. В этом, по всей видимости, заключается причина, по которой Ибн Араби в своих произведениях делает акцент на двойственности (тас̱нийа), той самой двойственности, которая совершенно неприемлема для Шабистари и за которую он критикует тех же фаласифа.
Вместе с тем, Шабистари не может избежать рассуждений о множественности мира (излагая, например структуру мироздания) или его возможности в противовес единству Первоначала, что, конечно, само по себе противоречит идее радикального монизма универсума. Приведенный выше образ океана и волн как нельзя лучше иллюстрирует отношение между радикальным единством Первоначала и множественностью Его проявлений. Являются ли волны чем-то принципиально иным по отношению к океану, нарушают ли они его единство? Нет, они — тот же океан, но открытый взору. Таково же отношение непознаваемой божественной самости к миру: мир есть то, что зримо, явно, самость — то, что скрыто, подобно тому, как, когда мы наблюдаем за любой вещью, нашему взору предстает ее явность, но большую часть этой вещи мы не видим. Понятие явности здесь не совпадает с понятием поверхности: поверхность можно вскрыть и увидеть, что под ней, но явностью является то, на что падает взор. Мы можем сколь угодно долго срезать кожуру с яблока, удаляя тем самым поверхность и наблюдая за тем, что находится под этой кожурой, но мы всегда видим только явность и не можем проникнуть за ее покров, о чем и пишет Шабистари, когда говорит о невозможности видеть Истину при помощи природных органов зрения:
101. Разуму не выдержать света того лика (Истины. — А. Л.),
Иди, ищи другие глаза, чтобы [созерцать] его!
Вместе с тем невозможность увидеть самость не говорит о ее трансцендентности или отделенности от того, что предстоит нашему взору. Подобно океанским глубинам самость скрыта за явностью волн, не будучи чем-то иным по отношению к ним.
И Ибн Араби, и Шабистари стремится к моделированию единого миропорядка, однако делают это по-разному. Шабистари порицает любую двойственность и множественность как нарушающие субстанциальное единство миропорядка и привносящие в него сущность, которая имеется наряду с Богом. Ибн Араби также моделирует единую систему, но единство здесь не субстанциальное. Это — единство действия или отношения, которое с необходимостью предпола
102
гает наличие двух полюсов и не может быть редуцированно до одного из них.
Подводя итог, следует отметить, что Шабистари, несомненно, был самостоятельным мыслителем, искавшим ответы на наиболее значимые философские вопросы своего времени. Он не шел путем какой-то одной школы, но использовал решения, выработанные в разных направлениях. С точки зрения философского пуризма, его, наверное, можно обвинить в эклектичности, и проблемы, связанные с использованием разнородного философского материала, мы обозначили в данном исследовании. Однако интерес представляет не только система его взглядов как целостность, но и критерии отбора им материала для ее моделирования: какие идеи были им заимствованы, какие — отвергнуты? Какие авторы были его основными интеллектуальными ориентирами? В чем заключалась причина его лояльности к одним авторам и нетерпимость к другим? Попытка поставить Шабистари и его учение о единстве и множественности в контекст его философской эпохи и стала, таким образом, основным содержанием данной работы.
 |

|
 |

|
105
Длительное время исламское философское наследие рассматривалось в контексте средневековой философии как таковой, за исключением некоторых традиций преимущественно национального толка (например, персидской). Классическое европейское востоковедение ставило своей задачей выявить значимость направлений исламской философской мысли как «параллельных традиций», сосуществовавших в один период с философией европейской и даже существенно на нее повлиявших. То, что выходило за рамки этого периода (как в содержательном, так и хронологическом аспекте), обычно рассматривалось как периферийные явления, выходящие за пределы собственно философского дискурса и относящиеся к религии, мистицизму, литературе или другим культурным пластам. По этой причине более поздние феномены интеллектуальной истории исламской цивилизации оказывались за пределами наиболее популярных направлений исследования. Утвердилось и расхожее мнение о том, что в «постклассический» период исламская философская мысль пребывала в «явной стагнации» (М. Вотт)[1]; в большинстве случаев (достаточно вспомнить двухтомник «A History of Muslim Philosophy» под редакцией М. М. Шарифа)[2] постклассическое наследие вообще не рассматривалось как нечто интересное для изучения и, тем более, значимое для понимания исламской философии в целом. Исключение составляет лишь персидская философская мысль, в частности, наследие С̣адр ад-Дӣна аш-Шӣра̄зӣ и других авторов. Показательна в этом отношении оценка немецкого востоковеда ХІХ в. Августа Мюллера, который в своей
[1]Watt M. W. Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987. P. 33.
[2] A Histrory of Islamic Philosophy / Ed. by M. M. Sharif. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966. Vol. 1, 2.
106
«Истории ислама» отмечал: «Со времени владычества монголов под умственной работой на мухаммеданском востоке разумеют ничего более, как вечное пережевывание одних и тех же грамматических, логических, юридических и теологических положений, причем единственная цель для вызова остроумия — это украшение их с внешней стороны с помощью все новых тонкостей»[1]. К сожалению, как отмечает в одной из своих недавних статей турецкий исследователь Алпарслан Ачигенч, за прошедший век ситуация коренным образом не изменилась — например, развитие философии в Османской империи все еще требует комплексного изучения взамен частичных исследований[2].
Несмотря на то что в последнее время количество публикаций, посвященных постклассическому периоду, значительно возросло (достаточно вспомнить проект изучения комментаторского наследия Р. Вишньовски[3], статьи американских авторов Х. Ал-Руайхиба[4], М. Кука[5], турецких исследователей Х. Кучука[6], Р. Демира[7] и др.), особенности философской мысли этого времени вызывают целый ряд вопросов, относящихся как к содержательным, так и логико-смысловым характеристикам. Следует также отметить, что под «постклассическим периодом» исламской философии мы понимаем время в промежутке XIІІ/ХІV—XVIII/XIX вв., то есть от эпохи деятельности последних оригинальных авторов (Ибн Рушд в фалсафе, Ибн ’Арабӣ в суфизме, Ибн Х̱алдӯн) до начала колонизации и, как следствие, последующей вестернизации практически всего исламского Востока.
[1]Мюллер А. История ислама. М.: АСТ, 2004. Т. 3. C. 461.
[2]Açıkgenç A. The Konya School of Philosophy as a Historical Framework of Ottoman Thought // Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization. № 17. 2012. P. 1—23.
[3]Wisnovsky R. The nature and scope of Arabic philosophical commentary in post-classical (ca. 1100—1900 AD) Islamic intellectual history: Some preliminary observations // Supplement to the Bulletin of the Institute of Classical Studies 83/1—2. London: Institute of Classical Studies, 2004. P. 149—191.
[4]Khaled El-Rouayheb. Opening the Gate of Verification: The Forgotten Arab-Islamic Florescence of the 17th Century // International Journal of Middle East Studies. № 38. 2006. P. 263—281.
[5]Cook M. On Islam and comparative intellectual history // International Institute for Asian Studies Newsletter. № 43. 2007. P. 7.
[6]Küçük, Harun. Natural Philosophy and Politics in the Eighteenth Century: Esad of Ioannina and Greek Aristotelianism at the Ottoman Court // The Journal of Ototman Studies. Vol. 41. 2013. P. 125—159.
[7]Demir R. Philosophia Ottomanica. Vol. 1—4. Ankara: Lotus Publications, 2007.
107
«Классическая» же исламская (арабская) философия, как отмечает А. В. Смирнов, очерчивает временные рамки VIII—XV вв[1].
Значительное распространение в постклассический период приобрела практика «верификации» (тах̣к̣ӣк̣), а также логическая (мант̣ик̣) и герменевтическая (ус̣ӯл ал-фикх) методология, применяемая в различных областях знания. Новейшие исследования показывают, что, например, в Османской империи наметилась тенденция к проникновению восточного перипатетизма в ’илм ус̣ӯл ал-фик̣х, особенно в части логической методологии и позиционирования этой дисциплины как одной из наук[2]. В этой связи следует обратить внимание на феномен «собирания знаний» в постклассической исламской философии, связанный с продолжением традиций классического энциклопедизма. Именно в постклассическую эру были предприняты успешные попытки соединить частные понятия в виде определенного тезауруса, достичь «всеобщих» (куллиййа̄т) и «утвержденных» (с̱а̄бита) смыслов. Такие задачи ставили перед собой аш-Шарӣф ал- Джурджа̄нӣ (1339—1413) в его известной «Книге определений», Абӯ ал-Бак̣а̄’ ал- Кафаувӣ (1619—1682/1683) в «Книге всеобщих понятий», Мух̣аммад ’Алӣ ат-Таха̄навӣ (XVIII в.) в труде «Раскрытие понятий искусств и наук» и еще целый ряд других авторов. «Собирание», относящееся, на этот раз, уже к исходному тезаурусу наук, характерно и для «Ключа к счастью» османского энциклопедиста Ах̣мада Т̣а̄шкубрӣ-За̄де (1495—1561). Рассматривая указанные источники (и ряд других трудов этого периода) через призму логико-смыслового подхода, доклад планируется посвятить двум главным задачам. Во-первых, исследованию соотношений между общими смыслами как «корнями» и разбросанными понятиями как «ветвями», то есть особенностями процедуры «ветвления» (тафрӣ‘). Во-вторых, следует определить, в каких именно условиях и под влиянием каких факторов становилось возможным «завершение» («раскрытие», инкаша̄ф) процедуры выяснения, делающее сам смысл «искомым» (мат̣лӯб) и «понятным» (мафхӯм), достигшим полноты и не требующим дополнительных пояснений. В конечном итоге, все это позволит приблизиться к более адекватным
[1] Смирнов А. В. История классической арабской философии: основные итоги выполнения проекта РГНФ 02-03-18013а // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 1 (42). 2006. C. 106—113.
[2]Atçil, Abdurrahman. Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300—1600): Aristotle’s Theory of Sciences in Works on Uŝūl al- Fiqh // The Journal of Ototman Studies. Vol. 41. 2013. P. 33—55.
108
оценкам постклассической исламской философии и ее общему значению в истории восточных философий.
В первую очередь, следует остановиться на том, то формат философских дискуссий постклассического периода (а соответственно, круг и востребованность интересов) во многом определяла сложившаяся система образования, представленная мектебами и медресе. В настоящее время довольно неплохо изучена сеть учебных заведений, действовавшая на территории мамлюкского Египта, Османской империи, Персии, Индии. Учебные программы медресе, включавшие, среди прочих дисциплин, основы права, логику и кала̄м, открывали путь для грядущего синтеза ранее разводимых в разные стороны дисциплин. Существующие документы (труды и списки трудов, изучаемых в медресе) позволяют делать вывод о том, что в «учебных программах» школ Османской империи видное место занимало наследие Ибн Сӣны и его комментаторов (Нас̣̣ӣр ад-Дӣна ат̣-Т̣ӯсӣ, 1201—1274, К̣ут̣б ад-Ди̣на ар-Ра̄зӣ, 1295—1365); активно изучались труды Фах̱р ад-Дӣна ар-Ра̄зӣ (1149—1209), ‘Ад̣ӯд ад-Дӣна ал-Ӣджӣ (1281—1355), Са‘д ад-Дӣна ат-Тафта̄за̄нӣ (1322—1390), ‘Абдаллы ал- Байд̣а̄вӣ (ум. 1286), Абӯ ал-Барака̄та ан-Насафӣ (ум. 1310), Наджм ад-Дӣна ан- Насафӣ (1068—1142), Ас̄ир ад-Дӣна ал-Абхарӣ (ум. 1264), Джала̄л ад-Дӣна ад-Давва̄нӣ (1427—1512) и других авторов, сопровождаемые многочисленными комментариями (шарх̣) и супракомментариями (х̣а̄шийа)[1]. Во многих из этих трудов (отличные примеры — Хида̄йа ал-Х̣икма ал-Абхарӣ и Кита̄б ал-Мава̄к̣иф фӣ ‘илм ал-Кала̄м ал-Ӣджӣ) совмещались исследования сразу по нескольким областям философской мысли — и кала̄ма, и фалсафы (логики, онтологии, теории познания), и ус̣ӯл ал-фик̣х, предлагалась идея некоего методологического единства, исходной непротиворечивости различных полей рационального знания. Еще Ибн Х̱алдӯн в Мук̣аддиме отмечал, что «новейшие» (мута’ах̱х̱ирӯн) муттакалимы, последователи Фах̱р ад-Дӣна ар-Ра̄зӣ, «смешали» проблемные поля фалсафы и кала̄ма[2]. В Османской империи, как отмечает турецкий исследователь О. Айдин, на некоторых уровнях восприятия философской рефлексии произошел своеобраз
[1] См. Ahmed Sh., Filipovic N. The Sultan’s Syllabus: A Curriculum for the Ottoman Imperial medreses Prescribed in a fermān of Qānūnī I Süleymān, Dated 973 (1565) // Studia Islamica. № 98/99. 2004. P. 183—218; Sievert H. Eavesdropping on the pasha’s salon: usual and unusual readings of an eighteenth-century bureaucrat // The Journal of Ottoman Studies. 41. 2013. P. 159—196.
[2]Ибн Х̱алдӯн. Мук̣аддима / Ред. Х̱алӣл Шаха̄дах. Бейрут: Да̄р ал-Фикр, 1421/2001. С. 707—714.
109
ный синтез между ашаризмом и матуридизмом, рассматриваемых как единое целое, то есть кала̄м вообще[1]. Подобные процессы происходили и в иных частях исламского мира — в Средней Азии, Персии, Индии.
Однако уже на завершающих этапах (ХVI—XVIII вв.) постклассического периода осознание единства метода и ощущение «завершенности» многих философских дискуссий прошлого не вели к пониманию непротиворечивости собственной философской традиции. Так, в творчестве многих поздних авторов наметилась тенденция возврата к трудам Ибн Сӣны с целью устранения недоразумений в многочисленных трудах его последователей. Уже в XVIII в., например, два крымских автора — Мух̣аммад ал-Кафаувӣ (ум. 1754) и Мух̣аммад ал-Ак̣кирма̄нӣ (ум. 1761) — пытались «восстановить» взгляды Ибн Сӣны во всей их полноте. Показателен в этом отношении трактат ал-Ак̣кирма̄нӣ ‘Ик̣д ал-ла̄’а̄лӣ фӣ байа̄н ‘ан ‘илми-хи та‘а̄ла би г̣айр мутанахӣ, где подвергаются критике более двух десятков постклассических авторов (в том числе и указанные выше), однако Ибн Сӣна̄ остается единственным непререкаемым авторитетом[2]. Важно было, как свидетельствуют постклассические тексты, выйти на исходное значение базовых категорий у Ибн Сӣны, в том числе столь употребляемых, как ва̄джиб, вуджӯд, мумкин, мустах̣ӣл и другие. Формулировки, предложенные «первейшим из шейхов», еще длительное время определяли содержимое учебного дискурса медресе.
В конечном итоге эти и многие другие процессы воплощались в необходимости уточнения смыслов первичного тезауруса наук вообще (охватывая все без исключения «рациональные науки», ‘улӯм‘аклиййа, а также и «шариатские», шар‘иййа). Целью этих проектов было построение такой системы смысловых единиц, которая позволяла бы достичь «корней» (’ус̣ӯл) и проследить «разветвления» значений, используемых, по определению индийского ученого
[1]Aydin O. Kalam between tradition and change: the emphasis on understanding of classical Islamic theology in relation to western intellectual effects // Change and essence: dialectical relations between change and continuity in the Turkish intellectual tradition / Ed. by Sinasi Gündüz, Cafer S. Yaran. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005. P. 105.
[2]15 См. подробное исследование этого небольшого трактата в моей работе: Yakubovych, Mykhaylo. Muḥammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La’ālī: the Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire // The Journal of Ottoman Studies. № 41. 2013. P. 197—219.
110
Мух̣аммада ат- Таха̄навӣ, в «записанных науках» (‘улӯм мудаввана)[1]. Как отмечал в предисловии к своему «Ключу к счастью и светильнику господства» уже упомянутый Ах̣мад Т̣а̄шкубрӣ-За̄де,
...поскольку постижение наук невозможно без их представления в виде наименования, определения, предмета и пользы, то в этом послании мы хотим определить все эти вещи по отношению к каждой науке, ее корню и ветви[2].
Поэтому, как отмечает уже Мух̣аммад ат-Таха̄навӣ, важно составить «книгу, охватывающую понятия всех наук, распространенных среди людей, а также и других». Ат-Таха̄навӣ прямо говорит о том, что книга предназначена для учителей, могущих ее посредством дать полноценные знания ученикам[3]. Примечательно, что индийский ученый (и это заметно уже из пространного предисловия) строил каркас своего текста именно на постклассических текстах, преимущественно трудах упомянутого выше «учебного канона» медресе. Таким образом, упомянутые энциклопедии, фиксируя в себе философский и научный опыт предыдущих эпох исламской философии, сыграли важнейшую роль в последующем синтезе и ретрансляции знаний.
На каких же логико-смысловых принципах строились указанные труды? Для рассмотрения этого вопроса и, соответственно, достижения задач поставленного исследования, обратимся к особенностям построения материала на примерах важнейших философских категорий, наиболее обсуждаемых постклассическими авторами.
Труд персидского энциклопедиста аш-Шарӣфа ал-Джурджда̄нӣ, содержащий более двух тысяч статей, стал одним из первых значимых сочинений такого профиля в постклассическую эпоху. Основные «пласты» понятий сформированы автором из филологической, философской и логической терминологии; собственно понятие «знание» (’илм) определяется автором как «твердое убеждение, соответствующее действительности». К этому же определению стремятся и еще несколько приведенных им дефиниций: «постижение формы
[1] Мавсӯ‘ат кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн уа ал-‘улӯм ли-л-ба̄х̣ис̱ ал-‘алла̄ма Мух̣аммад ’Алӣ ат-Таха̄навӣ. Ред. Рафӣк ал-’Аджам. Бейрут: Мактаба Лубна̄н, Т. 1. 1996. С. 3.
[2]Т̣̄̄ашкубрӣ-За̄де, Ах̣мад. Мифта̄х̣ ас-Са‘а̄да уа Мис̣ба̄х̣ ас-Сайа̄да фӣ Мауд̣ӯ‘а̄т ал-‘Улӯм. Т. 1. Бейрут: Да̄р ал-кутуб ал-’илмиййа, 1985. С. 5.
[3] Мавсӯа’ кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. С. 3—4.
111
вещи разумом», «понимание вещей такими, какие они есть», «выражение особого отношения между разумом и умопостигаемым»[1]. Определив, таким образом, знание как проявление определенного соотношения, ал-Джурджа̄нӣ «ветвит» это понятие, используя оппозиции «активного» и «пассивного» (фи‘лийй — инфи‘а̄лийй), «знания посредством запечатления» и «знания посредством присутствия» (инт̣иба̄‘ийй — х̣уд̣ӯрийй), «вечного» (к̣адӣм) и «возникшего» (мух̣да̄с̱), «интуитивного» (бадӣхийй) и «умозрительного» (истидла̄лийй)[2]. Во всех случаях дефиниции ‘илм у ал-Джурджа̄нӣ раскрываются через определенные соотношения: так, «умозрительное» знание требует неких предпосылок (утвержденности в знании о существовании Творца), «интуитивное» не имеет потребности в познании и т. д.
Такой же подход заметен в определениях, предлагаемых ал- Джурджа̄нӣ в статьях, посвященных разуму (ал-‘ак̣л). В первую очередь, разум для него — это «глаголющая душа, которую каждый обозначает словом “я”»[3]. И хотя в дальнейших тезисах автор «Книги определений» излагает традиционную гносеологию восточного перипатетизма, особый акцент делается на «постижение» (идра̄к) действительности (в конкретном случае — «вещей») и ряд противопоставлений: «правильно сказать, что [разум] является отвлеченной субстанцией, постигающей скрытые вещи через посредников, а ощутимые вещи — непосредственно»[4]. Эта же дихотомия встречается и в последующих определениях «активного разума» и «приобретенного разума». В одном из определений ал-Джурджа̄нӣ объединяет и другие, смежные понятия: «Разум, душа и сознание (з̱ихн) — одно и то же, просто это называют «разумом» в силу способности познавать, называют «душой» в силу способности двигать, а «сознанием» называют в силу готовности к познанию»[5].
Следует отметить, что такой термин, как вуджӯд, у ал-Джурджа̄нӣ выписан уже в суфийской парадигме. Со ссылкой на Абӯ ал-Х̣асана ан-Нӯрӣ и Джунайда ал-Баг̣да̄дӣ ал-Джурджа̄нӣ пишет:
[1] Му‘джам ат-та‘рӣфа̄т ли-л-‘Алла̄ма ‘Алӣ бин Мух̣аммад ас-Сайид аш- Шарӣф ал-Джурджа̄нӣ / Ред. Мух̣аммад С̣а̄дик̣ ал-Минша̄вӣ. Каир: Да̄р ал- Фад̣и̣ла, 2004. С. 130.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 127—128.
[4] Там же.
[5] Там же.
112
Познание единобожия отлично от его нахождения, а нахождение единобожия отлично от его познания. Единобожие — это начинание, нахождение — завершение, а поиск — середина между ними[1].
Интересены и предложенные ал-Джурджа̄нӣ соотношения между понятиями вуджӯб («онтологическая необходимость») и д̣арӯра («логическая необходимость»). Итак, вуджӯб — это «логически необходимое требование индивидуальной сущности и ее осуществление во внешнем»[2], а д̣арӯра — «утвержденность субьекта в отношении предиката»[3]. Пример для д̣арӯра прост:
Каждый человек с логической необходимостью является живым существом, и суждение относительно логической необходимости утверждает, что человек — живое существо во все времена[4].
В этих тезисах заметна тенденция к «собиранию» разрозненных понятий в пары бинарных оппозиций; и хотя далеко не во всех «статьях» эта иерархия заметна, собственно интенция автора к автохтонной арабоязычной смысловой организации материала вполне очевидна.
Более развернутую модель организации научных и философских категорий предлагает Абӯ ал-Бак̣а̄’ ал-Кафаувӣ, автор «Книги всеобщих понятий». Его энциклопедия, получившая широкое распространение уже в XVIII в. (а уже в следующем, XIX столетии, книга неоднократно печаталась в Стамбуле, Тегеране и Каире), содержит более 3000 понятий, расположенных в традиционном алфавитно-коренном порядке. Одна лишь статья, всецело посвященная понятию ’ас̣л, включает более ста определений этого термина[5]. Некоторые статьи, по существу, представляют собой самостоятельные трактаты, в которых ал- Кафаувӣ стремится дать согласованную и аргументированную точку зрения на предмет. Опять же, как и в случае с трудом ал-Джурджа̄нӣ, автор «Книги всеобщих понятий» отодвигает понятийные горизонты как можно дальше. Здесь находим и чисто филоло
[1]Му‘джам ат-та‘рӣфа̄т ли-л-‘Алла̄ма ‘Алӣ бин Мух̣аммад ас-Сайид аш- Шарӣф ал-Джурджа̄нӣ / Ред. Мух̣аммад С̣а̄дик̣ ал-Минша̄вӣ. Каир: Да̄р ал- Фад̣и̣ла, 2004. С. 209.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 117.
[4] Там же.
[5]Абу ал-Бак̣а̄’ ал-Кафаувӣ. Ал-Куллиййа̄т / Ред. ’Адна̄н Дарвӣш, Мух̣аммад ал-Мас̣рӣ. Бейрут: Му’асасат ар-Риса̄ла, 1998. С. 122—130.
113
гические контексты, и детальный разбор соответствующих вопросов грамматики, основ права, кала̄ма и других областей знания. Целый ряд определений показывает важность понятий ’ас̣л и фар‘ для «рациональных» и «традиционных» наук:
Целостное понимание предмета в его целостности, из которого выводятся частные правила, называется корнем и принципом», «частное понимание частности предмета называется ветвью и примером», «корни, будучи фундаментом и основанием для своих ветвей, называются принципами, а, будучи ведущими к ним явными направлениями, называются методами[1].
Наиболее общее определение — это ’ас̣л как «означающее по отношению к означаемому» (далӣл и мадлӯл можно в равной степени понимать как «аргумент» и «аргументируемое»), то есть источник смысла[2].
Сам ал-Кафаувӣ применяет указанную логику построения «исламской эпистемы» в ряде концептуальных понятий, в том числе и «знания» (‘илм)[3]. Как и ал-Джурджа̄нӣ, ‘илм автор «Книги всеобщих понятий» определяет не просто как некое абстрактное представление о чем-либо, а предметно, как «познание вещи таковой, какой она есть». Понятие ‘илм у ал-Кафаувӣ является «корневым», имеющим более широкое значение, чем, например, «постижение». Кстати, идра̄к ал-Кафаувӣ определяет следующим образом:
Постижение — это выражение полноты, благодаря которому происходит дополнительное раскрытие охватываемой душой познаваемой вещи, что происходит через разумение посредством доказательства или сообщения[4].
В соответствующей статье ал-Кафаувӣ рассматривает «постижение» как одну из «ветвей» знания, располагая наиболее употребляемые эпистемологические категории (всего около 15) в порядке перехода от общего к частному. Завершающей «ветвью» является «разум». Кроме рассмотрения понятия «знания» в самом общем смысле, ал-Кафаувӣ касается и проблемы знания как божественного атрибута, опираясь на наследие Нас̣ӣр ад-Дӣна ат-Т̣ӯсӣ и К̣ут̣б ад-Дӣна ар-Ра̄зӣ.
[1]Абу ал-Бак̣а̄’ ал-Кафаувӣ. Ал-Куллиййа̄т / Ред. ’Адна̄н Дарвӣш, Мух̣аммад ал-Мас̣рӣ. Бейрут: Му’асасат ар-Риса̄ла, 1998. С. 122—130.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 610—611.
[4] Там же. С. 66.
114
Интересен подход ал-Кафаувӣ к определению понятия вуджӯд[1]. Фактически в соответствующей словарной статье мы находим детализированное рассмотрение этого понятия, преимущественно в перспективе авиценнизма. Автор «Книги всеобщих понятий» пишет:
Бытие не нуждается в определении, кроме так с той точки зрения, что оно является означаемым конкретно такого слова[2].
Само по себе бытие «не возникает в душе как образ», поэтому и требует отсылки к таким понятиям как «возникновение», «утвержденность», «осуществление», «вещность», «появление». К этой проблеме вплотную примыкает поднятый Ибн Сӣной вопрос о соотношении чтойности и бытия, решаемый ал-Кафаувӣ, вслед за другими постклассическими авторами, в пользу исходного единства онтологического и сущностного. Отметим, впрочем, что ядро этой проблемы ал- Кафаувӣ ищет в вопросе о статусе «умозрительного бытия» (вуджӯд з̱ихнийй). Итак, общее понятие приобретает смысл через отсылку к «региональным» контекстам, несущим на себе след эпистем недавних дискуссий (недаром упомянуты четыре группы — «философы», мутакаллимы, мутазилиты и суфии).
Особенно интересно «собирание» смыслов на основании бинарных оппозиций, которые и определяют логическую структуру большей части тезауруса ал-Кафаувӣ. Два известных эпистемологических понятия тас̣аввур и тас̣дӣк̣[3] рассматриваются автором Куллиййа̄т весьма подробно[4]. Тас̣аввур, «представление», ал- Кафаувӣ в первую очередь делит на «именное» (би-х̣иса̄б ал-исм) и «действительное» (би-х̣иса̄б ал-х̣ак̣ӣк̣а), выводя разделение извне, из самого бытия:
именное представление является пониманием вещей, не существующих как индивидуальные, поэтому возможно в отношении существующего и не-существующего; действительное представление
[1]Абу ал-Бак̣а̄’ ал-Кафаувӣ. Ал-Куллиййа̄т / Ред. ’Адна̄н Дарвӣш, Мух̣аммад ал-Мас̣рӣ. Бейрут: Му’асасат ар-Риса̄ла, 1998. С. 923—943.
[2] Там же. С. 923—943.
[3] См. об этих понятиях уже ставшую классической статью Г. Вольфсона: Wolfson H. A. The Terms Tasawwur and Tasdiq in Arabic Philosophy and Their Greek, Latin and Hebrew Equivalents // Studies in the History and Philosophy of Religion / Ed. by I. Twersky, G. H. Williams. Vol. 1. Cambridge: Harvard University Press, 1973. P. 478—492.
[4] Ал-Куллиййа̄т. С. 290—291.
115
является представлением познаваемой чтойности бытия и ограничивается лишь существующим[1].
Несложно заметить, что связующим между двумя концептами здесь является понятие «бытие», а тас̣аввур предстает как «внешнее», связанное с действительностью, и «внутреннее», относящееся к сфере языка. Пытаясь установить связь еще и с понятием тас̣дӣк̣, ал-Кафаувӣ обращается к наследию Ибн Сӣны:
Передают от Шейха, что все, постигаемое сознанием, может быть лишь образами чтойностей, представлением образа (ал-из’а̄н), узнаванием или убежденностью в соответствии этим образам; первое — это тас̣аввур, второе — это тас̣дӣк̣[2].
Помимо соответствия бытию, ал-Кафаувӣ раскрывает оба термина и в отношении к понятию «знание»: бывает тас̣аввур, которое нельзя назвать ни «ложным», ни «правдивым», однако «знанием» может быть только «правдивое представление» и «правдивое подтверждение»[3]. Собственно тас̣дӣк, отмечает ал-Кафаувӣ, разделяется на «знание» и «незнание», в отличие от тас̣аввур, не приемлющего незнания вообще. Тас̣аввур логически предшествует тас̣дӣк̣, тас̣аввур ближе к ‘илм, выступающему как общий корень для обоих понятий, находящих свою завершенность в полном соответствии внешнему бытию, то есть, опять-таки, восходя к истине как единству «внешнего» и «внутреннего»[4].
Для объяснения своих слов ал-Кафаувӣ возводит идею «сложного» и «простого» тас̣дӣк̣ к авторитетам прошлого. «Учение мудрецов», то есть восточных перипатетиков, рассматривает тас̣дӣк̣ исключительно как «отвлеченное познание определенного соотношения», в то время как по «учению има̄ма [ал-Матурӣдӣ]» тас̣дӣк̣ выступает «познанием чтойности вместе с суждением о ее отрицании либо утверждении»[5]. Если
[1] Ал-Куллиййа̄т. С. 290.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 291. О понятии «истина» в арабской философии как правильности соотношения между «явным» и «скрытым» см.: Смирнов А. В. Словарь категорий: арабская традиция // Универсалии восточных культур. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 2001. С. 139—140.
[5] Там же. С. 291.
116
для «философа» утверждение «мир является возникшим» раскрывает отношение «возникновения» к «миру», то муттакалим
рассматривает и отношение, и саму сущность понятий «возникновение» и «мир». Поэтому в кала̄ме то, что ведет к тас̣дӣк̣, называется «доказательством» (х̣удджа)[1]. Опять же, различие состоит в том, что «философы» и муттакалимы по-разному ветвят базовые понятие — «философы» видят свою цель лишь в чистом ‘илм как таковом, а для муттакалимов часть «корня» (каковым и является ‘илм) определяется сакральными текстами, нус̣ӯс̣. У фала̄сифа тас̣аввур и тас̣дӣк̣ — это соотношение бытия и разума, у муттакалимов — бытия, разума и указующего текста (нас̣с̣). Следуя логике ал-Кафаувӣ, можно утверждать, что муттакалимы «собирают» все смыслообразующе пространство, фала̄сифа — лишь «явную» часть.
Аналогичная логика «собирания смыслов» может быть зафиксирована в статье ал-Куллиййа̄т, посвященной понятию джаухар («субстанция»)[2]. В самом начале ал-Кафаувӣ раскрывает значение «субстанции» через «синонимичные» понятия «самость» (з̱а̄т), «чтойность» (ма̄хиййа) и «действительность» (х̣ак̣ӣк̣а). Проводятся и различия между перипатетиками и последователями кала̄ма: для первых субстанция является «самостью и действительностью, обладающей поддерживающим самое себя существованием», а для вторых — «тем, что самостно занимает место» (мутах̣аййиз би-з̱-з̱а̄т). Кроме того,
У х̣укама̄’ джаухар является возможным бытием, не имеющем опредмеченного места, а у муттакалимӯн — ограниченным местом и возникшим[3].
В этой связи ал-Кафаувӣ разворачивает смысловые пределы понятия в четырех позициях: как ограниченной местом сущности, не приемлющей деления (атом), сущности, принимающей свойства, чтойности, находящейся в опредемеченном месте, бытия, неподвластного воплощению[4]. Заметно, что ал-Кафаувӣ выходит на целый ряд понятий, близких по смыслу к субстанции (или означающих то же); среди перечисляемых определений присутствует и замечание автора о том, что «в языке джаухар означает ’ас̣л, то есть ’ас̣л, используе
[1] Ал-Куллиййа̄т. С. 291.
[2] Там же. С. 346—348.
[3] Там же. С. 346.
[4] Там же. С. 346—347.
117
мый для составления, а не как нечто существующее из своей самости».
В дальнейших словах ал-Кафаувӣ поддерживает точку зрения муттакалимов как о недопустимости полного отсутствия акциденций у субстанции, так и о невозможности существования субстанции без наличия личностных свойств (ташах̱х̱ус̣)[1]. Можно утверждать, что ал-Кафаувӣ отдает предпочтение мнению муттакалимов, находя их аргументацию более правильной, соответствующей основному значению джаухар именно как «корня», смысла, который лишь в последующем раскрывается в других, синонимичных понятиях. Проще говоря, ал-Кафаувӣ настаивает на автохтонных конструкциях «собирания смыслов», находя их более понятными, более объяснимыми. Показательно и завершение статьи, где ал-Кафаувӣ рассматривает процедуру деления субстанции (и отделения акциденций) как одну из сфер применения метода аналогии (к̣ийа̄с)[2].
Следует заметить, что принципы смыслоорганизации материала прописаны у ал-Кафаувӣ отдельно, в качестве дополнения к основному тексту ал-Куллиййа̄т (фас̣л фӣ ал-мутафаррик̣а̄т)[3]. В этом разделе можно встретить вопросы грамматики, фикха, логики и тафсира, данные в совокупности как общие принципы, в том числе и принадлежащие к противопоставлению ’ас̣л-фар‘:
В ’ус̣ӯл ал-фикх общее правило предшествует производным, а в фикхе искомым является познание частичных вопросов, поэтому вначале идут сами производные, а уже далее упоминается основа, все эти производные объединяющая[4].
По такому принципу, судя по всему, действовал и сам ал-Кафаувӣ, выстраивая ряды своих понятий, собирая их в оппозиции и возводя к единой смыслоорганизующей основе.
Более трех тысяч понятий вмещает и фундаментальный труд «Раскрытие понятий искусств и наук» ат-Таха̄навӣ, также опиравшегося на традицию постклассической логики и кала̄ма. Сами по себе науки ат-Таха̄навӣ делит на «вопросы» (маса̄’ӣл) и «твердую убежденность в ответах на них» (тас̣дӣк̣ биха̄)[5]. Интересно и само определение предмета науки:
[1] Ал-Куллиййа̄т. С. 347.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 994—1083.
[4] Там же. С. 1068.
[5] Мавсӯ‘ат кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. Т. 1. С. 5.
118
Предметом каждой науки являются те состояния сущности, которые в ней исследуются, а возможность их достижения состоит в совершенстве познания человеком индивидуальных сущностей, их представленности в образах и убежденности в их состояниях такими, каковыми они являются, настолько, насколько человек способен[1].
В последующих частях предисловия ат-Таха̄навӣ обращается к целому ряду оппозиций: «целое» и «частное», «представление» и «убеждение», «сущностное» и «акцидентальное»; верификация достигается путем раскрытия этих соотношений, неразрывности их логико-смысловой взаимосвязи.
Отношение ’ас̣л-фар‘ в соответствующей статье автор Кашша̄фа определяет через глагол бана̄ («строить», «поддерживать»). Ат- Таха̄навӣ рассматривает грамматические и правовые определения: ’ас̣л выступает как означающее, как общий принцип, как приоритетное мнение и как согласование[2]. В определении понятия «знание» ат- Таха̄навӣ, вслед за предшественниками, также прибегает к использованию понятия идра̄к, выступающему в качестве соотношения между ‘илм как «корнем» и производными «ветвями» (логическими понятиями тас̣аввур и тас̣дӣк̣, например). Перечислив мнения предыдущих авторов (как классиков, так и поздних комментаторов вроде ал- Х̱айа̄лӣ), ат-Таха̄навӣ переходит к вопросу о «запечатленном» и «привнесенном» знании (к этому вопросу прибегали и ал-Джурджа̄нӣ, и ал-Кафаувӣ). К этой оппозиции, помимо вопросов о божественном знании, примыкают и проблемы «внешнего» и «умозрительного» бытия, и вопрос об отношении между «знанием» и «познаваемым». Задача «постигающего» — завершить раскрытие, инкаша̄ф[3].
Сам ат-Таха̄навӣ, например, «раскрывает» понятие ‘ак̣л следующим образом. Связав его с целостным и отвлеченным от материи познанием, энциклопедист описывает «целостный разум», «пассивный разум», «приобретенный разум», понятие разума в шариатской перспективе и т. д. Показательно, что при этом ат-Таха̄навӣ использует бинарную оппозицию ‘илм — ‘амал, пытаясь сохранить устойчивые
[1] Мавсӯ‘ат кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. Т. 1. С. 7.
[2] Там же. Т. 1. С. 213—214.
[3] Там же. Т. 2. С. 1219—1230.
119
связи между категориями. В конце статьи о разуме он делает такой вывод: ‘ак̣л начинает постигать, опираясь на сенсибельное (и одновременно «внешнее»), а завершает постижение собственно знанием, опираясь на умопостигаемое (то есть «внутреннее»). «Завершенность постижения разумом — появление искомого»[1].
Приблизительно о такой же перспективе, однако с использованием других понятий, сообщает и категориальный опыт мистицизма:
Когда человек соединит в себе знание, действие и благочестие (адаб), то и называется разумным. Ведь если он знает, но не делает, или делает, но не имеет благочестия, или делает что благочестивое, но не имеет знания, то не может назваться разумным[2].
Под адабом, судя по всему, здесь полагается именно умение согласовать знание и действие, соединить внешнее и внутреннее. В эпистемном смысле, как видно из указанных выше слов, «искомое» (мат̣лӯб) также раскрывается именно как совпадение внешнего и внутреннего.
Четкие логико-смысловые связи заметны на пути восстановления всего спектра смыслов понятия х̣ак̣к̣, описанного в довольно объемной соответствующей статье[3]. В самом начале автор, впрочем, переходит не к исследованию этимологии (как это делал, например, ал- Кафаувӣ), а к установлению соотношения х̣ак̣к̣ со смежным понятием с̣идк̣. Это соотношение исходит из обоюдной аналогии:
Истина — это соответствие действительности убеждению, а правда — соответствие убеждения действительности[4].
В следующих тезисах ат-Таха̄навӣ отмечает, что «ошибка» и «правота» используются в отношении индивидуальных мнений, в то время как «истина» и «ложь» касаются именно убеждений[5]. Смысл понятия «истинность» (х̣ак̣ӣк̣а) ат-Таха̄навӣ раскрывает и посредством термина «чтойность»:
[Истиной] может быть и чтойность, означая вещь такой, какая она есть (би-ма̄‘на̄ ма̄ би-хи аш-шай’ хува хува), и называясь так
[1]Мавсӯ‘ат кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. Т. 2. С. 1230.
[2] Там же.
[3] Там же. Т. 1. С. 682—688.
[4] Там же. Т. 1. С. 682.
[5] Там же. Т. 1. С. 683.
120
же самостью. Действительность в таком смысле шире, чем всеобщность, частичность, существование или несуществование[1].
Предлог би, уточняет автор Кашша̄фа, прямо указывает на смысл как причину бытия вещи самой собой:
Смысл является тем, что эту вещь делает именно таковой вещью[2].
После этого утверждения ат-Таха̄навӣ обращается к производным чтойности, рассматривая схваченный разумом смысл сущего в зависимости от того, «предустановленна» сама по себе чтойность или нет (мадж‘ӯла ау лайсат мадж‘ӯла). Первую позицию, в частности, поддерживали перипатетики, вторую — сторонники ишракизма[3]. Все это позволяет оценить чтойность как смысловую основу для дальнейшего понимания истины как несомненной данности (отсюда и второе значение х̣ак̣к̣, «право»), раскрывающейся в установлении непротиворечивого соотношения между разумом и бытием. Ссылки на известных комментаторов Ах̣мада ал-Х̱айа̄лӣ (1425—1458), ’Ис̣а̄м ад-Дӣна ал-Исфара̄’ӣнӣ (1469—1538) и других постклассических авторов свидетельствуют о том, что ат-Таха̄навӣ «собирал» разрозненные взгляды на вопрос, выстраивая эпистемологическую конструкцию по уже проторенному предыдущими авторитетами пути.
Энциклопедические проекты, предпринятые рядом авторов постклассического периода, сочетали во многом новаторские и традиционные подходы. Сочинения ал-Джурджа̄нӣ, ал-Кафаувӣ, ат-Таха̄навӣ и других авторов были далеко не первыми в ряду трудов подобного профиля: известны сохранившиеся сочинения Кита̄б Х̣удӯд ал-Ашйа̄’ уа Русӯму-ха̄ ал-Киндӣ[4], Кита̄б ал-Х̣удӯд Ибн Сӣны[5] и ряд других. Однако тезаурус обеих упомянутых работ ограничен дискурсом восточного аристотелизма и неоплатонизма, в отличие от постклассических сочинений, предлагавших синтез всех направлений исламской философской мысли. Сочинения классической эпохи касались, в пер
[1] Там же. Т. 1. С. 685.
[2] Мавсӯ‘ат кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн. Т. 1. С. 685.
[3] Там же.
[4]Ал-Киндӣ. Кита̄б х̣удӯд ал-ашйа̄’ уа русӯму-ха̄ // Раса’ӣл ал-Киндӣ ал-фалсафиййа / Ред. Мух̣аммад Абӯ Рӣда. Т. 1. Каир: Да̄р ал-фикр ал-‘арабийй, 1950. С. 163—179.
[5]Ибн Сӣна̄. Кита̄б ал-х̣удӯд. Livre des définitions / Ред. A.-M. Goichon. Каир: Publications de l’Institut français d’archéologie orientale, 1963.
121
вую очередь, региональных групп понятий (фалсафы, кала̄ма, фикха, суфизма и др.), в то время как авторы исследуемых трудов ставили перед собой куда более широкие горизонты.
Краткий анализ некоторых важных концептов показывает, что энциклопедисты постклассического периода стремились не к однозначным определениям, а к «раскрытию» через выявление соответствующих соотношений между категориями смыслового пространства, построению определенных иерархий понятий, формулировки оппозиций и т. д. Эти соотношения следовали заложенным уже в классический период моделям ’ас̣л-фар‘ и з̱а̄хир-ба̄т̣ин, позволявшим расставить желаемые акценты на фоне соединения довольно разнородного материала, собиранию «рассыпанных» региональных тезаурусов в единое целое. «Искомое» достигалось лишь благодаря установленному равновесию между «внешним» и «внутренним», выявлением соотношений между понятиями на уровне означающего и означаемого. Группы сопредельных (в логико-смысловом отношении) понятий полагались как производные от ключевого концепта (показательны упомянутые примеры с терминами «чтойность», «субстанция» и др.), что особенно заметно в наиболее обсуждаемых терминах, а именно тех, где авторы не ограничивались исследованием этимологии и контекста. Такой подход, использующий уже проторенные и имплицитно рационализированные методы смыслополагания, сочетал в себе опыт основных философских традиций исламской цивилизации и позволял установить связи между горизонтами формулировки научных проблем — например, соотношения между вопросами этики и онтологии, фикха и логики, гносеологии и доктрины единобожия, разума и традиции в целом. Представляется, что дальнейшее изучение энциклопедического опыта постклассического периода (в том числе и комментаторских трудов) позволит еще ближе подойти к созданию фундаментального тезауруса, охватывающего все основные интеллектуальные традиции исламской философской мысли.
 |

|
122
Книга общности веры (Kitāb iǧtimāʿ al-amāna) представляет собой экуменический трактат, имеющий своей целью примирение трех основных конфессий восточного христианства: «несториан», «мелькитов» и «яковитов». Это произведение известно в двух редакциях, в одной из которых оно приписано Илие ал-Джаухарӣ, тогда как в другой, отражающей, по-видимому, оригинальную атрибуцию, его автором назван ʿАлӣ ибн Дāвӯд ал-Арфāдӣ. Русские исследователи церковной истории ссылались на раздел этого трактата, содержащий свидетельство о двуперстии при совершении крестного знамения у мелькитов, указывая автора сочинения как «Илия Гевери, несторианский митрополит Дамаска». В статье предлагается исследование этого источника, свидетельствующего о бытовании экуменических взглядов в среде христиан, живших в эпоху средневековья на арабском Востоке, отмечается использование концепции «корней и ветвей», характерной для арабской мысли.
By the time of the Muslim conquests of the Middle East, Eastern Christianity had experienced numerous divisions caused by ideological and political confrontations. Controversies over the union of the divinity and the humanity of Christ, perceived as an essential point of Christian doctrine, as well as the Byzantine imperial policy, aiming at strengthening Byzantium’s influence in Syria, Arabia, the Caucasus, and Egypt, had resulted in the separation of the ethno-religious communities of these provinces from Byzantium. The controversies remained unsettled, and the divisions, created by them, continued. To a Muslim observer, Eastern Christianity looked as a hodgepodge of various denominations among which the following three were the most influential: the Syro-Persian Christianity, the Graeco-Roman Orthodoxy, and the anti-Chalcedonian faction, insisting on “one nature” of Christ. The Muslim jurist and
123
doxographer Muḥammad aš-Šahrastānī (1076—1153) summarized this as follows in his celebrated Book of Religions and Sects (Kitāb al-milal wa-n-niḥal): “Then Christians split up into seventy two sects[1], the three big divisions among them being: the Melkites, the Nestorians, and the Jacobites”[2]. A similar view of the Christian divisions, differentiating between three main communities, is also found in the Christian Syrian author’s The Book of the Concordance of Faith, obviously influenced by the Islamic doxographical tradition[3].
Uṣūl wa-furūʿ (‘roots and branches’) is one of the basic concepts of the Arabic thought that was developed in grammar, religious and philosophical discourses (Uṣūl ad-Dīn, Uṣūl al-Ḥadīṯ), and the Muslim law (Uṣūl al- Fiqh)[4]. It was also used in the traditional Arabic Muslim religious studies concerning the origins of various Christian denominations. For example, Šihāb ad-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Idrīs aṣ-Ṣanhāǧī called al-Qarāfī (1228—1285), a Mālikī jurist of Berber origin who lived in Ayyūbid and Mamlūk Egypt, while discussing Christian divisions in his work Superb answers to shameful questions in refutation of the unbelieving religion (al-Aǧwiba al-fāḫira ʿan al-asʾila al-fāǧira fī-r-radd ʿalā-l-milla al-kāfira)[5], formulates his polemical remark as follows: “Each of them wants a right denomination to branch out from an impossible root, but there is no branch, if the root is spoiled (kullan minhum yurīd tafrīʿ maḏhab ṣaḥīḥ ʿalā aṣl mustaḥīl, wa-lā farʿ iḏā fasad al-aṣl)”.
[1] The notion that the Christians were divided into seventy two groups was probably influenced by Muslim Ḥadīṯs: see Gautier H. A. Juynboll, Encyclopedia of Canonical Ḥadīth (Leiden; Boston: Brill, 2007), 437, 458.
[2] William Cureton, Muhammad al-Shahrastáni, Kitāb al-milal wa-n-niḥal. Book of Religious and Philosophical Sects (London: Soc. for publication of Oriental texts, 1842), Part 1, 173. The division of Christianity in ‘three main denominations’ is evidenced in the writings of many Medieval Muslim authors.
[3] See the discussion in Н. Н. Селезнев [Nikolai N. Seleznyov], Средневековый восточнохристианский экуменизм как следствие исламского универсализма [Medieval Eastern Christian ecumenism as a result of Islamic universalism], Философский журнал 1 (8) (2012), p. 77—85.
[4] M. G. Carter, Uṣūl, The Encyclopaedia of Islam, New edition, vol. X (Leiden: Brill, 2000), p. 928:2—930:2; N. Calder, Uṣūl al-Dīn, Ibid., p. 930:2—934:1; E. Dickinson, Uṣūl al-Ḥadīth, Ibid., p. 934:1—935:1; A. J. Newman, J. J. G. Jansen, Uṣūliyya, Ibid., p. 935:1—938:1.
[5]al-Aǧwiba al-fāḫira ʿan al-as’ila al-fāǧira fī-r-radd ʿalā-l-milla al-kāfira / Maǧdī Muḥammad aš-Šahāwī. Bayrūt: ʿĀlam al-Kutub, 1426/2005, p. 127; Thomas, D., Mallett, A. (eds), Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Vol. 4 (1200—1350). (Leiden; Boston, 2012), p. 582—587.
124
Along with the division of Christianity in ‘three main denominations’, the concept of the ‘roots and branches’ is also present in the survey of Christian divisions in the aforementioned Book of the Concordance of Faith. Its author says: “They [i. e. Christians] split into many divisions of which one could speak for long. But even if they do, all their multiplicity aside, agree in opinions and differ from each other in passions, they are reducible to three divisions (firaq), for they ascend to three denominations (maḏāhib) as their roots, namely the division of the Nestorians, the division of the Melkites, and the division of the Jacobites; everything that exists apart from these three communities (al- milal) are [in fact] divisions which originate from them and are reducible to them”[1].
The Book of the Concordance of Faith (Kitāb iǧtimāʿ al-amāna) is extant in the following two recensions: (1) the recension of the Bodleian Library manuscript (16th c.; MS Ar. Uri 38 / Huntington 240; fol. 119v—124v), which was published by Gérard Troupeau in 1969[2]. It was written, as the editor remarks, in an oriental Egyptian Arabic script (“écriture orientale (Égypte)”)[3]; (2) the recension of the Vatican Library manuscript, dating to AD 1692 (1103 Anno Hegirae, 2003 Anno Graecorum) — Vat. ar. 657, fol. 4v—15r[4]. This second recension was described and presented in excerpts by Assemani in his Bibliotheca orientalis[5]. The Vatican manuscript contains the text of The Book of the Concordance of Faith written in Garshūnī, i. e. in Arabic transcribed into Syriac script (Eastern Syriac
[1]Kitāb iǧtimāʿ al-amāna, Introduction, § 1; see the annex below. The concept ‘roots of the religion’ (Uṣūl ad-Dīn) was used in the Arabic Christian tradition as well: the apology Kitāb uṣūl ad-Dīn by Elias ibn al-Muqlī, the catechism with the same title by ʿAḇdīšōʿ of Nisibis, and the theological ‘Summa’ entitled Maǧmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn by al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn al-ʿAssāl are the examples.
[2] Gérard Troupeau, “Le livre de lʼunanimité de la foi de ʿAlī ibn Dāwud al-Arfādī”, Melto 5:2 (1969) 197—219; repr. in: Gérard Troupeau, Études sur le christianisme arabe au Moyen Âge (Aldershot; Brookfield: Ashgate, 1995) (Variorum Collected Studies Series, CS515), Essay XIII, 201—219.
[3] Troupeau, 1969, 197, n. 1.
[4] For a description of the manuscript see: Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita, vols. 1—10 (Romae: Typis Vaticanis, 1825—1838), vol. 4 (1831), 583 (No. DCLVII / A.53).
[5] Joseph Simon Assemani, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, vols. 1—3 (Romae, 1719—1728), vol. 3:1 (1725), 513—516.
125
script, in this case)[1]. The present author has recently published a critical edition of the Garshūnī recension[2].
The first part of the third volume of the Bibliotheca orientalis (“De Scriptoribus Syris Nestorianis”) presents The Book of the Concordance of Faith as a treatise by “Elias the Nestorian metropolitan of Jerusalem and Damascus”, (“Elias Hierosolymæ & Damasci Nestorianorum Metropolita”). In this section, Assemani presented some excerpts from the treatise[3] re-transcribed into the Arabic script. While doing the reversed transcription, he introduced some changes in the text. One can assume that these changes were triggered by his discomfort with the East-Syriac script of the manuscript as well as with some elements of the Iraqi dialect[4] which had crept into the text. Both were equally unfamiliar to the Maronite author whose own dialect was Lebanese, and whose usual Syriac script was the West-Syriac serṭō. The Vatican manuscript has a note in the introduction (fol. 4[v]:2), saying that Elias al-Ǧawharī, the metropolitan of Jerusalem, re-wrote or copied (nasaḫa-hu) the treatise that follows. Assemani latinized “al-Ǧawharī” (i. e. “the Jeweller”, probably a reference
[1] Д. А. Морозов [D. A. Morozov] Каршӯнӣ: сирийская письменность в арабо-христианских текстах [Karšūnī: Syriac script in Christian Arabic texts] in: Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Россия и православный Восток: новые исследования по материалам из архивов и музейных собраний. (Москва, 30—31 октября 2007 г.). Материалы. (Москва, 2007) 70—72, See also his important article “Каршуни” (Karšūnī) in Православная Энциклопедия [The Orthodox Encyclopaedia], vol. 31. Moscow: The Orthodox Encyclopaedia Publishers, 2013, p. 463—465; Alphonse Mingana, “Garshūni or Karshūni?”, Journal of the Royal Asiatic Society (1928) 891—893; Françoise Briquel-Chatonnet, “De l’intérêt de l’étude du garshouni et des manuscrits écrits selon ce système”, in L’Orient chrétien dans l’empire musulman: Hommage au professeur Gérard Troupeau (Versailles: Éditions de Paris, 2005) (Studia arabica III) 463—475. For specific characteristics of the Eastern (“Chaldean”) Garshūnī see: Hersch Ram, Qiṣṣat Mâr Êlîĭâ (Die Legende vom Hl. Elias). Als Beitrag zur Kenntnis der arabischen Vulgär-Dialekte Mesopotamiens nach der Handschrift Kod. Sachau 15 der Königl. Bibliothek zu Berlin herausgegeben, übersetzt und mit einer Schriftlehre versehen. Inaugural-Dissertation (Leipzig: J. S. Hinrichs, 1906).
[2] Н. Н. Селезнев [Nikolai N. Seleznyov], Западносирийский книжник из Арфāда и иерусалимский митрополит Церкви Востока. «Книга общности веры» и ее рукописная редакция на каршуни [A West-Syrian Clerk from Arfād and the East-Syriac Metropolitan of Jerusalem. “The Book of the Concordance of Faith” and Its Manuscript Recension in Garshūnī], Символ 58: Syriaca & Arabica (Париж; Москва, 2010) 34—87, 45—72 (text in Garshūnī), 73—87 (Russian translation).
[3] fol. 4v:4, fol. 4v:10, fol. 7r:17—7v:12, fol. 13v:11—14r:2, fol. 10v:4—10v:10, fol. 10v:10—11r:16, fol. 11r:16—12r:5, fol. 12v:2—12v:17.
[4] E. g., fol. [4]v:4 and fol. 12v:13—15.
126
to the family business) as Geveri, a possible Italian transcription of the name. Neither Assemani nor later scholars discussing the subject took notice of the Garshūnī version’s indication that it was merely copied (rather than composed) by Elias al-Ǧawharī.
In the text of the Bodleian Library the treatise is attributed to ʿAlī ibn Dāwūd al-Arfādī. It is worth mentioning that in his catalogue of the Bodleian Library, Joannes Uri (1726—1796) omitted the reference to the Book of the Concordance of Faith as part of the manuscript Ar. Uri 38 / Huntington 240[1]. Presumably because of this, neither did Georg Graf (1875—1955) mention ʿAlī ibn Dāwūd al-Arfādī as the author of the Book of the Concordance of Faith in his monumental Geschichte der christlichen arabischen Literatur, but, following Assemani, placed the treatise in the section on “Elias (Ilīyā) al-Ğawhari von Jerusalem und Elias von Damaskus”[2].
An Arabic-speaking medieval Coptic author Muʾtaman (ad-Dawla) ibn al-ʿAssāl (13th c.)[3] prepared a synopsis of the Book of the Concordance of Faith in the eighth chapter of his Summa of the Foundations of Religion and of the Traditions (lit. What was Heard) of Reliable Knowledge (Maǧmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn). In the subtitle he gave to the section, he indicates that he reproduces a treatise of “Elias, the metropolitan of Jerusalem, on the same subject, entitled [The Book] of the Concordance of Faith and the Brief Exposition of Religion, and it is [also] said that this [treatise] is [by] ʿAlī ibn Dāwūd.”[4] Ibn al-ʿAssāl, evidently, was aware of both attributions, and he duly provides both in mentioning the author of the Book of the Concordance of Faith. While exploring the Summa of the Foundations of Religion in the Vatican and Paris manuscripts (Vat. ar. 103, fol. 91v—94 and Paris, BNF ar. 200, fol. 63—65v), Gérard Troupeau misinterpreted this double ascription as a claim that Elias of Jerusalem was
[1] Johannes Uri, Bibliothecæ Bodleianæ codicum manuscriptorum orientalium, videlicet Hebraicorum, Chaldaicorum, Syriacorum, Æthiopicorum, Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Copticorumque catalogus. Pars prima (Oxonium: Clarendon, 1787), [Ar. Chr.] 34.
[2] Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, vols 1—5 (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944—1953), vol. 2 (Studi e testi 133) 132—133.
[3] See about him: Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, vol. 2, 407—414.
[4] Abullif Wadi, Bartolomeo Pirone, al-Muʾtaman Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn al- ʿAssāl, Maǧmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn. Summa dei principi della Religione (Cairo; Jerusalem: Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 1998) (Studia Orientalia Christiana; Monographiae, 6a—9), Vol. 1/SOCh 6a, 187—192.
127
indentical with ʿAlī ibn Dāwūd and remarked that he found this alleged identification (in actual fact, never made by Ibn al-ʿAssāl) rather improbable[1].
Concerning ʿAlī ibn Dāwūd al-Arfādī, Troupeau indicates that he is “completely unknown in the history of Christian Arabic literature” (“totalement inconnu dans l’histoire de la littérature arabe chrétienne”) and surmises that he was a Syrian, since the village Arfād which provided ʿAlī ibn Dāwūd with his nisba (a name indicating the place of origin) was located, according to the geographical dictionary of Yāqūt al-Ḥamawī (1179—1229), near ʿAzāz north of Aleppo[2]. Sidney H. Griffith could not find any definite information about al-Arfādī, either, and consequently characterized the author as “the shadowy ʿAlī ibn Dāwud al-Arfādī, of uncertain date and denomination”[3]. Troupeau suggests that the author of the Book of the Concordance of Faith belonged to the West-Syriac (“Jacobite”) community on the ground of his analysis of the contents of the treatise: al- Arfādī’s accounts of the “Nestorians” and the “Melkites” are rather brief, whereas his descriptions of the views of the “Jacobites” are more detailed and are placed at the end of each comparative section. Moreover, he characteristically emphasizes the significance of the “oneness of Christ”[4]. Troupeau also argued for the eleventh century as the probable period of al-Arfādī’s life and floruit, but did not furnish any substantial evidence in support of this suggestion. He further remarks that al-Arfādī was probably the author of another treatise — On the Verity of the Gospel (Kitāb fī ṣiḥḥat al-Inǧīl) — referenced by the author himself in the section of the Book of the Concordance of Faith discussing the Gospels[5].
Assemani suggested to identify Elias al-Ǧawharī with Elias ibn ʿUbayd who first occupied the episcopal see of the Church of the East in Jerusalem and was then elevated to the metropolitan see of the same Church in Damascus.[6] This identification was based on ʿAmr ibn Mattā’s report about the patriarch of the Church of the East John (Yuwānīs) who “in the middle of Tammūz [July] of the year 280 of the Hiǧra, i. e. the year 1204 of the Seleucid era [AD 893] 〈...〉 on the day of his own ordination,
[1] Troupeau, 1969, 198.
[2] Ibid.
[3] Sidney Harrison Griffith, Church in the Shadow of the Mosque: Christians and Muslims in the World of Islam (Princeton; Oxford, 2008), 142.
[4] Troupeau, 1969, 199.
[5] Ibid.
[6] Assemani, Bibliotheca Orientalis, vol. 3:1, 513; See also: Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, vol. 2, 132.
128
ordained Elias ibn ʿUbayd, the bishop of Jerusalem, as the metropolitan of Damascus”[1]. The suggested identification would become impossible if we assume that al-Arfādī lived in the eleventh century, as suggested by Troupeau, along with the additional witness of the Vat. ar. 657, according to which Elias al-Ǧawharī only “copied” the Book of the Concordance of Faith. It should also be noted that Troupeau’s suggestion was based on his evaluation of the Bodleian Library text, which had undoubtedly undergone a later editing; hence, Troupeau’s conclusion can be subject to revision. It may be added to our survey that “Elias, the bishop of Jerusalem” is also known as the author of the Book of Casting Away the Sorrows (Kitāb fī tasliyat al-aḥzān) published by the Italian orientalist Giorgio della Vida (1886—1967)[2], and that Assemani also attributed a Nomocanon Arabicus to “Elias Geveri”[3].
Troupeau characterized the Vatican recension as being an abridged one (“une recension abrégée”)[4], but in actuality the problem of the relationship between the two manuscripts containing the treatise in question is more complex. First of all, the Vat. ar. 657 witnesses to evident omissions in the text of the Bodleian Library manuscript, despite the fact that the latter recension was characterized by Troupeau as “complete” (“une recension complète”)[5] — for example Vat. ar. 657, fol. 8v:13—15 and Vat. ar. 657, fol. 9r:1 are lacking in the Bodleian Library manuscript. Second, it is
[1] Henricus Gismondi, Maris, Amri et Slibae de patriarchis Nestorianorum commentaria / Ex codicibus Vaticanis edidit ac latine reddidit Henricus Gismondi (Romae: Excudebat C. de Luigi, 1896—1899), Pars II, 80—81 (Ar. text), 46—47 (Lat. tr.); В. В. Болотовъ [Vasilij V. Bolotov], Изъ исторiи Церкви сиро-персидской [[Chapters] From the History of the Syro-Persian Church] (Saint Petersburg, 1901) 120/1190.
[2] Gérard Troupeau, Catalogue des manuscrits arabes. Première partie: manuscrits chrétiens. Vols. 1—2 (Paris: Bibliothèque nationale, 1972—1974), vol. I, 176 (№ 206:1); Giorgio Levi della Vida, “Il conforto delle tristezze di Elia al-Ğawhari (Vat. ar. 1492)”, In: Mélanges Eugène Tisserant (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964) (Studi e testi, 232), vol. 2: Orient chrétien, pt. 1, 345—397.
[3] Assemani, Bibliotheca Orientalis, vol. 3:1, 513—514; Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, vol. 2, 133—134. See also: Bo Holmberg, A Treatise on the Unity and Trinity of God by Israel of Kashkar (d. 872). (Lund Studies in African and Asian Religions, 3). Lund: Plus Ultra, 1989 (passim); Gianfranco Fiaccadori, “On the Dating of Īliyā al-Ǧawharī’s Collectio canonica”, Oriens Christianus 68 (1984), 213—214; Hubert Kaufhold, “Nochmals zur Datierung der Kanonessammlung des Elias von Damaskus”, Oriens Christianus 68 (1984), 214—217; Gianfranco Fiaccadori, “Īliyā al-Ǧawharī, Īliyā of Damascus”, Oriens Christianus 70 (1986), 192—193.
[4] Troupeau, 1969, 198.
[5] Ibid., 197.
129
obvious that the Bodleian library text, in comparison to that of the Vatican, looks stylistically edited. Thus, the literary particle qad is more frequently used in the Bodleian Library text than in the Vatican text[1]. Since one can hardly imagine that these particles would be systematically removed for the sake of “abridgement”, it stands to reason that the Bodleian Library text added the particles to improve the style. It should be noted that a very similar sort of editing is evident in yet another treatise that the same Bodleian Library manuscript contains: The Treatise on the Union by Ibn aṭ-Ṭayyib (fol. 104r—105r), when it is compared with the other recension of the work (Vat. ar. 145, fol. 67v—71v)[2].
When compared with the two manuscripts mentioned above, the synopsis made by Muʾtaman ibn al-ʿAssāl presents readings characteristic of the same branch of the manuscript tradition of the Book of the Concordance of Faith to which the text of the Bodleian Library belongs. It is curious, however, that the Coptic encyclopedist omitted the paragraph devoted to the various ways of making the sign of the cross. Only towards the end of his synopsis, Ibn al-ʿAssāl remarks that “the Jacobites made the sign of the cross from the left side to the right, and the others made it in the opposite way”. He explains that he “did not indicate this because it was widely known and because both ways were equally acceptable, and the subject was trivial”[3].
The cultural heritage of Middle-Eastern Christianity was so influential in the rest of the Christian world that it frequently attracted the attention of scholars studying particular church traditions. It is not surprising, therefore, that Middle-Eastern Christian practices became an intriguing subject for historians of the origins of the Russian “Old Believers”, a movement which itself frequently referred to some Middle-Eastern Christian practices as proofs of the truthfulness of its own tradition.
In 1847, in the Colloquia of the Imperial Society for Russian History and Antiquities at the University of Moscow, Philaret Gumilevskiy (1805—1866), who was then the bishop of Riga, published his study The Worship
[1] Cf. Vat. ar. 657, fol. 5r:15, fol. 7v:16—17, fol. 8v:1, fol. 10r:11, fol. 13r:5.
[2] See various readings indicated in: Gérard Troupeau, “Le traité sur l’Union de ‘Abd Allāh ibn al-Ṭayyib”, Parole de l’Orient 8 (1977—1978) 141—150; repr. in: Gérard Troupeau, Études sur le christianisme arabe au Moyen Âge, Essay VII. The Vatican version of this text was also alleged to have numerous omissions, but in actuality has no evident textual defect.
[3] Wadi, Pirone, Maǧmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn, Vol. 1/SOCh 6a, 192.
130
of the Russian Church in the Pre-Mongolian Period[1]. Concerning the various ways of making the sign of the cross, bishop Philaret cited a Middle-Eastern Christian author who had touched on the subject in his treatise: “The Nestorian author Elias of Damascus who lived in the late ninth century, intending to reconcile the Syrian Monophysites with the Orthodox and the Nestorians, wrote as follows: ‘As to the fact that they do not agree with each other in making the sign of the cross, this is not an obstacle at all. Some of them, for instance, make the sign of the cross with one finger and move the hand from the left side of the body to the right. Others do it with two fingers, and do so from the right side to the left… Jacobites sign themselves with one finger. By making the sign of the cross with two fingers, from right to left, Nestorians and Melkites (Orthodox) confess the faith that the divinity and the humanity [of Christ] were united while on the cross’ (Assemani Bibl. Orient. T. 3. P. 2. p. 383)”[2]. This testimony was taken, as the author clearly indicated, from the famous encyclopedic work of the Maronite scholar Joseph Simon Assemani (1687—1768), the Bibliotheca orientalis, even though the reference provided was imprecise, and the other part of the Bibliotheca orientalis where Assemani had discussed this passage in more detail along with the parallel Arabic quotations, was not referenced at all[3].
This testimony, introduced by bishop Philaret into Russian studies of Church history, drew both criticism and lively interest[4]. In 1870, archimandrite Nikanor (Brovkovich) (1826/7—1890/1), subsequently archbishop of Kherson and Odessa, published his study, entitled The Church of St. Sophia in Constantinople: A Witness to the Ancient Orthodox Sign of the Cross. Being an expert in Latin and a polemicist, he enthusiastically translated and commented on the quotations from the treatise De concordia Fidei “by Elias of Damascus, Metropolitan of the Nestorian community,” found in Assemani’s Bibliotheca orientalis[5]. Following Assemani’s
[1] Филаретъ (Гумилевскiй), еп. Рижскiй, Богослуженiе Русской Церкви до монгольскаго времени, Чтенiя въ Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ 7 (1847) 1—42.
[2]Ibid., 31, n. 2. Italics in the original.
[3] The correct reference is: vol. 3, pt. 2, 388 and vol. 3, pt. 1, 513—516.
[4] The critics regarded the testimony as an argument in favour of the Old Believers. See Letter 84 (especially its postscript) in: Письма Филарета, Архiепископа Черниговскаго, къ А. В. Горскому (Москва, 1885) 216—217; Е. Голубинскiй, Къ нашей полемикѣ съ старообрядцами, Чтенiя въ Императорскомъ обществѣ исторiи и древностей Россiйскихъ 3/214 (1905) 246.
[5] Никаноръ [Бровковичъ], архим., Цареградская церковь святой Софiи—свидѣтельница древле-православнаго перстосложенiя, Православный собесѣдникъ, издаваемый при Казанской Духовной Академiи 3 (1870) 189—202. Nikanor’s reference, like that of bp. Philaret, is to the second part of the third volume of the Bibliotheca orientalis, but he adds another reference — to the more detailed description of the treatise in the first part of the third volume of the B. O.
131
account, Nikanor wrote: “Who was this Elias of Damascus? … Elias ... nicknamed Geveri (Гевери), the Nestorian bishop of Jerusalem, was ordained metropolitan of Damascus by the patriarch John on the 15th of July of the year 1204 of the Greek era (i.e. since Alexander the Great), [corresponding to the year] 893 of the Christian era...”[1] Thus, owing to archimandrite Nikanor, “Elias Geveri” (Илiя Гевери) became a reality in Russian studies of Church history[2].
The following introduction of the Book of the Concordance of Faith, which also provides a useful summary of the treatise, and the chapter discussing the various ways of making the sign of the cross are presented below in an English translation prepared by Nikolai N. Seleznyov in consultation with Dmitry A. Morozov.
The Book of the Concordance of Faith
Introduction
(Vat. ar. 657, fol. 4v:1—6v:7)
In the name of God, the Merciful, the Compassionate, from Whom we seek help. We [begin] transcribing the book which was copied by the learned, respectable holy father, pure, worthy, spiritual Mār Elias of the Lord, al-Ǧawharī, the metropolitan of the noble Jerusalem (al-Quds), the earthly throne of God, pastor of pastors of Christians and leader of those washed clean with the water of baptism, may his prayer embrace us and all the faithful. Amen.
This[3] book is about the concordance of faith, the origin of religion, and the pride of orthodoxy[4] (of the Syrians named Nestorians, Melkites, and Jacobites; a treatise of saint Mār Elias, may God sanctify his pure spirit and have mercy upon us according to his prayer. Amen.)[5]
[1] Ibid., 190. Italics in the original.
[2] Archimandrite Nikanor’s study was reprinted as part of his book О перстосложенiи для крестнаго знаменiя и благословенiя [Concerning the arrangement of fingers for making sign of the cross and blessing; in Russian]. Бесѣда Никанора, Архiепископа Херсонскаго и Одесскаго (Saint Petersburg, 1890).
[3] Absent (abs.) in Troupeau’s edition (T).
[4] T added (add.): glorious.
[5] T: abs.
132
(Mār Elias)[1] said: 1[2]. When I looked at the magnificence of the Christian faith[3] [from the point of view of] the truthfulness of the faith in God — Who is Great and Glorious! — [4] the appropriately celebrated services[5] to the Creator of (heaven)[6] and earth, and of what is upon (it)[7], [8], according to the law of guidance commanded by the Merciful Creator[9], propagated[10] throughout the Orients of the earth and its Occidents[11], among the peoples and nationalities scattered over remote countries and all the lands, [while] every nation among them is proud of what it has of the Christian religion[12], common for all (upon the earth)[13], and of [its own] confession[14]; then I saw that a situation inspired by the devil[15] overtook some [of] these peoples, and consequently, there happened a divergence[16] of some of them from the others following the way of passion (opposed to the mind)[17], and so they split into many divisions of which one could speak for long. But even if they do, all their multiplicity aside, agree[18] in opinions and differ from each other in passions, they are reducible to three divisions (firaq), for they ascend to three denominations (maḏāhib) as their roots[19], namely (the division of the Nestorians, the division of the Melkites, and the division of the Jacobites); everything that exists apart from these three communities (al-milal)[20] are [in fact] divisions which (originate)[21] from them and are
[1] T: ʿAlī ibn Dāwūd al-Arfādī, prosperous in God and a slave of obedience to Him.
[2] Paragraph numbers follow Troupeau’s edition.
[3] T add.: and found it brilliant.
[4] T add.: pure faith.
[5] T add.: proper.
[6] T: heavens.
[7] In the MS used by Troupeau: in them [i. e. in the heavens].
[8] T add.: ornated with beloved knowledge.
[9] T add.: rich.
[10] T: being spread.
[11] T add.: and its remotest, and its nearest, manifestly, abundantly.
[12] T add.: and rejoice at what it has.
[13] T abs.
[14] T add.: in the truthful Gospel which is the principle of religion, and a part of faith, and the light of truth; In the synopsis of Muʾtaman ibn al-ʿAssāl: in the Gospel, the truthfulness of which is strong.
[15] T add.: cursed.
[16] T add.: and mutual disagreement.
[17] T: which passes [limits] the minds / which infects minds.
[18] T: mutually part with [each other]; Troupeau translates in French: elles s’écartent.
[19] T add.: and they are an offshoot of them.
[20] T add.: besides these.
[21] T: because they take/originate from them.
133
reducible to them, as are the Maronites, the Isaacians, and the Paulinians[1], and other [divisions] of the Christian religion apart from them. I found that every one of these three aforementioned communities has [its own] ignoramuses, and every [community] has its own troublemakers and squabblers, and that every community[2] defames those who contradicts it[s position], accusing them of disbelief, impiety, and departure from the faith, and they curse the [supposed] disbelief of each other.
When I thoroughly considered this and examined it as it should be examined[3], I found no difference between them which would entail contradictions in what concerns the religion and the faith and saw no [situation] among them where someone’s faith would refute someone else’s, and someone’s views would deny another’s views, 2. (but they all)[4] come together in their faith and in the principles of their preaching to the (pure Gospel)[5], which (God sent down)[6] and which the leaders of the truthful way — the righteous apostles, i.e. the disciples of our Lord Jesus Christ — passed on to them. (I found no one who would disagree with anyone else in his testimony to the truthful Gospel, [for there is] no one)[7] who adds [anything to it] or takes anything away [from it], but they all read (the Holy Gospel, the Epistles[8] of Paul)[9], our Lord’s and (Saviour’s)[10] apostle, which are fourteen epistles that prove the Gospel, (and also the Book of Acts)[11],
and they all agree in accepting this and assert[12] the truthfulness of this. And since the Gospel is the principle of religion, and [the Book of the Epistles of] Paul is its proof, and the [Book of the] Acts is a witness to it, then there
[1] This is the reading of T; the Garshūnī text reads: al-qawlāniyya.
[2] In the MS used by Troupeau: people.
[3] T: metathesis looked through the pages as it should be looked through the pages.
[4] T: because they.
[5] T: the truthful Gospel of God.
[6] T abs.
[7] T: When looked through the pages of what these three communities had from the Gospel, I did not find in what they have anything concerning which anyone would disagree with any other.
[8] T abs.
[9] In the synopsis of Muʾtaman ibn al-ʿAssāl: the Gospel and the apostles’ sayings.
[10] T abs.
[11] T: When I considered this, I found in it no disagreement with any other community, either [by way of] addition, or [by way of] taking away. I also examined the Book of Acts and that of the epistle [of Paul] and the catholic [epistles] of the disciples of Christ our Lord, and while comparing them with each other I found neither any addition to what others have, nor any taking away from it.
[12] T: obey.
134
is no[1] difference between them, nor any contradiction, for their faith is right in [what is considered to be right in] religion.
On the Sign of the Cross
(Vat. ar. 657, fol.10v:10b—11r:16a)
7. Concerning their divergence in making [the sign of] the cross[2], some of them make [the sign of] the cross with (one finger)[3], beginning from (the left side [and going] to the right, while others do it with two fingers, beginning from the right side [and going] to the left)[4]. This circumstance does not[5] imply any division, but is of the same kind[6] as what I wrote on [the subject of] one nature versus two natures, because the Jacobites make [the sign of] the cross with one finger, beginning from the left side [and going] to the right, thus pointing to (the faith in the one Christ who, while on)[7] the Cross, saved them by his crucifixion [and led them] from the left side, which is the [side of] sin, to the right side, which is the [side of] forgiveness. Then, when the Nestorians and the Melkites make [the sign of the cross] with two fingers, beginning from the right side [and going] to the left, they mean[8] that the divinity and the humanity [of Christ] were together on the Cross, (because the salvation [was achieved] through this, and [consequently] there appeared)[9] faith from the right side[10],
and disbelief was banished from the left side[11], which is delusion. This is a subject in which there is no difference that would necessarily make
[1] T: I did not find.
[2] T: sign (išāra) of the cross; in the synopsis of Muʾtaman ibn al-ʿAssāl: sign (rašm) of the cross.
[3] T: two fingers.
[4] T: the right side [and goes] to the left side, and someone from them does it with one finger and begins from the left side [and goes] to the right side.
[5] T: contradiction.
[6] Following the reading of Troupeau’s edition.
[7] These words are absent from the manuscript on which Troupeau’s editionis based, but are present in his edition. Most likely, they were lifted from the fragment of the Vatican text reproduced in Assemani’s Bibliotheca orientalis, though Troupeau makes no reference to it.
[8] In the Garshūnī manuscript: faith [then crossed out:] thus from the right side.
[9] T: without division, and that the salvation was manifested.
[10]T add.: which is the right way.
[11] T: to the side.
135
a violator[1] [of any particular custom] impious, because the meaning[2] of the faith is one.
[1] T: contradicting him.
[2] The reading of Troupeau’s edition.
136
 |

|
 |

|
139
Истина при самопроявлении, нисходя, дошла до человека, — это нисхождение [...] единства ко множеству, целого к части, моря к капле; и человек при самоуничтожении, восходя, доходит до Истины, — это восхождение [...] множества к единству, части к целому, капли к морю.
В. А. Жуковский. Человек и познание у персидских мистиков
Настоящее исследование посвящено изучению проблемы единства на основе анализа философской поэмы «Язык птиц» (Мантик ат-тайр) Фарид ад-Дина Аттара Нишапури — крупнейшего персидского поэта и представителя суфийской философской традиции конца XIII в. Поэма «Язык птиц» — одно из самых известных сочинений Аттара, как на Западе (в Европе и Америке), так и в России, в котором он предстает не только как поэт, но и как незаурядный мыслитель. Поэма представляет собой «развернутую аллегорию»1 и повествует о путешествии птиц к их царю — Симургу. Этот незамысловатый поэтический сюжет, наряду с характерной манерой Аттара писать для простых людей и просвещенных мужей, дает исследователям определенную свободу в прочтении текста и позволяет выбирать разные стратегии его истолкования.
[1]* Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект номер 13-03-00414.
Бертельс Е. Э. Основные линии развития суфийской дидактической поэмы в Иране // Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. М., 1965. С. 75.
140
Относительно вопроса о философской проблематике поэмы в научной литературе распространено мнение, что Мантик ат-тайр представляет собой «аллегорическое описание суфийского “странствия”»[1] к Богу. Нельзя не отметить, что эта дефиниция носит слишком обобщенный характер и не может в полной мере прояснить, о чем же конкретно писал Аттар, т. е. вскрыть специфику его философских взглядов. Особенно, если учитывать тот факт, что философских трактатов, посвященных изложению суфийской концепции пути к Богу (тарик), в средние века было написано немало, а в литературной среде даже сложилось целое направление — суфийская мистическая поэзия.
Крупнейший ученый-иранист Е. Э. Бертельс, большую часть своей жизни посвятивший исследованию персидской суфийской поэтической традиции, высказал интересное замечание о том, что «основная тема всякого суфийского стихотворения предусмотрена заранее и ничего кроме таухид или вахдат-и вуджуд в нем воспето быть не может»[2]. Нельзя не отметить, что при всем тематическом и сюжетном многообразии суфийской поэзии, утверждение Е. Э. Бертельса выглядит некоторым упрощением. Тем не менее оно имплицитно предполагает, что, во-первых, суфийская поэзия носит философский характер. В рамках персидской поэтической традиции были разработаны особые приемы точного выражения четко сформулированных положений. Любое поэтическое сочинение являлось «не просто сменой традиционных образов, более или менее ярких, а вполне логичной последовательностью мыслей, обоснованной требованиями суфийской философии»[3]. Во-вторых, дальнейшее развитие тезиса Бертельса позволяет описать философское содержание суфийского поэтического сочинения, в нашем случае поэмы «Язык птиц», и рассмотреть проблему единства (тавхид) в качестве одной их основных.
* * *
Проблема поиска единства, неизменной первоосновы всего сущего, является одной их тех фундаментальных проблем в истории мировой философской мысли, которые по своей сути являются ровесниками
[1]Бертельс Е. Э. Основные линии развития суфийской дидактической поэмы в Иране // Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. М., 1965. С. 76.
[2]Бертельс Е. Э. Заметки по поэтической терминологии персидских суфиев // Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. М., 1965. С. 109.
[3] Там же. С. 110.
141
самой философии. Стремление найти в многообразии мира некое единство и непротиворечивым образом описать мир, став импульсом к появлению и развитию философской рефлексии в античности, и в наши дни продолжает оставаться неотъемлемой частью научных дискуссий. Круг вопросов, касающихся разных аспектов проблемы единства, весьма велик: как осмыслить единство? Каким образом реализуется принцип единства? Можно ли однозначно описать механизм утверждения единства через соединение-объединение отдельных частей в единое целое или есть какой-то иной способ? К примеру, установление единства благодаря взаимной отнесенности (или соотнесенности) частей с чем-то третьим, которое объединяет их, не включая в состав себя (внутрь себя)?
Принцип единства наличествует во всех культурах и во всех областях культуры. В чем же различие в понимании единства у представителей разных культур, к примеру, европейской и исламской? Ведь принцип единства реализуется не только в исламской культуре, и все же мы не можем увидеть действие этого принципа там, где очевидно его наличие для представителя исламской культуры. Дело в том, что мы вкладываем в понятие единства совершенно иной смысл, чем мусульмане, поэтому и значение, приписываемое «единству» в западной традиции одно, а в исламской культуре — принципиально другое.
Зададимся следующим вопросом: что сразу же приходит нам на ум, когда мы произносим слово «единство»? Какие ассоциации возникают у нас с этим понятием? Единство понимается как некая «общность», «полное сходство», «цельность», «сплоченность», «слитность», «нерасчлененность на составляющие части»; «единое мыслится в качестве начала неделимости, единства и целостности как реально сущего — вещи, души, сознания, личности, так и идеального бытия — понятия, закона, числа»[1].
Пытаясь помыслить единство, мы автоматически сводим воедино некое множество самостоятельных предметов, стремясь обнаружить некую объединяющую их идею. Принцип единства реализуется, с одной стороны, через процедуру обобщения, а с другой — через придание формы. Придание формы понимается как основной способ утверждения в бытии. Согласно Аристотелю, придание формы тождественно приданию бытия: «... форма, или первообраз, а это есть
[1]Гайденко П. П. Единое (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/1074.html (дата обращения 11.02.2014).
142
определение сути бытия вещи...»[1]. Та или иная вещь существует постольку, поскольку она есть некое единство. Именно форма служит выражением принципа единства. Единство дано нам сразу, поскольку уже в процессе созерцания формы нами схватывается смысловое содержание предмета, ведь именно она и несет этот смысл.
В исламской культуре единство возведено в ранг фундаментального, культурообразующего принципа. Сам ислам (букв. «предание себя Богу») — самая строгая из всех авраамических религий, в которой абсолютный монотеизм утверждается через признание единства и единственности Бога. И как следствие подобной установки на единство, мы отмечаем культурные и социально-политические особенности жизни представителей исламской культуры.
На уровне всей исламской цивилизации, в масштабах всей культуры мусульман, единство обеспечивается наличием единой религии — ислама, Корана и арабского языка. Применительно к формированию и развитию ислама, можно говорить о некоем функциональном единстве, к примеру, в социально-политической сфере, когда его предводители (сначала пророк Мухаммад, а после его смерти халифы, эмиры и т. д.) сами были политическими и одновременно религиозными вождями.
В исламе никогда не существовало церкви как социального института, деятельность которого связана с разработкой системы догм и культовых обрядов, и поэтому столь животрепещущая для средневековой Европы проблема резкого противостояния церкви и светской власти и связанных с ней негативных последствий в исламских странах просто не возникала. Все дело в том, что ислам всегда был и остается не только религиозной доктриной, но и особой формой социальной организации. Он определяет не только характер экономических отношений, но и социальную структуру, культуру, искусство и быт верующих.
Как основополагающий принцип развития и существования исламской культуры единство не дано как конечный результат и не может быть схвачено сразу. Истинное значение того или иного элемента мусульманской культуры — будь то поэтическое сочинение (газель или маснави), слушание музыки во время суфийских радений (сама‘), геометрический орнамент и т. д. — оказывается скрытым под его словесной, звуковой, визуальной формой-оболочкой. На самом деле, каждый из указанных нами объектов культуры, помимо своей прямой непосредственной роли в культуре, является утверждением принципа единства и единобожия (тавхид).
[1] Метафизика, гл. 1, фр. 25 // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. С. 146.
143
Принцип единства обнаруживает себя лишь в ходе последовательного, пошагового прочтения или созерцания, в процессе «перехода» от явного плана текста или изображения к скрытому, когда «мы преодолеваем множественность двух сторон, явной и скрытой, каждая из которых не является единичной вещью сама по себе, чтобы обнаружить их единство как единичную вещь»[1]. Таким образом, путь к экспликации единства в исламской культуре для нас оказывается непрямым, принципиально иным и непривычным. Эти общие замечания помогут нам в дальнейшем придерживаться верной стратегии истолкования проблемы единства в поэме Мантик ат-тайр Фарид ад-Дина Аттара.
* * *
Замысел философской поэмы «Язык птиц», в которой Аттар попытался дать непротиворечивое описание единства мироустройства, при котором мир понимается неинаковым Богу, но не тожественным ему, по-видимому возник у него влиянием традиции мусульманской философской рефлексии над проблемой единства бытия.
Необходимость проблематизации соотношения «Бог — мир» выросла из особых мировоззренческих установок мусульман, фундаментом для которых стали их религиозные убеждения. Центральным положением, на основе которого строится исламская картина мира, является представление о дихотомическом разделении на два полюса: Бог и все то, что кроме него, т. е. сотворенный им мир. Бог — «абсолют, он существует в себе и для себя, над миром; мир — его творение; но каково отношение между богом и миром, между богом и человеком, — на эти вопросы в Коране ясного ответа нет…»[2]. Поиск ответа на эти вопросы стал стимулом к развитию мусульманской философской мысли. Исламские философы пытались разрешить ряд затруднений: как связать эти два полюса, Бог и мир? Каким образом истолковать их соотношение?
В исламской философии прочно утвердились несколько постулатов, которые вплоть до формирования философского суфизма определяли характер теоретических рассуждений относительно истолкования соотношения Бога и мира. В первую очередь следует выделить
[1] Метафизика, гл. 1, фр. 25 // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. С. 175.
[2]Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII—XV веках: Курс лекций / Под ред. В. И. Беляева. 2-е изд. СПб.: С.-Петерб. ун-т, 2007. С 72.
144
представление об абсолютной трансцендентности Первоначала миру. Первоначало мыслилось как нечто единое, вечное, неизменное в противоположность тварному, множественному, изменчивому миру.
Во-вторых, представление об абсолютном единстве Первоначала, в понимании которого нельзя мыслить множественности. Первоначало (Бог) не содержит множественности внутри себя, но имеет имена — «прекрасные имена Бога» (ал-асма ал-хусна), т. е. атрибуты, которых в Коране насчитывается девяносто девять. Семь имен стали предметом активного обсуждения мутазилитов (ал-му‘тазила) — представителей первого крупного течения в каламе[1]. В рамках дискуссии о божественных атрибутах (ас-сифат) они пытались осмыслить проблему соотношения Первоначала (Бога) и мира. Крупный исследователь мусульманской философии М. Уотт[2] отмечает, что одним из основных принципов философии мутазилитов явилась абсолютизация принципа тавхид. Последовательно утверждая единство и единственность Бога, мутазилиты отрицали реальность, самостоятельность, вечность и сущностную отличность от Бога его атрибутов (ас-сифат). Впрочем, мыслители выделяли «атрибуты самости» (сифат аз-зат), такие как «знание», «могущество», «воля», «жизнь» и др. Они считались тождественными друг другу и сущности Бога, а потому признание их вечности не влекло за собой отрицание единственности Бога. Помимо атрибутов самости мутазилиты упоминали и «атрибуты действия» (сифат ал-фи‘л), к которым относили «волю», «слух» и «речь», и полагали их возникшими во времени. Творение Богом мира объяснялось мутазилитами через атрибуты «знание», «могущество», «воля», «жизнь».
В-третьих, представление о Первоначале как первопричине всего существующего, не зависящей от мира в своем бытии, тогда как мир, наоборот, несамостоятелен и нуждается в источнике бытия. В арабоязычном перипатетизме[3], опиравшемся на античное аристотелевское и неоплатоническое наследие, активно велась разработка доказательств существования Бога как единого начала мира. Ядром философской системы Ибн Сины — крупнейшего представителя фальсафы — явилось положение о разделении всего сущего на возможное
[1]Ибрагим Т. Калам (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/1344.html (дата обращения 30.08.2013).
[2]Watt M. Islamic Philosophy and Theology. An Extended Survey. At the University Press. Edinburgh, 1985. P. 48.
[3]Ибрагим Т. Перипатетизм арабоязычный (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/2298.html (дата обращения 25.09.2013).
145
и необходимое. Необходимо-сущее (Бог) понимается как первопричина всего сущего: «Необходимо-сущее таково, что бытие всех вещей исходит от него и все вещи получают от него необходимость бытия и даже то, что превосходит эту необходимость»[1]. Ибн Сина говорит об абсолютном единстве как важнейшем свойстве Первоначала: «Таким образом, мы выяснили, что у Вселенной есть необходимо сущее начало, которое не входит ни в один род, не подлежит никакому определению или доказательству […], лишено количества, качества, сути бытия, «где», «когда» и у которого нет ни ровни, ни соучастника, ни противоположности. Оно в полном смысле едино...»[2]. Таким образом, будучи едино и бытийно необходимо само по себе, Первоначало рассматривалось в фальсафе как определяющее к бытию все вещи мира и обеспечивающее его единство.
Поиск единства лежит в основе философских построений Шихаб ад-Дин Йахйи ас-Сухраварди (1152—1191) — выдающегося представителя ишракизма. Он пытался разработать строго монистическую онтологическую систему[3], основы которой были описаны в сочинении «Мудрость озарения» (Хикмат ал-ишрак). Вслед за Ибн Синой постулируя иерархический принцип организации реальности, ас- Сухраварди решительно отказывается от базового термина фалясифа «сущее» и вводит новое понятие «свет» (нур). Свет по природе своей беспределен и потому не поддается определению, и представляет собой абсолютную явленность. На вершине световой иерархии находится абсолютный чистый свет, «свет светов» (нур ал-анвар), который является первоначалом и конечной причиной бытия всего и в этом смысле может пониматься как аналог «Необходимо-сущего» Ибн Сины. «Свет светов» характеризуется единством и порождает Первый свет, который, с одной стороны, светит сам, а с другой — освещается «Светом светов». Мир понимается как последовательность «светов», которые будучи тождественными по природе, различаются по степени интенсивности (шидда), каждый нижестоящий свет подчиняется озаряющему его вышестоящему.
[1]Ибн Сина (Авиценна). Указания и наставления // Избранные философские произведения. М.: Наука, 1980. С. 153.
[2]Сагадеев А. В. Ибн-Сина (Авиценна). Мыслители прошлого. М.: Мысль, 1980. С. 177.
[3]Смирнов А. В. Ишракизм (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/1330.html (дата обращения 25.09.2013).
146
В-четвертых, утверждение об иерархичном расположении всего сущего относительно Первоначала. В философии исмаилизма[1] осмысление соотношения Бог-мир было обусловлено представлением об особом принципе организации мироздания. Основные положения исмаилитской онтологии были изложены в сочинении «Успокоение разума»[2] (Рахат ал-акл) Хамид ад-Дина ал-Кирмани (кон. X — нач. XI в.). Единое Первоначало творит первый Разум, из которого образуется весь универсум. Он представляет собой систему сбалансированных структур, организованных схожим образом. Каждый элемент творения относится к определенной структуре — явной или скрытой — и познание его возможно только на данном конкретном уровне.
Итак, мы видим, что в предшествующих суфизму философских системах постулировалась внеположность Первоначала порождаемому им ряду вещей. В философском суфизме обнаруживается принципиально иное понимание единства, благодаря которому снималась строгая дихотомия «Бог — мир» и устранялся онтологический разрыв между Творцом и творением, которое складывалось по мере эволюции суфийского учения. Российский философ-арабист И. Р. Насыров[3] обосновывает наличие двух этапов в его развитии. Первый этап связан с развитием суфийского учения о богопознании в форме «опьяненного» и «трезвого» направлений в суфизме и развитием учений о «растворении» (фана’) и «пребывании» (бака’) суфия в Боге, (Абу Йазид ал-Бистами, ал-Халладж, Джунейд ал-Багдади). На втором этапе шло формирование зрелого философского суфизма, представленного учением о «единстве бытия» (вахдат ал-вуджуд) младшего современника Аттара, суфийского мыслителя Мухийи ад-Дина Ибн Араби (1165—1240).
Мы выделим ключевые положения концепции Ибн Араби, чтобы продемонстрировать его новаторский подход к пониманию единства мироздания. Ибн Араби переосмысливает соотношение «мир — Бог» таким образом, что они становятся параллельными и рассматриваются как условия друг для друга.
[1]Смирнов А. В. Исмаилизм (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/1299.html (дата обращения 25.09.2013).
[2]Аль Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума (Рахат аль-акль) / Пер. с араб. и коммент. А. В. Смирнова. М.: Ладомир, 1995.
[3]Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). М.: Языки славянских культур, 2009. С. 11.
147
Каждая вещь имеет два состояния наличного бытия: как конкретная реальная сущность и как «утвержденная воплощенность» (айн сабита), которая пребывает в Первоначале. В состоянии утвержденной воплощенности каждая вещь есть сама по себе, будучи в состоянии как существования, так и не-существования, а процесс творения понимается как перевод Богом вещи из состояния «утвержденной воплощенности» в состояние конкретной сущности мира.
Каждая вещь, будучи утвержденной в божественном знании, является тождественной и самой себе, и Первоначалу, и любой другой вещи. Отсюда следует вывод о том, что Первоначало проявляется в каждой вещи:
В любой из форм нам Милостивый явен,
В любой из них Единственный сокрыт...
На каждом сущем есть Его печать.
Она Творенью Бога открывает,
Но для наших глаз Его явленье
Упрямый разум аргументом отвергает[1].
В этих поэтических строках заключена суть концепции единства бытия (вахдат ал-вуджуд), согласно которой каждая вещь в мире является воплощением божественной реальности.
До недавнего времени в научной литературе бытовало мнение, что философское мировоззрение Ибн Араби носило исключительно пантеистический характер. Утверждалось, что он учил о единой сущности всех вещей, которые, по его мнению, являются выражением божественной субстанции. Подобная трактовка учения Ибн Араби в корне неверна, т. к. единство мира, согласно его учению, обеспечивается не сущностным единством Творца и творения, а благодаря так называемой «Третьей вещи» (шай салис).
Причина неверного истолкования учения Ибн Араби кроется в том, что исследователи имплицитно исходят из понимания единства, во-первых, как строго противоположного множественности, а во-вторых, понимают установление единства как процесс обнаружения некоего сходства в элементах множества и включения их внутрь единства. Причем данное понимание единства, как и способа его соотношения с множественностью, они мыслят единственно возможным. Но существует и другая стратегия понимания единства, характерная
[1]Ибн Араби. Геммы мудрости // Ибн Араби. Геммы мудрости / Пер. А. В. Смирнова. С. 5.
148
исключительно для арабо-мусульманской культуры. Согласной ей единство рассматривается в связи с внеположной ему множественностью, а «обеспечение единства» (тавхид) понимается как выведение «единого» объекта за пределы множественности и отрицание их взаимной внутриположенности»[1]. Иначе говоря, единство утверждается за счет наличия некоего третьего звена в цепочке «единство-множественность», в котором наличествует нечто общее с противоположными элементами, благодаря чему оно их объединяет, но не включает внутрь себя. Так в философской системе Ибн Араби Третья вещь, в которой наличествуют «утвержденные воплощенности» (а’йан сабита), внеположна Богу и миру и потому понимается как своеобразный посредник между Богом и миром. Благодаря Третьей вещи, с одной стороны, устанавливается и поддерживается единство мироздания, а с другой — сохраняется различие Бога и мира, как двух аспектов бытия.
Некоторые исследователи указывают, что на Ибн Араби большое влияние оказал влияние Фарид ад-Дин Аттар[2]. Осмысление онтологии мироздания как соотношения «мир — Бог» Аттар изложил в поэтической форме, а Ибн Араби позднее представил в виде целостной философской системы.
В сорок второй главе Мантик ат-тайр, посвященной вади тавхид, Аттар описывает способ утверждения единства, когда суфий, переживая это состояние в собственном мистическом опыте, сам становится свидетельством единства Бога:
3673. Дальше ты вступишь в долину утверждения единства.
Подойдешь к стоянке очищения и уединения.
3674. Когда обращают лица к этой пустыне,
Все вытаскивают головы из одного воротника.
Понятие «единство» связано у Аттара с понятиями «очищение» (таджрид) и «отделение» (тафрид) таким образом, что тавхид, утверждение внутреннего единства и единственности Бога, осуществляется благодаря следующим процедурам: 1) очищение [Бога от черт творения] 2) отделение, суть которого состоит в том, чтобы достичь состояния духовной нищеты. Крупный ученый-иранист кон. XIX — нач. XX в. В. А. Жуковский упоминал понятия тафрид и таджрид,
[1]Смирнов А. В. Единство в арабо-мусульманской философии. (НФЭ) URL: http://iph.ras.ru/elib/1076.html (дата обращения 25.09.2013).
[2]Mack B. Ibn ‘Arabi’s Universal Tree and the Four Birds. African and African American Studies Faculty. “Tree of Life” Colloquium. Spring 2008. P. 4.
149
описывая практику воспитания сердца, т. е. процесс его подготовки к познанию Бога-Истины[1]. В этом контексте таджрид понимается как «[внешнее] отделение» от мира, людей, всего сотворенного и обращение к Творцу, а тафрид толкуется как «[внутреннее] отделение», т. е. тотальное сосредоточение на Боге — единственном объекте всех желаний и устремлений.
Не трудно заметить, что в первом бейте речь шла о вади (долина), а во втором Аттар уже говорит о бийабан (пустыня). Сначала эта терминологическая рокировка может вызвать недоумение, но важно помнить, что Аттар никогда не вводит в описание случайных понятий. Он вовсе не стремится нас запутать или направить по пути заведомо неправильного истолкования. Все разрешается довольно просто: термин вади, помимо уже названной, имеет и коннотацию «пересохшее русло реки», что нередко встречается в пустынной местности.
Состояние признания единства Бога Аттар сравнивает с пустыней, т. к. это говорит о полной отрешенности от мира и абсолютной опустошенности суфия, который, как пустой сосуд, готов к тому, чтобы воспринять одного лишь Бога. «Все вытаскивают головы из одного воротника» — пишет Аттар, т. е. любое множество может быть сведено к единству, основание единства множественного мира — единство Первоначала (Бога).
3675. Если увидишь большое число или малое,
На этом пути оно будет единицей!
3676. Если примешься бесконечно умножать единицу на единицу,
Умножая ту единицу на единицу, всегда получишь единицу.
В арабской философской терминологии для обозначения понятия «единый» служат термины вахид (немножественный) и ахад (единственный)[2]. В персидском языке «единство» передается термином вахдат и имеет коннотацию того, что едино, цельно, нераздельно[3]. Понятия «единый», «единственный», а также «единица» обозначаются одним словом йек. Такая семантическая особенность термина йек позволяет Аттару выстроить описание единого Первоначала,
[1]Жуковский В. А. Человек и познание у персидских мистиков. СПб.: Типо-литография Б. М. Вольфа, 1895. С. 21.
[2]Смирнов А. В. Единство в арабо-мусульманской философии. (НФЭ). URL: http://iph.ras.ru/elib/1076.html (дата обращения 03.11.2013).
[3] Толковый словарь Диххуда, сл. ст. «вахдат». URL: http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-baa1415485cf414089a77f0f6187b539-fa.html (дата обращения 03.11.2013).
150
которое символизирует единица, используя переходы смыслов в границах одного термина. В математической теории единица понимается как начало числового ряда, простое, далее уже не разложимое единство. Любое число может быть представлено как сумма единиц. Единица совмещает в себе все возможные числовые комбинации и потому может проявить себя в любой числовой форме, будь то большое число (адад) или малое.
Единица всегда равна самой себе, т. е. абсолютно самотождественна. Бесконечное умножение единицы на саму себя порождает единицу. Единица — это Бог. Он — один и един, является источником бытия мира и как Творец присутствует в каждой вещи тварного мира. Постоянная устремленность, направленность суфия на единство проявляется в том, что за каждой конкретной вещью мира он неизменно видит Бога, так же как в визуально различимой числовой множественности, всегда усматривается единица.
3673. Тот один, который единый, не похож, как тебе подумалось,
На того одного, что в числе.
3674. Поскольку тот [Единый] вне границ и числа,
Отведи взор от предвечности и вечности.
Во втором бейте проводится мысль, что Единый, или Единица, (йек) не служит основой числа и счета (адад)[1] и утверждается абсолютное единство Бога. Он — вне границ (хадд), что полагает его бытие за пределами любого возможного определения и вне числа, множественности (адад), т. е. мира. Бог вне времени, в вечности Бога нет темпоральности, нет ни бесконечного прошлого (азал), ни бесконечного будущего (абад). Постулирование отсутствия какой-либо связи между Богом и миром влечет утверждение совершенной трансцендентности Бога миру.
Интересно, что Ибн Араби утверждая, что мир не есть Бог, но не есть и нечто отличное от Бога, разъясняет свою мысль также на примере все той же Единицы. Но если Аттар выводит Единицу за пределы числового ряда, то Ибн Араби наоборот утверждает, что «благодаря Единице появились числа по известным разрядам»[2]. Единица —
[1] Термин адад в перс. яз. имеет коннотации: 1) число (цифра); 2) штука — нумератив при счете предметов.
[2]Ибн Араби. Геммы мудрости (пер. с араб.). Опубликован в книге: Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука (Вост. лит-ра), 1993. С. 170.
151
источник бытия всех чисел: «Единица дала существование числу, число же раздробило (фассала) Единицу»[1].
Рассуждения о соотношении единства и множественности Аттар ведет на протяжении всей поэмы. Причем, если в приведенном выше небольшом фрагменте Мантик ат-тайр это соотношение было проиллюстрировано на примере математических объектов, то в рамках всей поэмы оно прослеживается в сюжетообразующем рассказе о том, как множество птиц (мурган) со всего мира собираются вместе и отправляются в путешествие на поиски своего единого и единственного Царя-Симурга.
Эксплицировать философскую проблематику поэмы и показать, каким образом через соотношение птицы—Симург Аттар осмысляет соотношение «множественность — единство», позволяет нам сам принцип построения Мантик ат-тайр[2]. С одной стороны, это поэтическое произведение, созданное в соответствии со средневековыми литературными канонами. А с другой — философское сочинение. Поэтому вся поэма может быть рассмотрена как имеющая два смысловых плана:
1. внешний (захир или ашкар) — поэтический;
2. внутренний (батин или нихан) — философский.
Главным сюжетообразующим мотивом в том, что касается внешнего, поэтического слоя этого произведения, является путешествие птиц к Симургу. Во внутреннем, понятийном плане раскрывается содержание понятия «единство».
Этот принцип выстраивания поэмы, предполагающий установление взаимного соответствия между внешним (поэтическим) и внутренним (понятийным) смысловыми планами, и задает определенный способ понимания единства мироздания, которое описывается Аттаром через соотношение поэтических конструктов «си мург — Симург» и выявляется только при установлении правильного соответствия указанных смысловых планов поэмы.
Таким образом, текст поэмы «Язык птиц», который уже заключает в себе это единство внешнего и внутреннего, может выступать выражением принципа единства (тавхид). Мы отмечаем в поэме единство строгой философской рефлексии и богатой поэтической образности,
[1]Ибн Араби. Геммы мудрости (пер. с араб.). Опубликован в книге: Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука (Вост. лит-ра), 1993. С. 170.
[2] Подробная характеристика поэмы приводится в статье: Федорова Ю. Е. Путь к Истине: структура философской поэмы «Язык птиц» Фарид ад-Дина ‘Аттара (XII в.) // Философия и культура. № 9 (57). М.: Nota Bene, 2012. С. 83—93.
152
единство философского понятия и поэтического конструкта, единство как принцип построения литературного произведения и устройства мироздания.
* * *
Предварим анализ текста поэмы несколькими важными замечаниями. Рассматривая понятие «единство», мы обязательно должны затронуть вопрос о том, как нам следует мыслить соотношение понятий «единство» и «множественность», как понимать механизм их взаимодействия. Возможны два пути разрешения подобного затруднения:
1) можно рассматривать соотношение «единство — множественность» как строгую дихотомию;
2) множественность может быть осмыслена как один из аспектов единства, которое в данном случае будет пониматься как «сложное единство».
Рассматривая соотношение категорий единства и множественности, мы можем попытаться дать определение единству: единство — это то, что лишено множественности. Причем, множественность в данном определении оказывается негативным понятием, т. к. именно через отрицание множественности утверждается единство. Развивая рассуждение далее, мы придем к единственно возможному в этом случае заключению — единство и множественность — понятия строго противоположные, так же как противоположна сложности простота, с которой единство обычно ассоциируется. Однако следует отметить, что соотношение единства и множественности, как, впрочем, простоты и сложности, организовано намного сложнее, чем может показаться при первом рассмотрении.
Соотношение «единство — множественность» нельзя считать строгой дихотомией. Примером тому может послужить истолкование одного из главных положений исламской доктрины об устройстве мироздания. В основе мировосприятия мусульман лежит вера в вечного и всемогущего Бога, единого создателя мира и человека. Основной символ веры ислама гласит: «Нет никакого божества, кроме Бога» (ла илаха илла-л-лах). Согласно исламской доктрине, Бог есть простое единство. Как нам следует понимать это определение? Разве само единство не есть нечто простое, цельное, далее неразделимое на составные части? Если это действительно так, то с какой целью Бог в исламе определяется как простое единство? Для чего нужна эта тавтология? Возможно, здесь речь идет о простом единстве в противо
153
положность сложному единству. Как же тогда можно мыслить сложное единство, что это такое?
Если в исламской традиции Бог понимается как простое единство, то, в связи с этим, сложным единством должен мыслиться мир. Мир — некое единство как творение единого и единственного Бога. Но поскольку мы можем засвидетельствовать многообразие форм, присутствующих в мире, — это единство сложное. В силу чего обязательно должно существовать нечто, что поддерживает мир в единстве, иначе бы он распался на огромное количество составляющих элементов. Единство миру дает простота, простое единство, в понимании которого уже немыслима множественность, — т. е. Бог. Единство — это акт божественной простоты, привносящий во все порядок и равновесие. Таким образом, мы можем прийти к пониманию в исламской культуре Бога как простого единства через порядок, царящий в мире.
Как известно, кульминацией поэмы Мантик ат-Тайр является описание встречи тридцати птиц (си мург) и их Царя (Симург), которое может быть философски истолковано в категориях простого единства (Бог) и сложного единства (мир). В поэме содержится множество скрытых и явных указаний, позволяющих увидеть, как Аттар понимает путешествие птиц к Симургу и каким образом это его понимание реализуется в тексте поэмы. Мы покажем одно из возможных истолкований этого «путешествия», которое может быть рассмотрено и осмыслено в двух аспектах:
1) как движение в богопознании от строго-доктринального понимания Бога как абсолютно трансцендентного (в начале поэмы) к суфийскому пониманию Бога как «скрытого» для мира (в конце поэмы);
2) как движение от «сложного единства» к «простому единству».
* * *
Представления о мифической птице Симург глубоко укоренились в иранской культуре, а в эпоху арабского господства изображение Симурга было официальной эмблемой Ирана[1]. Этимология имени Симург (перс.) восходит к пехлевийскому Сенмурв (sēnmurw), который, в свою очередь, происходит от авестийского Саэна мервгхо (mərəγo saēnō), букв. «птица Сен» или «птица-орел». Птица Сен в со
[1]Рак И. В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб.; М.: Журнал «Нева»: Летний Сад, 1998. С. 501.
154
хранившихся текстах Авесты упоминается эпизодически, к примеру, в книге гимнов «Яшт» (12.17), где речь идет об «острове средь пречистых вод, где растет царь лекарственных трав Хаома и живет священная птица Саэна…» Исследователь зороастрийских мифов и легенд И. В. Рак указывает, что птица Сен и Хаома упоминаются вместе не случайно, и усматривает в этом сюжете «отголосок древнейшего индоевропейского мифа об орле, принесшем на землю растение бессмертия», подтверждая свою мысль ссылками на тексты «Ригведы» (гимн «Похищение Сомы» (IV. 27)).
В пехлевийских источниках, к примеру, в текстах Бундахишн, птица Сен предстает в образе «фантастического “триединого” существа с головой собаки, крыльями и в рыбьей чешуе, символизирующего господство на земле, на небе и в воде»[1]. К представлению о птице Сен восходит образ Сенмурва. В «Суждениях духа Разума» (Дадестан-и меног-и храд) содержится легенда о гигантской птице: «Обиталище Сенмурва — на Древе Всех Семян, исцеляющем от Зла, и всякий раз, когда он [Сенмурв] подымается, у дерева вырастает тысяча ветвей; когда же он садится, он ломает тысячу ветвей и рассеивает их семена...»[2]. Именно пехлевийский Сенмурв традиционно считается прообразом Симурга — вещей птицы, упоминаемой в знаменитом эпосе «Шах-наме» Абу аль-Касима Фирдоуси (X в.).
С образом Симурга непосредственно связана метафора «душа-птица», которая является очень распространенной в персидской поэтико-философской традиции. Предшественниками Аттара, посвятившими свои произведения теме странствия птиц, считаются Абу Али Ибн Сина (ум. 1037 г.) — выдающийся представитель арабского перипатетизма и крупнейший мыслитель Абу Хамид Мухаммад ал-Газали (ум. в 1111 г.).
Ибн Сина — автор сочинения «Трактат о птицах» (Рисалат ат- тайр), написанного на арабском языке и переведенного на персидский Шихаб ад-Дином Йахйей Сухраварди (ум. в 1191 г.). Сочинение
Мухаммада ал-Газали, которое также носит название «Трактат о птицах» (Рисалат ат-тайр), перевел на фарси его брат — Ахмад ал-Га
[1]Чунакова О. М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. М.: Восточная лит-ра, 2004. С. 200.
[2] Меног-и Храт (62.37—42) // Цит. по Рак. И. В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб.; М.: Журнал «Нева»: Летний Сад, 1998. С. 106.
155
зали (ум. 1123 г.). Исследователи утверждают, что именно сочинение ал-Газали послужило Аттару основой для написания поэмы, которую он назвал «Язык птиц» (Мантик ат-тайр). В частности, Аттар позаимствовал у ал-Газали сюжет и общую композицию поэмы, но значительно обогатил повествование, добавив ряд важных эпизодов. Сюжет о беседах и странствиях птиц обрел поэтическое воплощение еще до появления Мантик ат-тайр в знаменитых «птичьих касыдах» Санаи и Хакани. В классической персидской литературе, особенно в суфийском мистицизме, Симург упоминается довольно часто, выступая как метафорическое именование Бога[1].
Обратимся к тексту поэмы «Язык птиц». Первую главу Аттар посвящает приветствиям птиц, а вторую открывает история о том, как множество птиц собираются вместе, т. к. осознают, что не могут находиться без царя:
658. Собрались птицы мира,
Все, какие были, — и явные, и тайные.
659. Все сказали: «На свете сейчас
Нет ни одного града без владыки[2].
660. Что станет с нашим краем без царя?
Быть без царя, — больше нам нет пути!
Птицы мира (мурган-и джахан) являют собой сотворенный мир во всем многообразии его форм, как явных (ашкар), так и скрытых (нихан). Мир как совокупное множество не может существовать без некоего единого начала, которое бы поддерживало его в единстве. Если есть град (шахр), то у него непременно должен быть владыка-правитель (шахрияр), и если наличествует нечто сотворенное, значит у него обязательно есть Творец. Сотворенное тоскует по своему Творцу, птицы тоскуют по Царю птиц. Это состояние можно назвать «тоской частей по целому»[3], которая выражается в стремлении это целое обрести:
661. Надобно быть нам опорой друг другу,
И пуститься на поиски царя.
[1] Энциклопедия «Iranica», сл. ст. «simorg». URL: http://www.iranicaonline.org/articles/simorg (дата обращения 03.11.2013).
[2]Владыка (перс. шахрияр) — буквальное значение «опора града», «самый старший в городе».
[3]Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). М.: Языки славянских культур, 2009. С. 362.
156
662. Ведь если не будет царя в стране,
То лада и порядка не будет в войске».
Пребывание без царя сродни состоянию раздробленности и разобщенности, которое, в конечном счете, грозит обернуться полным распадом войска и уничтожением страны. Так и сотворенный мир нуждается в высшем руководящем Начале, которое бы поддерживало его в порядке (назм) и упорядоченном состоянии (тартиб).
Благодаря удоду, вестнику царя Сулаймана, птицы узнают, что Царь у них есть и всегда был, только сами они до этого момента не подозревали о Его существовании:
688. Несомненно, есть у нас Царь.
Он за горой, а имя ей Каф.
Аттар говорит о несомненном (би хилаф) наличии Царя птиц, чье бытие полагается абсолютно истинным и необходимым, также как у мира обязательно должно быть Первоначало, благодаря которому он возник и существует. Кроме того, поэт упоминает, что Симург обитает за горой Каф (кух-и каф). Образ «горы Каф» — один из самых известных в персидской поэзии. Согласно легенде, гора Каф — великая горная цепь изумрудно-зеленого цвета, достигающая огромных размеров и опоясывающая весь мир. В древности иранцы считали, что солнце появлялось и садилось за гору Каф. Позднее, уже в суфийских текстах, под горой Каф понимался духовный мир.
У Аттара образы «Симург» и «гора Каф» даются в связке, и поэтому должны быть истолкованы с учетом логики их построения. Утверждение «Симург за горой Каф» может быть истолковано следующим образом: гора Каф — предел мира, Симург находится за горой Каф, а это означает, что Симург — вне мира. Если перевести данное описание на философский язык, учитывая, что Симург — метафора Бога, то получится, что Бог абсолютно трансцендентен миру. Так выявляется философский смысл бейта.
Ученый-иранист А. Е. Бертельс приводит различные дефиниции слитной метафоры «Симург — гора Каф», и в том числе цитирует Мухаммада Лахиджи — комментатора «Цветника тайны» (Голшан-и раз) персидского поэта-суфия XIV в. Махмуда Шабистари[1]. Лахиджи указывает, что «Симург» является олицетворением «Единой Абсолютной
[1]Бертельс А. Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX—XV вв. М., 1997. C. 93.
157
Сущности», а гора Каф означает «истинную сущность человека» как полное проявления божественной сущности. Истинная сущность человека заключает в себе все истинные сущности мира, и она есть совокупное единство внешнего и внутреннего. «Всякому, кто достиг познания своей истинной сущности», — отмечает Лахиджи, — тому, по причине [положения] «кто познал самого себя, тот познал Господа своего», доступно познание Истинного [Бога]… И всякий, кто достиг горы Каф, пришел к Симургу». По-видимому, Лахиджи в своей трактовке слитной метафоры «Симург — гора Каф» опирался на приведенный выше хадис и сводил свой комментарий к сжатому изложению суфийской концепции богопознания. Продолжая характеристику Симурга, Аттар пишет:
689. Зовется Он – Симург, Повелитель птиц,
Он к нам близок, а мы от Него далеки.
В этом бейте Аттар впервые упоминает имя Симург и отождествляет его с Повелителем птиц, т. е. Симург олицетворяет собой Первоначало мира — Бога. Во втором полустишии говорится о том, что Симург «близок» (наздик) к птицам и содержится аллюзия на коранический аят: «Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия» (50:15). «Близость» Симурга к птицам в философском плане истолковывается как имманентность Бога миру, т. к. Он им управляет. Но в то же время указывается, что сами птицы от Симурга далеки (дур).
Таким образом, можно выделить два понятия, которые помогают Аттару не только описать Симурга, но и выстроить соотношение птиц и Симурга. А именно — «близость» Симурга к птицам и «удаленность» птиц от него. Симург изначально «близок» птицам, так же как Бог, будучи единым Творцом мира, является источником бытия всей совокупности вещей мира. Но, поскольку птицы еще не постигли всецело природу своей связи с Симургом, они оказываются «удаленными» от Симурга, но не в прямом смысле этого слова, а в силу своего неведения. Однако истина единства птиц и Симурга откроется только в конце поэмы. На данном этапе «удаленность» птиц от Симурга может пониматься и в прямом смысле, ведь, как известно из поэмы, чтобы встретиться с Симургом, им предстоит преодолеть долгий и опасный путь. Тем временем Аттар продолжает описание Симурга:
690. На вершине высокого дерева Его покой.
Его имя невозможно выразить словами.
158
В этом бейте мы видим аллюзию на легенду о птице Сенмурв, обитающей на всеисцеляющем древе со многими семенами, которая может быть истолкована следующим образом: Бог вознесен над миром, он неизменен, и все те определения, которые мы даем миру, неприложимы к Богу. Он является абсолютным источником мира и не зависит от него, Бог — неизменная сущность, он несоизмерим с миром, и общность имен божественного и мирского не свидетельствует ни о каком сходстве. Далее Аттар пишет:
691. Больше сотни тысяч завес
Перед Ним — и из света, и из тьмы.
В этом бейте Аттар упоминает одно из важнейших понятий суфийской философии — понятие «завеса» (перс. парде, ар. эквивалент хиджаб). Согласно исламской доктрине, между Богом и миром существует онтологическая пропасть, как между Творцом и творением. Этот разрыв суфийские авторы мыслят как последовательность многочисленных завес, которые скрывают Бога. В этом контексте богопознание понимается как процесс «раскрытия» (кашф), снятия этих многочисленных завес.
Аттар конкретизирует понятие завесы, указывая, что завесы эти из света (нур) и тьмы (зулмат). Упоминание о завесах из света содержится в хадисе, приводимом ‘Анасом ибн Маликом, в котором речь идет о разговоре Мухаммада с ангелом Джибрилом. Пророк спросил, видит ли он Бога, на что последовал ответ: «Воистину, между мной и Им — семьдесят завес из света (нур). Если бы ты увидел ближайшую из них, ты бы сгорел»[1]. В этом хадисе ни слова не сказано о завесах из тьмы. По-видимому, Аттар намеренно выстроил описание завес, как состоящих из противоположных элементов, чтобы показать, что путь к единству заключается в объединении противоположностей.
В следующих бейтах Аттар пишет:
692. В обоих мирах ни у кого не хватит отваги,
Дабы обрести от Него долю.
693. Он Абсолютный Царь навечно,
Погруженный в совершенство своего могущества.
Важно отметить, что Первоначало (Бог) не только пребывает за пределами двух миров (алам), эмпирического (дунья) и сверхэмпи
[1]Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). М.: Языки славянских культур, 2009. С. 296.
159
рического (ахира), в силу чего обладает абсолютным единством. Это простое божественное единство невозможно помыслить состоящим из частей, и потому все то, что причастно двойственности, т. е. наличествует либо в «здешнем», либо в «тамошнем» мире, не может даже частично быть причастно единому Первоначалу. Оно вечно, абсолютно и неизменно равно самому себе, не испытывает ни в чем нужды в силу своего совершенства.
Подводя предварительный итог вышесказанному, отметим, что Симург вобрал в себя те атрибуты, которые традиционно считаются присущими Богу. Согласно описанию Аттара, Симург — вечный, абсолютный и всемогущий, обладает красотой и совершенством. Никто не может сравниться с Симургом и разделить с Ним его власть. Имя Симурга невозможно выразить словами. Разум не может стать источником Его познания. Таким образом, Симург (Бог) понимается как абсолютно трансцендентное единое Начало мира.
От полноты совершенства и любви к сотворенному Бог являет себя в многочисленных формах мира и дарует возможность созерцать себя. В богооткровенном хадисе Бог говорит: «Я был скрытым сокровищем и Мне было любо быть узнанным, потому Я сотворил мир». Мир сотворен, чтобы стать местом самоманифестации Бога. У Аттара момент богоявления (таджалли) описывается в «Притче о Симурге»:
718. В начале творения Симург, — о диво,
В сиянии пролетел в полночь над Китаем.
719. Посреди Китая упало одно Его перо.
И, конечно, в каждой стране началось волнение.
В описании сияния, сопровождающего появление Симурга в Мантик ат-тайр, можно обнаружить общие черты с учением о Боге как свете одного из ранних суфиев Сахла ат-Тустари (ум. в 896 г.). Богоявление понимается ат-Тустари как «световая вспышка божественного бытия во всех своих качествах»[1]. У Аттара Симург явил себя миру в самой отдаленной его части, которую символизирует Китай — своеобразный край мира. Симург, воссиявший на окраине мира, — первая форма самоманифестации Бога, т. е. проявление божественной самости. Далее Аттар описывает вторую форму, которая есть проявление божественных атрибутов: Симург
[1]Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). М.: Языки славянских культур, 2009. С. 367.
160
обронил перо (парр), прикоснувшись таким образом к миру. Через атрибуты Бог устанавливает свое покровительство над миром[1].
720. Каждый воспринял образ того пера,
Каждый, кто узрел тот образ, принимался за дело.
721. По сей день то перо лежит в хранилище Китая,
Вот почему говорят: «Ищите знание даже в Китае!»
Запечатление (накш) пера в мире явилось непосредственным свидетельством существования Симурга, которого воочию не видел никто. По образу (накш) пера стали судить о Симурге. Мы замечаем, как постепенно, шаг за шагом, Аттар подготавливает нас к принятию новой, выстроенной не вертикально, а горизонтально, отнологической схемы: сначала Бог (Симург) описывается как абсолютно трансцендентный миру, потом Он все-таки являет себя миру, оставив перо, и таким образом, мир уже не может мыслиться полностью отличным от Бога, а Бог, в свою очередь, не может далее выступать как нечто иное по отношению к миру.
Анализ поэтического конструкта «Симург», в описании которого идет речь об одновременной «близости» и «удаленности» Симурга от птиц, дает нам возможность говорить об обращении Аттара к истолкованию основной дилеммы мусульманской средневековой философии, т. е. проблеме одновременной трансцендентности и имманентности Бога миру. Собственный подход к решению этой философской проблемы Аттар предъявляет нам в самом конце поэмы, привлекая для иллюстрации соотношения «мир — Бог» поэтическое соотношение «тридцать птиц (си мург) — царь птиц (Симург)». Таким образом, проблема единства в поэме Мантик ат-тайр может быть рассмотрена только в контексте соотношения фундаментальных категорий «Бог» и «мир».
* * *
Прежде всего, Аттар считает необходимым разъяснить характер связи, которая, по его мнению, изначально существует между птицами и Симургом. Наличие этой связи является условием познания Симурга и обусловливает стремление птиц найти Его. Связь Творца
[1] Перс. слово парр многозначно. Помимо значение «перо», оно имеет также коннотацию «крыло», а персидский глагол парр гирифтан означает «оберегать, заботиться, брать под покровительство».
161
и творения, Бога и мира, безусловна и очевидна. Она проявляется в наделении бытием. Вместе с тем образуется онтологический разрыв между миром и Богом, которые мыслятся как прямо противоположные. У Аттара нет строгой дихотомии, т. к. соотношение Бога и тварного мира он осмысливает по аналогии с предметом и его тенью. Здесь уже не дихотомия, а отношение причастности:
1053. Знай, когда Симург из-за завесы
Свой лик явил, подобно солнцу,
1054. Сто тысяч теней он отбросил на землю.
После устремил взор на чистую тень.
1055. Тень свою Он рассеял над миром.
Каждый миг появлялось несколько птиц.
Симург (Бог) пребывает за завесой (никаб). В какой-то момент Он являет лик (рух), озаряя все вокруг подобно солнцу (уфтаб), которое вдруг пробилось сквозь плотную пелену туч. Симург не просто являет себя, он отбрасывает тень (сайе), точнее «сто тысяч теней», из которых возникают птицы, т. е. получает бытие множественный мир.
Нельзя не отметить явные параллели Мантик ат-тайр с текстом «Мекканских откровений» (аль-Футухат аль-маккиййя) Ибн Араби, который описывает следующую онтологическую систему: «Бог есть чистый свет, а невозможное есть чистая тьма. Тьма никогда не становится светом, и свет никогда не становится тьмой. Творение же есть меж светом и тьмой перешеек (барзах), сам по себе не описываемый ни как тьма, ни как свет. Оно — перешеек и посредник, определяемый с обеих своих сторон [23, т. 3, с. 274]»[1]. Бог, понимаемый как абсолютное, совершенное, необходимое бытие, соотносится с образом «чистого света», а необходимое небытие — с образом «чистой тьмы». Мир (творение), связывая эти противоположных полюса, разделяет их и, будучи причастным и свету, и тьме, не является ни тем, ни другим, и соотносится с образом тени.
Чтобы какой-то предмет отбрасывал тень, необходимо, чтобы он сам был освещен чем-то извне. У Аттара же прямо сказано, что сам Симург сияет как солнце. Возникает вопрос: как такое возможно? Есть два варианта ответа: либо самого Симурга озаряет какой-то другой источник света, благодаря чему он отбрасывает тень, либо тень отбрасывает нечто другое, на что нисходит свет Симурга. Ни один,
[1]Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука (Вост. лит-ра), 1993. С. 64.
162
ни второй вариант в онтологической системе Аттара невозможны, т. к. это противоречит утверждению о единственном первоначале мира, т. е. Боге, строгое единство которого постулировалось в самом начале поэмы. Остается признать, что и Симург-солнце, и свет, который он излучает, и тень, которую он отбрасывает, — на самом неделе едины в бытии. Разделение на два полюса: «Солнце — Симург» и «тень — птицы», — мнимое, и поэтому Аттар и не стал вводить понятие «тьма», как это сделал Ибн Араби (свет—тень—тьма). В философских построениях Великого шейха «свет и есть свой собственный источник и сам на себя падает, порождая свою тень. Получается самоизлияние порождающего, самого себя дифференцирующего света...»[1]. Далее Аттар развивает мысль о единстве Симурга и птиц:
1056. Облик (форма) всех птиц мира
От Его тени, — пойми это, о незнающий!
1057. Пойми это! Коль знал бы ты это заранее,
Нашел бы верную связь с Тем Господином.
Схожий пассаж есть и у Ибн Араби в «Геммах мудрости» (Фусус аль-хикам), точнее, в «Гемме мудрости лучезарной в слове Иосифа». Великий шейх пишет: «Знай то, о чем говорится: «кроме Бога» (сива аль-хакк), или то, что именуется миром, по отношению к Богу — то же, что тень по отношению к человеку». У Аттара природа связи Симурга и птиц такова: птицы по своей форме (сурат) — тень Симурга. Признание онтологической несамостоятельности открывает птицам путь к самопознанию и осознанию своего единства с Тем Господином (Симургом). Иными словами, птицы не смогут увидеть себя тем, кем по сути являются, т. е. понять, что они — отражение (тень это ведь тоже в некотором смысле отражение) единого Бога-Симурга, спроецированное на множественный мир и являющее собой сложное единство. Аттар говорит о том же самом, что и Ибн Араби, т. е. утверждает единство бытия, но несколько иначе:
1063. Если бы Симург оставался скрытым,
Этой тени никогда не явилось бы в мире.
1064. А если бы Симург вновь исчез,
В мире навсегда пропала бы тень.
[1]Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука (Вост. лит-ра), 1993. С. 67.
163
Поэтический образ «тень», который использует Аттар, в философском плане означает «несамостоятельность в бытии»: Симург явлен — возникает тень, Симург исчез — тень пропадает. Тень существует вместе с тем, что является ее источником. Ибн Араби разъясняет схожий тезис следующим образом: «Разве чувство не подсказывает тебе, что она (тень. — А. С.) соединена с человеком, который ее отбросил, и сие единение не может распасться, ибо для вещи невозможно отпасть от своей самости?»[1]. Так и в писании Аттара тень не появляется сама по себе, обязательно должен существовать предмет, который бы отбрасывал тень. Предмет и его тень едины.
Как известно, кульминацией поэмы является описание встречи тридцати птиц (си мург) и их Царя (Симург), которое может быть истолковано в философских категориях простого единства (Бог) и сложного единства (мир).
Аттар выстраивает очень интересный образный ряд: с одной стороны, Царь птиц (Симург), сияющий как солнце, — это зеркало, с другой, птицы (си мург), которые видят в этом зеркале самих себя как Симурга, и наконец, третий элемент — отражение, которое и соединяет тридцать птиц и Симурга, являясь и Царем птиц (Симург), т. к. невозможно разделить зеркало и отражение, невозможно увидеть зеркало без отражения, и отражение без зеркала, и тридцатью птицами (си мург), без существования которых зеркало не имело бы отражения, т. е. по сути не являлось бы зеркалом.
4215. Пришел от того Господина безмолвный ответ:
«Этот Господин, [сияющий] как солнце, — зеркало.
4216. Каждый, кто приходит, видит в нем себя.
Тело и душу, душу и тело видит в нем.
4217. Поскольку вас пришло сюда тридцать птиц,
Тридцать и появилось в этом зеркале.
4218. Если придет сюда сорок или пятьдесят птиц,
Вновь снимите с себя завесу.
Узнавание птицами в Симурге, как в зеркале, себя и Симурга вне себя — описывается как состояние растерянности (хайра), в котором происходит постижение Бога во всей полноте, приходит видение вещей неиными друг другу, птицы осознают свою неинаковость Симургу. Поэтому в данном случае мы не можем говорить о множественности,
[1]Смирнов А. В. Великий шейх суфизма: Опыт парадигмального анализа философии Ибн Араби. М.: Наука (Вост. лит-ра), 1993. С. 103.
164
которая всегда предполагает различие и многообразие. Тридцать птиц (си мург) должны быть осмыслены как сложное единство. Когда птицы впадают в растерянность и обращают взор на самих себя, они видят себя как сложное единство. Когда же птицы смотрят на Царя-Симурга, они осознают себя как простое единство. Осуществляется постоянный переход не от множественности к единству, а от сложного единства к простому единству. Простое единство — это Бог, а сложным единством мыслится мир. Мир — некое единство как творение единого и единственного Бога. В Мантик ат-тайр зеркальность соотношения «тридцать птиц (си мург) — царь птиц (Симург)», которая проявляется как в визуальном аспекте (идентичность написания), так и в звуковом (схожесть звучания), выражает суть аттаровского понимания единства бытия (вахдат-и вуджуд). В поэме выстраивается следующая онтологическая картина: миропорядок един. Единство мироустройства заключено в единстве Первоначала-Бога. Единство Бога самого по себе, в своей самости — простое единство. Бог, явивший себя и сотворивший мир, — сложное единство. Бог — один и един, является источником бытия мира и как Творец присутствует в каждой вещи тварного мира. Постоянная устремленность, направленность на единство проявляется в том, что за каждой конкретной вещью мира неизменно видится Бог, также как за сложным единством, которое являют тридцать птиц (си мург), всегда усматривается простое единство (Симург).
Поэма Мантик ат-тайр содержит один из способов осмысления устройства мироздания, представленный в виде соотношения поэтических конструктов «птицы (си мург) — царь птиц (Симург)». На внешнем, поэтическом уровне Аттар описывает соотношение «тридцать птиц — царь птиц» (си мург — Симург). На внутреннем, понятийном уровне поэмы си мург может быть осмыслено как «сложное единство», а Симург — как «простое единство». Через соотношение «си мург (сложное единство) — Симург (простое единство) в поэме «Язык птиц» осмысливается реальность (мир — Бог) и утверждается единство бытия.
165
 |

|
Разъяснение понятий
1. Арабское слово

(батн) имеет несколько вариантов перевода: 1) живот, брюхо; 2) утроба, чрево; 3) внутренность, середина. Это слово и его множественное число

(бутун) по своему значению противоположено слову

(захр) — 1) обратная сторона; 2) спина: «Когда были вы зародышами во чревах матерей ваших (фи бутуни уммахатикум)» (К, 53:32), «Вывел вас Аллах из чрева матерей ваших (ва-л-Лаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум)» (К, 16:78). Производное от него слово

(батин) имеет значение
«скрытый», «неясный», «то, что невозможно постичь посредством органов чувств»: «Воздерживайтесь от греха и явного, и скрытого (ва зару захира-л-исми ва батинах) (К, 6:120) «Избегать поступков мерзостных и явных, и тайных (ва ла такрабу-л-фавахиша ма захара минха ва ма батана)» (К, 6:151). Данное слово используется для обозначения чего-то абсолютно сокровенного. Соответственно, скрытый смысл Корана — это те значения и понятия, доводы и данные в айатах указания, которые не являются явными и ясными[1].
2. Арабское слово

(захр) переводится как: 1) обратная сторона; 2) спина. Это слово по своему значению противоположно слову

и используется для обозначения спины: «Если бы стал наказывать Аллах людей за деяния их, то не оставил бы Он на [поверхности] земли (‘ала захриха) ни единого существа живого» (К, 35:45); «Знают они только то, что явлено им (йа‘ламуна захран) в жизни здешней» (К, 30:7), то есть они ведают лишь о делах этого мира и небрегут делами мира будущего; «…и щедро одарил вас милостями и явными, и сокрытыми (захиратан ва батинатан)» (К, 31:20). Явные милости — это те блага, о которых мы осведомлены, а скрытые милости — это
[1] См. Али Акбар Бабаи. Макотебе тафсири. Т. 2. С. 20.
166
те блага, о которых мы не имеем знания и которые мы не постигаем[1]. Выражение «явный смысл Корана» используется для обозначения коранических понятий с явным значением, для прояснения словарного смысла каждого айата, явных смыслов коранических айатов, комментариев и объяснений к Корану и т. п.[2]
Скрытый смысл Корана
Сокровенный смысл Корана — это тот смысл, знания и понятия, на которые в Коране имеются скрытые указания, а явный смысл Корана — это очевидные смыслы и ясные утверждения. Если говорящий вложит в свои слова два значения, то первое будет выражено при помощи ясных указаний, а второе — в виде скрытых отсылок к зашифрованным смыслам и особым тайнам, спрятанным в явную форму таким образом, что только избранные, посвященные в эти шифры и тайны, смогут понять суть его слов.
Таким образом преследуются не только благоразумные цели. Можно также сказать, что скрытый и явный смысл слова является основным элементом при создании литературных памятников и произведений искусства, и чем большими литературными талантами и мастерством обладает говорящий, тем глубже скрытый смысл его слов. А поскольку Коран является предвечным и несотворенным Словом Божьим (ведь, согласно некоторым хадисам, Достохвальный Аллах проявил Себя в нем), естественно, что Коран содержит в себе глубочайшие скрытые и тайные смыслы, и благодаря данной особенности это Священное Писание считается чудом.
Коранические свидетельства
в пользу наличия скрытого смысла в Коране
В коранических айатах не содержится прямых указаний на сокровенный смысл Корана. Однако есть множество айатов, которые косвенно говорят об этом скрытом смысле и о различных смысловых пластах Священной Книги. К примеру, это коранические айаты, которые предписывают руководствоваться разумом и размышлять над
[1] Муфрадат алфаз ал-Кур’ан. С. 540, 541.
[2] См.: Бакави. Ма‘алим ат-танзил. Т. 1. С. 35; Туси. Ат-табайун фи тафсир ал- Кур’ан. Т. 1. С. 9; Ал-Васи. Рух ал-ма‘ани. Т. 1. С. 7.
167
Кораном, айаты, свидетельствующие о том, что эта Священная Книга является подробным руководством, айаты, рассказывающие историю наших предков — их скрытым смыслом является назидание и урок, который мы способны извлечь из их исхода и судьбы разных народов, айаты с осуждением скрытых и явных грехов. Все метафоры и аллегории, примеры и косвенные доводы, имеющиеся в коранических айатах, в каком-то роде указывают на различные смысловые сферы Корана:
[Коран этот] — Писание благословенное, ниспослали Мы его тебе, чтобы размышляли [люди] над айатами его, а обладающие разумом обращались к нему [как к наставлению] (К, 38:29);
Неужели же не задумываются они над [смыслом] Корана? Ведь если бы Коран не от Аллаха, то обнаружили бы они в нём уйму противоречий (К, 4:82);
Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? (К, 46:24)[1];
[Посланникам ниспослали мы раньше] убедительные доводы и псалмы [в свитках], а тебе ниспослали Коран для разъяснения людям того, что было ниспослано им [прежде], — быть может, поразмыслят они (К, 16:44);
[Расскажи, Мухаммад] о том дне, когда выдвинем Мы свидетеля против нечестивцев общины каждой из их же среды и выставим тебя свидетелем для них (т. е. для членов общины Мухаммада). Ведь ниспослали Мы тебе Писание в разъяснение всего сущего, как руководство к пути прямому, как милость и весть добрую для мусульман (К, 16:89);
В повествовании о [деяниях] посланников заключено назидание для мужей разумных. И [повествование Наше] — не рассказ вымышленный, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всего сущего, руководство и милость для верующих (К, 12:111);
Воздерживайтесь от греха и явного, и скрытого. Воистину, те, кто совершает грех, будут наказаны за деяния свои (К, 6:120);
Скажи: «Воистину, запретил Господь мой тяжкие грехи как явные, так и скрытые, а также поступки греховные, притеснение
[1] Цит. по пер. Э. Кулиева.
168
несправедливое, признание наряду с Аллахом того, о чем не приводил Он никакого довода. [Запретил Он] возводить на Аллаха то, чего не знаете вы» (К, 7:33).
Имам Муса ал-Казим в ответ на комментарии к 33-му айату суры «Преграды» изволил сказать следующее: «Коран обладает явным и скрытым смыслом. Все, что в нем объявлено запретным, в своем явном смысле является недозволенным, а в скрытом олицетворяет предводителей гнета и тирании. Все, что в нем объявлено дозволенным, в своем явном смысле является разрешенным, а в скрытом олицетворяет предводителей правды и истины»[1].
‘Аллама Табатабаи считает одной из особенностей коранических айатов их сравнительный характер: «Причина сравнения грехов и запретов с предводителями гнета и тирании и сопоставления покорности [Аллаху] и разрешенного (халал) с вождями правды и истины заключается в том, что те (подобно греху) способствуют отдалению от Аллаха, а эти (подобно послушанию) — сближению с Господом. Может ли близость к предводителям насилия или же вождям истины стать причиной греха либо послушания (поскольку предводители тирании и деспотизма призывают к грехам и ослушанию, а вожди истины — к повиновению Аллаху)?»[2].
Доводы Сунны в пользу наличия
скрытого смысла Корана
Исследователи считают, что эти хадисы обладают необходимой известностью (распространенностью), непрерывными иснадами и достаточным количеством надежных передатчиков[3]. Некоторые хадисы содержат в себе прямые и ясные указания на сокровенный смысл Корана, а некоторые — косвенные. В качестве примера можно привести хадисы, в которых говорится об эзотерическом толковании коранических айатов, или же предания, указывающие на различные уровни смыслов айатов, либо рассказы, в которых речь идет о необъятности знаний, содержащихся в Коране.
[1] См.: ‘Абд ал-’Али ‘Аруси Хувайзи. Тафсир «Нур ас-сакалайн». Т. 2. С. 25.
[2] См.: Мухаммад Хусейн Табатабаи. Ал-мизан фи тафсир ал-Кур’ан. Т. 8. С. 94.
[3] См.: Мухаммад Казим Шакир. Батин ва Та’вил ал-Кур’ан. С. 7—10.
169
Хадис первый. Фадил ибн Йасар рассказал: «Я спросил у имама ал-Бакира о предании, которое гласит, что не существует ни одного айата без внешнего и потаенного смысла. На что Его Светлость изволил ответить: “Их явный смысл — это ниспослание Корана, а сокровенный — его толкование. Многое из него открылось, а много еще сокрыто. Коран подобен смене Солнца и Луны: когда наступит время разъяснения чего-либо из него, он прольет свой свет как на живых, так и на мертвых. Ибо Господь сказал: “Но не открыто толкование никому, кроме Аллаха… Но только мужи разумные внимают назиданиям [Господним]” (К, 3:7), а также мы обладаем знанием в области толкования Корана”».
Хадис второй. ‘Абдаллах ибн Санан сообщил: «Я обратился с речью к Абу ‘Абдаллаху (имаму Джа‘фару ас-Садику: “О, тот, ради которого я готов отдать свою жизнь! Что значит “Затем пусть они завершат свои обряды” (К, 22:29)[1]? На что он ответил: “Подстригание усов, обрезание ногтей и всё подобное этому”. “О тот, ради которого я готов пасть жертвой! Зарих Мухариби рассказывал мне с ваших слов, что фраза ‘Затем пусть они завершат свои обряды’ означает встречу с Имамом”. Имам ас-Садик ответил: “Зарих правильно сказал и то значение, о котором я тебе говорил, также верно, ибо в Коране есть явный и скрытый смысл. Кто может принять и постичь то, что принял Зарих?”».
Хадис третий. Я спросил у имама ал-Бакира о явном и скрытом смысле Корана, на что он ответил: «Явный смысл — это те, о которых говорится в Коране, а скрытый — это те, которые действовали подобно тому, как поступали те, кто упомянут в Коране».
Хадис четвертый. Абу Хамза рассказывает: «Я спросил у имама ал-Бакира об айате: “Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение (махр), желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон” (К, 5:5)[2]. Его Светлость ответил: “Толкование это
[1] Цит. по пер. Э. Кулиева.
[2] Цит. по пер. Э. Кулиева.
170
го айата сопряжено со скрытым смыслом Корана — всякий, кто не признает руководства Али, [будет из числа потерпевших убыток], а принявший руководство ‘Али — [как указано в айате]»[1].
Хадис пятый. Имам Хусейн изволил сказать: «Книга Всемогущего и Великого Господа имеет четыре уровня: явные выражения, указания, тонкости и истины. Явные выражения — для простых людей, указания — для избранных, тонкости — для друзей Бога и истины — для пророков».
Хадис шестой. Имам ас-Садик изволил сказать: «Господь разделил свои слова на три вида: слова, которые понятны и невежде, и мудрецу; слова, смысл которых открывается только тем, кто обладает ясным умом, тонким чувством и достоверным определением, которые Господь даровал ему для познания ислама, удостоив его звания главенствующего; и те слова, суть которых открыта только Аллаху, Его доверенным и усердствующим в науке».
Тайна скрытого смысла Корана
По поводу тайны скрытого смысла Корана ‘Аллама Табатабаи пишет следующее: «Простые выражения пригодны для всеобщего использования; с другой стороны, некоторые из тонких и важных сообщений скрыты за словами, тогда как коранические айаты делают акцент на глубокомыслии, размышлении и проникновении в суть, [что необходимо] для их постижения»[2].
Незыблемость Корана требует того, чтобы все знания, востребованные человеком испокон веков, из рода в род, и выходящие за пределы его чувств и разума, были ниспосланы человечеству посредством Откровения (вахй) в одном Писании. С другой стороны, Небесное Откровение должно быть понятным и приемлемым, исходя из уровня аудитории, к которой оно обращено. Следовательно, Божье Слово должно стать вместилищем различных глубоких и скрытых смыслов, с тем чтобы, заключая в себе достаточно знаний, востребованных во все века, также соответствовать уровню понимания людей всех эпох.
[1] См.: ‘Абд ал-‘Али Аруси Хувайзи. Тафсир нур аc-сакалайн. Т. 2. С. 595.
[2] См.: Мухаммад Хусейн Табатабаи, Коран в исламе. С. 28—32.
171
Иные толкователи усматривают глубокий смысл Корана в том, чтобы не ограничиваться Кораном, ибо [для его понимания] за разъяснениями коранических истин необходимо обращаться, к Ахл ал-Бейт[1]. Но для этого нужно отличать истинных наследников досточтимого Пророка и благородных последователей Корана от людей, которые ложно приписывают себе их качества и статус.
Виды скрытого смысла
Выражение «сокровенный смысл Корана» используется в текстах шиитских ахбаров (хадисов) в таком же значении и обозначает то, что абсолютно скрыто. Айат может обладать двумя видами скрытого смысла: скрытое понятие и скрытое значение.
Первый вид: скрытое понятие. ‘Аллама Табатабаи, следуя хадисам, называет это «ходом Корана»[2]. Имам ас-Садик сказал: «Корану свойственно толкование, которое подобно смене ночи днем и Солнца Луной. Когда наступит время быть разъясненным чему-либо из него, оно воплотится»[3].
Второй вид: скрытое значение. Айаты Корана, помимо актуальности для будущих поколений, обладают многочисленными скрытыми значениями, которые следуют друг за другом последовательно, а не параллельно. Это значение невозможно извлечь из слов айата, но и нельзя его назвать не относящимся к нему. По мнению ‘Алламы Табатабаи, эти последовательные значения являются смыслами, соответствующими определённым айатам, и поскольку эти смыслы располагаются последовательно друг за другом, нет надобности в использовании более, чем одного[4]. К примеру, в разъяснении к айату «делайте добро родителям…» (К, 4:36) содержится хадис о том, что в данном случае слово «родители» означает Пророка и имама ‘Али[5].
(перевод с персидского под ред. А. Ежовой)
[1] Непорочное Семейство Пророка. [Прим. пер.]
[2]Мухаммад Хусейн Табатабаи. Ал-мизан фи тафсир ал-Кур’ан. Т. 1. С. 41.
[3] Там же.
[4]Мухаммад Хусейн Табатабаи. Ал-мизан фи тафсир ал-Кур’ан. Т. 3. С. 64.
[5]Сеййед Хашем Моджрани. Аль-борхан фи тафсир аль-коран. Т. 2. С. 224 и Мухаммад Ибн Мусуди. Айаши — тафсир аль-аяаши. Т. 1. С. 267, 268.
172
 |

|
 |
6.1 Проницательный читатель в стране смыслов урду и персидской литературы (Н. И. Пригарина) |

|
175
Литературные памятники, о которых пойдет речь в статье, принадлежат к литературе, существовавшей в историческом ареале распространения персидского языка[1]. В ней формообразующую роль играли многие факторы. Среди них следует отметить роль предшествующей традиции древне- и среднеперсидской литератур, их сюжетов, идей, образов и жанровых схем, а также традиций, сюжетов и жанров местных литератур на вернакулярных языках[2]. В XIX—XX вв. сюда включается фактор контакта с западной философией, литературой, культурой, и, в особенности, такими ее течениями, как просветительство, романтизм[3], филориентализм, сентиментализм, неоромантизм, реализм. Особым явлением в литературах XX в. становится неотрадиционализм — осознанный возврат к традициям с позиций современности[4].
[1] Этот ареал включал в себя современные Иран, Афганистан, Таджикистан и Среднюю Азию в целом, Субконтинент (современные Индия, Пакистан и Бангладеш). В Иране и странах ираноязычного ареала, включая Субконтинент с его почти тысячелетней историей литературы на персидском языке, развились двуязычные литературы, в которых одним из языков был персидский, а другим — азербайджанский, пашто, урду, синдхи, бенгали, кашмири, панджаби, чагатайский, турецкий, и другие. Их взаимосвязь определялась разной степенью близости к литературным центрам своего времени (или удаленности от них), принадлежностью к разным стадиям литературного процесса, разной жанровой системой (мы имеем в виду сохранение фольклорных и автохтонных форм доисламской культуры).
[2] См. Пригарина Н. И. «Персоязычная литература Индостана XIX—XX столетий» // История персидской литературы XIX—XX веков. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра», 1999. С. 432—500.
[3] См. Пригарина Н. И. К вопросу о характере романтизма в восточных литературах // Пригарина Н. И. Мир поэта — мир поэзии (статьи и эссе). М.: ИВ РАН, 2012. С. 35—63; Имангулиева А. Н. Корифеи новоарабской прозы. Баку, 1991.
[4]Брагинский В. И., Семенцов В. С. Введение. Проблемы традиций, неотрадиционализма и традиционализма в литературах Востока // Художественные традиции литератур Востока и современность: ранние формы традиционализма. М., 1985.
176
В литературном самосознании средневекового типа решающую роль играет религия, поэтому мы остановимся более подробно на факторе ислама, а вернее, факторе исламской философии и метафизики, в значительной степени определившим идейную, жанровую и художественную систему, тематический и образный дискурс этой литературы.
В соответствии с темой данной монографии обратим внимание на одну существенную особенность рассматриваемых произведений: зачастую они представляют собой повествование, в котором композиция остается открытой, т. е. как бы незавершенной, позволяющей нанизывать один эпизод за другим, один стих за другим, одно утверждение за другим без видимого плана, так что текст предстает беспорядочным, «не собранным». При этом формально прозаический текст обычно имеет рамки[1], отмечающие начало и конец повествования, поэтический — рифму, радиф, маркированные начальный (maṭla‘) и завершающий (maqṭa‘) бейты в газели. Наличие многовековой непрерывной традиции послужило причиной упрочения конвенциональности, т. е. своего рода договора о намерениях, в силу которого упоминание заменяло развернутый дискурс, а употребление одного мотива тут же вызывало к жизни традиционно связанный с ним круг аллюзий, ассоциаций и образов. Уже в классической литературе у поэтов существовало представление об исчерпанности образов и негативной роли поэтических штампов, еще усилившееся в постклассической литературе. Именно это имел в виду великий индийский поэт Мирза Галиб (ум. 1869 г.), когда говорил: «Если произносишь “чаша”, не обязательно вспоминать Джамшида» («Чаша Джамшида» — устойчивое сочетание, указывающее на историю древнеперсидского царя Джамшида и его чашу, в которой отражался мир и все, что в нем происходит).
У западных востоковедов сложилось представление о слабой структурированности, атомарности арабской культуры[2], приписываемой ими власти традиции, что выражалось, по их мнению, в дезинтеграции целого и пренебрежении к мотивированной последовательности дискурса, в том числе и философского. Мухаммад Икбал
[1] О рамках текста см.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970.
[2] Г. Грюнебаум «видит в смысловой завершенности бейта несомненный признак “отражения духа ислама в мусульманской литературе”, связывая эту норму арабской поэзии с “атомарным”, “окказионалистским” характером мировоззрения носителей арабо-мусульманской культуры. Здесь Грюнебаум несомненно опирается на теоретическое построение Л. Массиньона…». [Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1983. С. 63].
177
(1877—1938) перенес критику с арабов на персов и сделал это соображение исходным пунктом своей докторской диссертации, посвященной развитию мистических течений в иранском исламе. Он исходил из того, что таков менталитет, а, соответственно, и специфика философии иранских народов, особенно проявившаяся в иранском суфизме и имевшая далеко идущие негативные последствия, включая упадок ислама в Новое время!
Икбал был первым из мусульман Северной Индии, получившим западное университетское образование, и когда он писал эти строки, он смотрел на историю философских учений Востока глазами своих западных учителей. Впоследствии изменение точки зрения сделало его подход неотрадиционалистским, и он выступал со своими концепциями уже от имени восточной традиции. Но в начале XX в. мировидение «перса» противопоставлялось Икбалом мировидению его «индийского брата — брахмана»: «Утонченный брахман видит внутреннее единство вещей, то же относится и к персу. Но если первый пытается вскрыть все аспекты человеческого опыта и иллюстрирует скрытое присутствие [этого единства] в реальном во всех аспектах, то создается впечатление, что перс удовлетворяется простой универсальностью и не стремится подтвердить богатство внутреннего содержания. Мотыльковое воображение перса (курсив наш. — Н. П.) порхает, как бы слегка опьяненное, от цветка к цветку и кажется неспособным охватить взглядом весь сад в целом»[1]. В этой фразе ключевые слова — «мотыльковое воображение» и выражение — «как бы слегка опьяненное». На взгляд Икбала, главные свойства иранской метафизики — непоследовательность и экстатически-опьяненное (ṣaḥv) визионерство, отсутствие трезвого (sukr) взгляда на мир и на отношения суфия с Богом. Вспомним, что Мухаммад Икбал прошел школу известного английского ученого профессора Томаса Арнольда, автора работ по мусульманским политическим движениям, и что уже в первой четверти XX в. он был связан с такими корифеями западного востоковедения, как Рейнолд Николсон, который не только перевел его маснави «Таинства личности» и сборник персидских стихов «Послание Востока» на английский язык, но и высоко ценил Икбала как философа. Среди его переводчиков на английский был А. Арберри, он встречался с Луи Массиньоном и другими
[1] The development of metaphysics in Persia. A contribution to the History of Muslim Philosophy by Shaikh Muhammad Iqbal B. A. (Cantab) M. A. (Pb) PhD (Munich). London, Luzac & Co, 1908. P. VII—VIII.
178
учеными Англии, Франции и Германии. Интеллект, образованность и поэтический дар Икбала не прошли незамеченными в научной среде Западной Европы. Можно предположить, что метафоры его диссертации, защищенной в Германии и опубликованной в 1908 г. в Лондоне, так или иначе нашли свое место в создании образа дезинтегрированности и атомарности культуры, философии и литературы персов, образа, известного нам по западному востоковедению. Несмотря на присутствие фигуры «брахмана» в рассуждениях Икбала (между прочим, ведущего свое происхождение от кашмирских брахманов), сам он в поэзии отдал дань «мотыльковому воображению персов», его лучшие газели на урду и персидском языках вполне соответствуют этому образу.
Но феномен обозначен, и попытки найти его объяснение продолжаются до сих пор. Больше всего исследователи готовы обсуждать проблемы «дезинтеграции» газели. Так, Френсис Притчет в статье, посвященной дискуссии о единстве и дезинтеграции газели на урду и персидском языках, приходит к выводу, что бейт газели (в литературе урду и персоязычной литературе Субконтинента чаще упоминается как šiʻr, стих), обладая смысловой, стилистической и формальной завершенностью, представляет собой более органичное целое, нежели газель, составленная из бейтов. Сам šiʻr газели в своей завершенности, по ее мнению, ближе к отдельному стихотворению (он представляет собой как бы мини-стихотворение)[1]. «Отдельный стих (šiʻr), — пишет Ф. Притчет, — более органично увязан со всей совокупностью газельного языка и условностями газели и пересекается с другими стихами из других газелей. 〈…〉 Šiʻr составляет интегральное целое с поэтическим космосом, гораздо большим, чем газель, которая содержит этот бейт»[2].
Тем не менее газель, обычно приводимая в пример дезинтегрированного целого, зачастую все же содержит ряд указаний на определенное единство — в тексте, подтексте, метатексте или интертексте. Особая объединяющая роль выпадает на долю коранических аллюзий и суфийской фразеологии, которые выдают (а возможно, и создают
[1] Эти проблемы рассмотрены также в ст.: Prigarina N. Poetics of bayt in Indian Style // Iran.Questions et connaissances. Vol. II: Périodes Médiévale et Moderne. Textes réunie par Maria Szuppe. Studia Iranica, cahier 26. Paris, 2002. P. 75—82; см. также: Пригарина Н. И. Индийский стиль и его место в персидской литературе (вопросы поэтики). М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН., 1999. Гл. 8.
[2]Pritchett Frances. Orient Pearls unstrung. The Quest for Unity in the Ghazal. Edebiyat // NS. Vol. 4. № 1. P. 132.
179
иллюзию) единства замысла (или ситуации) во внешне не связанных между собой стихах. Не менее важны упоминания исторических лиц или исторических событий: один лишь намек на конкретную ситуацию из жизни средневекового общества времен поэта может придать единство веренице как бы случайно нанизанных бейтов[1].
Обращение к проблеме «рассыпанного» и «собранного» в поэзии ставит перед исследователем философские вопросы соотношения частей и целого, «различения» (imtiyāz) и нерасчлененности, отдельного и всеобщего. Иногда возникает соблазн считать эти антиномии несущественными, поскольку аксиомой культуры (в широком смысле этого слова) является «единство», представленное концептами таухид («единобожие»), вахдат ал-вуджуд («единство сущего»), вахдат аш-шухуд («единство свидетельствуемого»).
Икбал в своей ранней поэзии хотел видеть мир единым и не вдаваться в «различения», ему казалось, что все беды происходят от аналитической работы разума, и он писал:
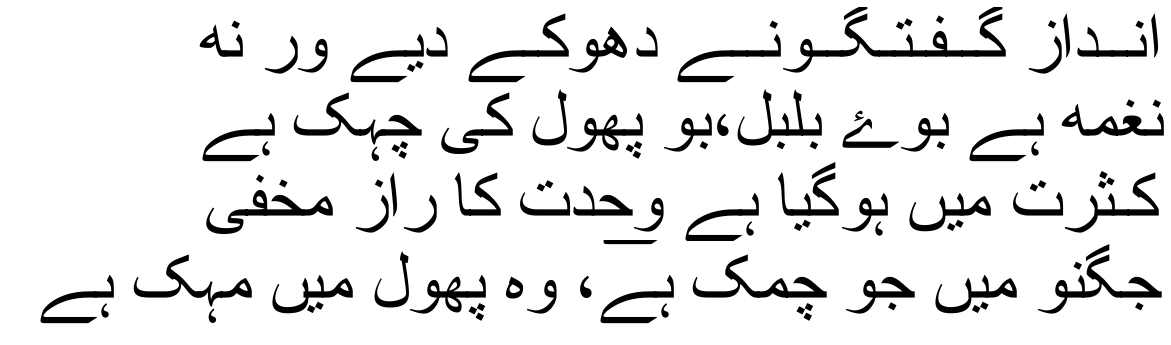
Нас просто обманывает способ проявления, иначе бы мы увидели,
Что песня соловья — аромат, а аромат — щебет цветов.
Во множественности скрыта тайна единства,
То, что в светлячке — блеск, то и есть — аромат цветка[2].
Или:
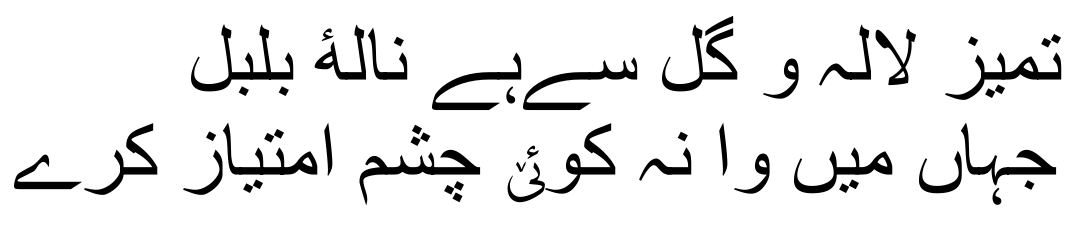
Из-за различия между тюльпаном и розой рыдает соловей.
Пусть никто в мире не раскрывает глаз различения (imtiyāz)[3].
Наличие такой всеохватной скрепы миропорядка, как таухид, в глазах некоторых исследователей служит оправданием для сущест
[1] См. об этом, например, «Русский Хафиз» в: Пригарина Н. И., Чалисова Н. Ю., Русанов М. А. Хафиз: Газели в филологическом переводе. Ч. 1. Вып. 40. № 4. М.: РГГУ, 2012. С. 69. (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности.)
[2]Мухаммад Икбал. Банг-е дара // Куллиййат-е Икбал (урду). Лахор, Икбал Акэдеми, Пакистан. 2000. С. 95.
[3]Мухаммад Икбал. Банг-е дара. С. 116.
180
вования самых что ни на есть дезинтегрированных текстов культуры. «Персидские газели, — пишет известный иранист Войтек Скалмовски, — не имеют тематического единства в смысле систематического развития одного определенного сюжета, как, допустим, в сравниваемой с ними поэзии (например, ренессансном сонете) в европейской литературе. Напротив, единство газели подтверждается тем фактом, что ее случайные, бессистемно аранжированные фрагменты — краткие последовательности стихов и даже отдельные бейты — соотносятся с различными аспектами того же самого дискурсивного универсума, внутри которого размещены “действия” всего жанра и который, предположительно, знаком наперед образованной аудитории»[1]. Другими словами, предполагается, что концепция всеобъемлющего единства Бога и мира в исламе (таухид) может заменить обычные средства структурирования художественных текстов.
В самих наименованиях прозаического (naṯr — букв. «рассыпанное») и поэтического (nażm — букв. «порядок») родов литературы на арабском языке, а вслед за ним — на персидском и урду, казалось бы, заключен ответ на вопрос о «рассыпанном» и «собранном» в арабо-мусульманской культуре. И, на первый взгляд, этим можно было бы и удовлетвориться. Однако на самом деле это только одна из многих ловушек, расставленных на пути читателя, даже самого осмотрительного и проницательного.
На практике обращение к конкретным текстам, которые воспринимаются нами как аморфные, бесструктурные и дезинтегрированные, совершенно не мешает восточному читателю пользоваться ими или получать от них эстетическое наслаждение. Однако это же заставляет исследователя, принадлежащего к другой культуре, пускаться на всевозможные ухищрения, чтобы понять, как устроен текст и как найти методы описания материала, которые позволят реконструировать логику поэтического дискурса.
Огромное значение в персидской литературе имеют интертекстуальные связи, этому современному термину западного литературоведения в арабо-персидских поэтиках можно найти частичное соответствие в теории заимствований, цитирования, литературного воровства, или плагиата[2]. Кроме того, можно считать результатом работы
[1]Skalmowski W. Hafez’s Thorns and Roses // Ex Oriente. Collected Papers in Honour of Jiří Bečka. Prague, 1995. P. 153.
[2] См. Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. Гл. 4: Теория «поэтических заимствований» в средневековой арабской филологической науке. С. 100 и далее. См. также о вкладе Шамс-и Кайса в разработку теории поэтики: Чалисова Н. Ю. Персидская поэзия на весах // Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии (ал-Муʻджам фи маʻайир ашʻар ал-ʻаджам) // Пер. с перс., иссл. и коммент. Н. Ю. Чалисовой. Ч. I: О науке рифмы и критике поэзии. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра», 1997. С. 55.
181
литературного самосознания образование целого класса терминов, фиксирующих практику поэтического ответа nażīra, разновидностями которого считаются javāb, taṭabbuʻ, istiqbāl и др.[1] Традиционно, желая охарактеризовать стиль того или иного автора, критик приводит цепочку поэтов-предшественников, которым «следует» тот или иной поэт, причем в эту цепочку часто включаются поэты, принадлежащие к разным эпохам и стилям, характерным для той или иной эпохи. Остается только понять, какую функцию выполняют все эти связующие нити, когда стихи XI и XX вв. строятся на одних и тех же приемах, мотивах, темах и образах. Так, например, Амир Хусрав, Навои, Джами и множество других авторов вступали в перекличку с Низами. Как и в чем выразилось их подражание образцу, полемика с ним, как выглядят в «ответных» произведениях стилистические новации, есть ли в них новые идеи и образы?
И тут на помощь приходят «верстовые столбы», знаки, которые авторы предусмотрительно размещают, а проницательный читатель старается отследить, чтобы не сбиться с пути и проникнуть в замысел художника.
Эти знаки можно встретить в названиях произведений. Так, название может указывать a) на интертекстуальные связи, b) на особенности композиции произведения и c) на его идеологию. Причем смыслы, вложенные в название, могут раскрываться не сразу, а по мере прочтения текста произведения, и таким образом способствовать пониманию целей автора. В качестве примера рассмотрим название «Восемь райских садов» (Hašt bihišt) — маснави Амира Хусрава Дехлеви (1253—1352). Оно указывает на связь поэмы с произведением предшественника — поэмой Низами (1141—1209) «Семь красавиц» (Haft paykār), свидетельствуя о том, что мы имеем дело с поэтическим ответом на поэму предшественника, и методом ответа можно считать istiqbāl («выход навстречу с почетом»). Как выясняется при знакомстве с текстом, это число определяет композицию произведения: чи
[1] Подробнее см. Пригарина Н. И. Индийский стиль; Riccardo Zipoli. The Technique of the Ğawāb. Replies by Navā’ī to Hafiẓ and Ğamī. Venezia, 1993. Чалисова Н. Ю. Об интертекстуальной технике Хафиза. Газель № 101 «Питие и веселие тайком» // Вестник РГГУ. 20 (100). 2012. С. 41—71. (Сер. «Востоковедение, африканистика».)
182
сло 8 в маснави имеет не только семантику, относящуюся к системе расположения небес и раев на них, в композиции оно выступает как 7 + 1, например, семь основных новелл о семи замках (раях), которые посещает Бахрам Гур, и одна обрамляющая новелла о Бахраме Гуре и его гибели (это отметил и Е. Э. Бертельс[1]), но также и семь вступительных частей и одна завершающая. В то же время название полемично по отношению к числу «семь» в названии поэмы Низами и демонстрирует идею превосходства данного произведения над образцом предшественника (7 + 1 больше, чем 7), несмотря на имплицитное указание о «почете» в термине истикбал. (Это обычное для литературной традиции выражение гордости своим творчеством и его восхвалением — faxr, мирно уживающееся с панегириком в чужой адрес). Такая же структурирующая составляющая у Амира Хусрава заключена и слове «рай», в ней подчеркнут астрологический и мистический смысл волшебных историй, заключенных в каждом повествовании, а в обрамляющем дастане о Бахраме Гуре отражена космическая связь бытия и небытия. Сам исторический Бахрам относится к Сасанидской династии доисламского Ирана, а образ Бахрама, которому присущи космические черты, имеет связь с древнеиранской (авестийской) мифологией.
О соревновании с образцом предшественника свидетельствуют и другие знаки, имеющиеся в маснави. Таково, например, значащее расширение семантики цветовой гаммы у Амира Хусрава. У Низами при описании замков используются следующие цвета: черный, желтый, зеленый, красный, голубой, сандаловый/бледно-коричневый, белый. Амир Хосров заявляет, что каждый упоминаемый им цвет соотносится еще и с ароматом: мускусный, шафранный, рейхановый, цветка граната, фиалковый, сандаловый, камфарный.
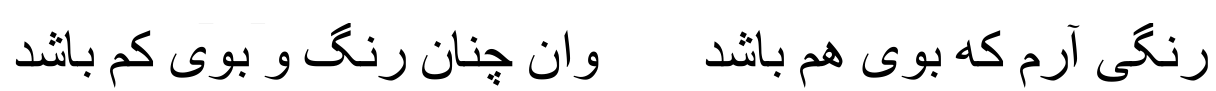
Я приведу цвет, который также является запахом,
А такое великолепие встречается редко[2].
В своей основе цветá у Низами и Амира тождественны, поскольку традиционно цвет соединен с определенным светилом, управляющим одним из дней недели, а соответственно и цветом замка, который посещает царь в определенный день недели. Но помимо всего, слово
[1]Бертельс Е. Э. Избранные труды. Навои и Джами. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1965. С. 157.
[2]Амир Хусрау Дихлави. Хамса. Пятая поэма. Хашт бихишт / Сост. текста и предисл. Джафара Эфтихара. М.: ГРВЛ, 1972. С. 34.
183
bū, аромат имеет значение мистической вести, поэтому цитируемый бейт содержит намек на то, что каждое посещение Бахрамом одного из «раев» не просто волшебная сказка. Более того, поэт предвидит, что читатель может пройти мимо этого намека, и предупреждает, что в поэме есть второй план — суфийский:
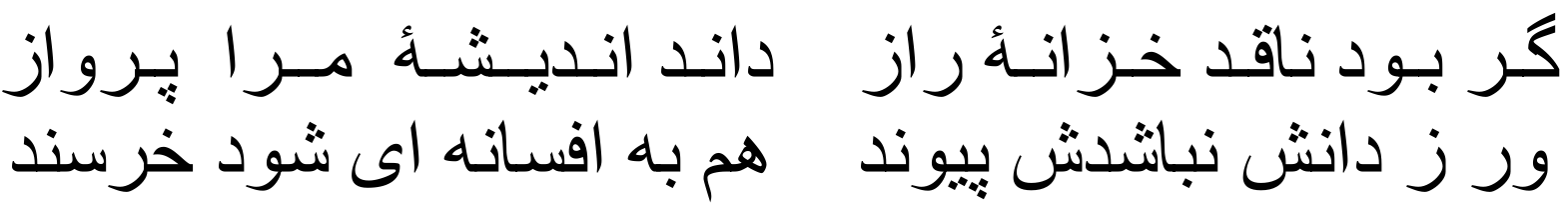
Если найдется пробирщик сокровищницы тайн
Он узнает полет моей мысли,
А если он не обладает способностью постижения,
То вполне удовольствуется сказкой[1].
Тайна — как раз то, что должно открыться посвященному.
Маснави «Восемь райских садов» никак нельзя назвать «рассыпанным текстом», именно вследствие того, что название определяет его место в существующей литературной традиции и указывает на членение и организацию маснави, скорее, расставленные в тексте знаки, намеки и аллюзии говорят о таких тонкостях, мимо которых не должен пройти внимательный потребитель литературной продукции. Более того, как единство lafż («выговоренного», по А. В. Смирнову) и maʻnā (здесь — идейного содержания) произведение показывает пример «собранности» на всех уровнях, зачастую не принимаемых во внимание исследователями[2]. Кроме того, можно лишний раз убедиться в связующей роли интертекста, когда общее (литературный контекст) способствует формированию частного.
Теоретическая мысль персидских знатоков литературы в течение многих веков была обращена исключительно к поэзии и вопрос «рассыпанности» как свойства прозы, кажется, никого не волновал. Принципами организации поэтической речи занималось «учение о приемах украшения художественной речи»[3] (ʻilm al-badiʻ), в трудах по этой науке — нормативных поэтиках — даются определения поэзии (šiʻr), косвенно затрагивающие и прозу. В них приводится сравнительно стандартный перечень свойств поэтической
[1]Амир Хусрау Дихлави. Хашт бихишт. М.: ГРВЛ, 1972. С. 1.
[2] Так, Е. Э. Бертельс при сопоставлении «Хашт бихишт» Амира и «Хафт пайкар» Низами просто не включает в обсуждение вступительные главы. Бертельс Е. Э. Избранные труды. Навои и Джами. М., 1965. С. 157.
[3]Ватват Рашид ад-Дин. Сады волшебства. С. 9.
184
речи: «упорядоченная, передающая значение, мерная, повторяющаяся, равновеликая, конечные харфы которой подобны друг другу. И сказано ‘мерная’, чтобы различать стихи (назм) и упорядоченную (курсив мой. — Н. П.), передающую значение прозу»[1]. Как мы видим, с точки зрения формальной, разница между стихами и прозой упоминается как разница между «мерной» и «упорядоченной» речью.
Следовательно, в поэтиках есть противопоставление прозы и поэзии. Но оно проводится не на основании их организации — и в стихах, и в прозе имеет место свой порядок и нет беспорядочности, — а на основании формальных признаков мерности и рифмы.
В определении содержательной стороны поэзии целенаправленно трактуются задачи поэтического творчества: «Узнай же, что слово “поэзия” (шиʻр) в изначальном языковом [значении] — это знание, а также уразумение смыслов (курсив мой. — Н. П.) путем правильного предположения, размышления и приведения прямых доказательств»[2]. Указания на способ уразумения смыслов (путем предположения, размышления и приведения доказательств) в контексте трактата относятся не к смыслам поэтических или прозаических текстов, как может показаться на первый взгляд, а к определенному классу фигур поэтической речи, требующих встречной мыслительной работы читателя[3].
Существенно, что дефиниция поэзии[4] основана, хотя и на имплицитном, обращении к логико-грамматическим категориям lafż (т. е. требованиям к формальным аспектам) и maʻnā (т. е. требованиям к смысловой стороне) и на соотнесении их с понятием «поэзия» (šiʻr). Данные категории относятся к универсальным и применять их можно к литературе, и более того, к культуре в целом. С таким же успехом можно судить в этих категориях и об одном отдельно взятом произведении, или тексте культуры[5]. Так, в ряду поэтических форм,
[1]Шамс-и Кайс. ал-Муʻджам. С. 77; Камал ад-Дин Хусаин Ваʻиз Кашифи. Бадаʻи ал-афкар фи сана’и ал ашʻар (Новые мысли о поэтическом искусстве) / Изд. текста, предисл., примеч. и указатели Р. Мусульманкулова. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры, 1977. С. 7
[2]Шамс-и Кайс. ал-Муʻджам. С. 76.
[3] См. об этом подробно: Пригарина Н. И. Мир поэта — мир поэзии. С. 302.
[4] Дефиниция дана здесь в обратном порядке: сначала приводится определение формы, а затем — содержания.
[5] Концепция «lafż — maʻnā» в поэтиках арабских авторов обстоятельно рассмотрена в работах А. Б. Куделина — Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. Он же. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типологии, взаимосвязи. М.: Языки славянских культур, 2003; персидских — в исследованиях Н. Ю. Чалисовой, предпосланным ее переводам трактатов по поэтике в: Ватват Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии (Хадa‘ик ас-сихр фи дака‘ик аш-ши‘р) / Пер. с перс., иссл. и коммент. Н. Ю Чалисовой. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1985; Шамс-и Кайс. ал- Муʻджам. В книге В. И. Брагинского «История малайской литературы» дан общий обзор «арабской литературной теории» с отсылкой к персидской, а затем ее приложение к практике малайской литературы — Брагинский В. И. История малайской литературы. М.: ГРВЛ, 1983. С. 189—192 и примеч. 31—39 с большим количеством цитаций из арабских поэтик. Семантика и трансформация этих понятий представляет большой интерес, но здесь мы ограничимся самыми общими соображениями.
185
определение которых включалось в нормативные поэтики, бейт[1] (стих) упоминается как «наименьшее в поэзии» единство lafż и maʻnā; он представляет собой также и наименьшую поэтическую форму (в персидской литературе — фард (fard), в литературе урду и персоязычной литературе Субконтинента чаще используется слово «šiʻr»[2], стих). Но и другие жанровые формы, о которых не всегда упоминают поэтики, и прозаические, о которых они вовсе не упоминают, такие как орнаментальная проза, трактаты (risāla), жития святых, травелоги (сочинения о путешествиях), мираклии (повествования о чудесах) и т. п., тоже должны являть собой то же единство lafż и maʻnā. В обобщенном виде дефиниция šiʻr может распространяться на все виды словесного искусства, независимо от их размеров и жанровых форм.
На самом деле, поэтики помогают разобраться в устройстве поэтической речи: имеющиеся в них определения тропов и фигур речи вполне пригодны для понимания некоторых основных формальных особенностей стихотворного текста. Так называемые «смысловые фигуры», выделенные поздними поэтиками в отдельные категории, позволяют проникнуть в металогический, образный строй стихотворения, т. е. проанализировать средства создания поэтического образа. Правда, поэт применяет фигуры речи далеко не в каждом бейте[3]. По сути дела, говоря о форме и смысле (lafż — maʻnā) в стихах и прозе, сами поэтики, если пользоваться понятиями современ
[1]Шамс-и Кайс. ал-Муʻджам. С. 61.
[2] На Субконтиненте произносится как šer.
[3] Сошлемся на комментарии к Хафизу, принадлежащие Суди, Хирави, Хуррамшахи и другим, которыми авторы издания «Хафиз. Газели в филологическом переводе» пользовались для составления собственных комментариев. Комментируя перевод, авторы добросовестно фиксировали все случаи отсылок в шархах к той или иной фигуре речи, и в результате видно, что иногда на всю газель находился один троп, отмеченный в комментарии. Другие наблюдения, например, о метафоре или ихаме (амфиболии), как правило, исходили от авторов русского комментария.
186
ной философской лингвистики, прежде всего обращены к трактовке внешней и внутренней формы. Как пишет А. А. Потебня, «В слове мы различаем: внешнюю форму, то есть членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание, при некотором внимании нет возможности смешать содержание с внутреннею формою»[1]. Поэтому обратим еще раз внимание на дефиницию поэзии: в ней в отношении как поэтической, так и прозаической речи употреблено выражение «передающая значение». Это как раз то «содержание», семантика[2] высказывания, которую Потебня отделяет от внутренней и внешней формы. Его концепция внутренней формы распространяется не только на слово, но и на искусство в целом: «Находя, что художественное произведение есть синтез трех моментов (внешней формы, внутренней формы и содержания), результат бессознательного творчества, средство развития мысли и самосознания, то есть видя в нем те же признаки, что и в слове, и, наоборот, открывая в слове идеальность и цельность, свойственные искусству, мы заключаем, что и слово есть искусство, именно поэзия»[3].
Из этого следует, что с помощью нормативных поэтик можно разобраться во внешней или внутренней форме эвфонического «украшения», тропа, синтагмы, бейта, произведения, но не в значении, или, говоря словами Потебни, в идее[4] тропа, синтагмы, бейта и т. д., в которых они используются. А. Б. Куделин исследовал отношение арабских поэтик к проблеме поэтического содержания. Как ни удивительно, но
[1]Потебня А. А. Мысль и язык. Гл. X: Поэзия. Проза. Сгущение мысли. С. 176. URL: http://studybase.cc/preview/460755/page:7/.
[2] См. о «поэтической семантике» персоязычной поэзии: Чалисова Н. Ю. Персидская поэзия на весах поэтики. Шамс-и Кайс. ал-Муʻджам.
[3]Потебня А. А. Мысль и язык. С. 177. См. также: Гоготишвили Л. А. Бахтинская имманентно-диалогическая внутренняя форма как альтернатива гумбольдтианскому и потебнианскому подходам. (Тезисы) // Электронный философский журнал Vox / Голос. URL: http://vox-journal.org. Вып. 15. Декабрь 2013.
[4] «Вместо “содержание” художественного произведения можем употребить более обыкновенное выражение, именно “идея”. Идея и содержание в настоящем случае для нас тождественны, потому, что, например, качество и отношения фигур, изображенных на картине, события и характеры романа и т. п. мы относим не к содержанию, а к образу, представлению содержания, а под содержанием картины, романа разумеем ряд мыслей, вызываемых образами в зрителе и читателе или служивших почвою образа в самом художнике во время акта создания». [Потебня А. А. Мысль и язык. С. 177]
187
поэтики трактуют этот вопрос в почти полном соответствии с лингвофилософскими идеями нашего времени, идеями Гумбольдта[1] — Потебни — Бахтина, о том, что образы изменчивы, а содержание относительно неподвижно. Как бы предвосхищая эти концепции, средневековые арабские философы, различая форму и сущность, видят в их взаимодействии метафору бытия: «Весь мир — совокупность акциденций, а потому он заменяется каждое мгновение. Но неповторимость форм не означает, что в каждое мгновение возникает новый мир: изменяя свою форму, сущности остаются теми же»[2]. В соответствии с философскими представлениями, арабские поэтики трактуют maʻnā бейта касыды как идею (в семантическом плане как «мотив», по терминологии Куделина[3]), не выходя за пределы, очерченные терминами «lafż — maʻnā», однако значительно расширяя семантическое поле обоих понятий, особенно maʻnā[4]. Р. Мусульманкулов отмечает: «А. Н. Болдырев даже считал, что maʻnā 〈…〉 иногда следует понимать шире, в смысле “поэтического образа”, он считает, что сочетания типа “maʻnī-yi xās”, “maʻnī-yi bikr” и т. п. обозначают “оригинальные образы”, “новые образы”»[5].
Текст трактата (risāla) Рашид ад-Дина Ватвата по нормативной поэтике — образец средневековой научной прозы[6]. В отличие от поэзии, устройству которой посвящен трактат, его собственный жанр подчинен другим законам. Анализу этой проблемы уделено много места
[1] См.: Гумбольдтианство. URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f1276f63-7081-a79f-546e-3ff13f7e2d2a/1007705A.htm.
[2]Смирнов А. В. Великий шейх суфизма. М., 1993. С. 110.
[3] См.: Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. С. 127—131.
[4] В свою очередь персидские поэтики вносят в арабскую науку собственный основательный вклад. См. об этом: Чалисова Н. Ю. Язык описания поэзии в трактате Шамс-и Кайса Рази «Свод правил персидского стихотворства» // Восток. № 1. 1993. С. 78.
[5]Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика. X—XV вв. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1989. С. 16. Это утверждение может показаться дискуссионным, поскольку эти формулы также возможно и отчасти принято трактовать как «новые маʻана», т. е. новые поэтические идеи.
[6] Издание в 1985 г. трактата Рашид ад-Дина Ватвата «Сады волшебства в тонкостях поэзии», (перевод с персидского языка, исследование и комментарий Н. Ю. Чалисовой) стало без преувеличения событием в отечественной иранистике. Этому способствовало также исследование и весь аппарат издания, позволявший вслед за автором перевода получить точные ответы на возникающие вопросы. Н. Ю. Чалисова отметила и те проблемы, которые неизбежно появлялись при столь глубоком проникновении исследователя в доселе практически неизведанную область отечественной науки.
188
во вступительной статье Н. Ю. Чалисовой к переводу — «Рашид ад-Дин Ватват и его трактат “Сады волшебства в тонкостях поэзии”». В своих трудах Р. Мусульманкулов показал, что авторы поэтик, следовавшие за Ватватом, фактически только расширяли перечни одних фигур и сокращали другие. Классификация фигур, представленная в трактате, воспроизводилось ими без особых изменений до XV в., когда Атааллах Хусайни разделением фигур на lafżī (словесные), maʻnavī (образные) и «lafżī va maʻnavī» (словесно-образные), изменил уже ставшие привычными принципы репрезентации в трактате[1]. Правда, нет оснований утверждать, что, не меняя подходов Ватвата, эти авторы в полной мере сознательно воспроизводили разработанный им метод представления тропов и фигур речи, т. е. что они не просто шли в русле традиции, но и осознавали логику дискурса Ватвата. В то же время нет оснований утверждать, что воспроизведение этого метода было слепой данью традиции. Для того чтобы вынести определенное суждение по этому вопросу, нужно отдельное исследование: в науке, как говорит Потебня, «подчинение факта закону должно быть доказано. 〈…〉 Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано»[2].
Собственно о методе Ватвата и пойдет речь дальше. Насколько можно судить, никто из авторов последующих поэтик не повторил в неизменном виде набор фигур его поэтики, они отказывались от одних фигур и добавляли другие[3]. Исследователи также не выявили в полной мере стратегию собирания текста у Ватвата: его «рассыпанность» не поддавалась интерпретации в рамках доступных понятийных категорий, включая категории поэтики и метафизики. Однако, если еще раз вернуться к категориям lafż — maʻnā, отслеживая их использование от фигуры к фигуре, можно, как нам показалось, убедиться в том, что автор трактата последовательно и непротиворечиво излагает материал, оперируя всеми возможностями, предоставляемыми этими концептами. Во-первых, он может оперировать ими на разных уровнях, начиная с созвучий и частей слова, т. е. с элементов формы слова и со словом как чистой формой, в этом случае можно
[1]Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика. С. 15.
[2]Потебня. С. 179.
[3] Об этом подробно см.: Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика. Сравнительная таблица фигур. С. 204—227.
189
говорить об оперировании одним только lafż. Во-вторых, когда он переходит на уровень слова, включая также maʻnā слова, он имеет три возможности: a) рассматривать слово в его данности как обладающее формой и значением, b) как бы разбирать его на форму и значение и рассматривать их во всех возможных сочетаниях, c) разделять форму и значение и оперировать ими по-отдельности. В случае b) возможных сочетаний lafż — ma’nā всего четыре. Так, если lafż одного слова равен lafżу другого слова, а maʻna одного слова равно maʻnā другого слова, то это — одно и то же слово и в поэзии выступает как повтор; если lafż одного слова равен lafżу другого, а ma’na одного слова не равно ma’na, другого, мы имеем дело с омонимией; если lafż одного слова не равен lafżу другого слова, а ma’na одного слова близко по значению к ma’nā другого слова, используется синонимия, и если не равны ни lafż, ни ma’nā обоих слов (но слова в тексте стихотворения противопоставлены друг другу) — это антонимия[1]. И, наконец, c) поэт разделяет «слово с его истинным значением и переносит на другое, как бы позаимствовав»[2], благодаря чему возникает троп, т. е. переносное значение (в поэтике Ватвата — метафора, которая рассматривается на уровне слова), и этим разрывом знаменуется переход к следующим уровням изложения.
Мимо возможностей сочетания по два концептов lafż и maʻnā не прошли средневековые ученые. Так, Ибн Кутайба в книге «Поэзия и поэты» (IX в.) указывал, что поэтические тексты бывают четырех видов: «с хорошим лафзом и хорошим маана, с хорошим лафзом и плохим маана с плохим лафзом и хорошим маана, с плохим лафзом и плохим маана»[3]. Это рассуждение — лишнее доказательство универсальности данных категорий, с одной стороны, и разного наполнения их семантики — с другой. Т. е. lafż и maʻnā есть, например, и у слова «Шахнаме» (букв. «Книга царей») и у поэмы «Шахнаме» в целом. И разница между ними заключается в уровне, на котором происходит обсуждение.
Следующая операция, проделываемая автором трактата в отношении выстраиваемой последовательности фигур, — работа с явным (żāhir) и скрытым (bāṭin) смыслом. Тут как раз и понадобятся все
[1] Подробно об этом см.: Пригарина Н. И. Сады персидской поэтики // Эстетика бытия — эстетика текста. М.: Наука, 1995; в сокращении см.: Поэтическая норма // Пригарина Н. И. «Индийский стиль»; с изменениями перепечатано в кн.: Пригарина Н. И. «Мир поэта — мир поэзии».
[2]Ватват Рашид ад-Дин. Сады волшебства. С. 117.
[3]Куделин А. Б. Средневековая арабская поэтика. М., 1983. С. 59.
190
ухищрения, направленные на «уразумения смыслов (путем предположения, размышления и приведения доказательств)», о чем читатель узнает из описаний фигур. Начиная с фигуры ihām, от читателя требуется встречная работа мысли, характеризуемая как догадка, встречное размышление, работа воображения. Ихам — один из самых употребительных приемов, упоминая слово в самом простом, явном смысле, поэт на самом деле имеет в виду его отдаленный, скрытый смысл. Причем по мере усложнения фигур повышается уровень суггестии, и от читателя ожидаются встречные догадки и усилия для его осознания.
В названии трактата «Сады волшебства в тонкостях поэзии» нельзя пройти мимо слова «сады». Дело в том, что в отличие от романтических английских садов, которые долго оставались идеалом красоты в современном сознании, восточные сады имели строгую организацию, основанную не только на садово-парковом искусстве, но и на господствующих метафизических представлениях[1]. Иранский сад имеет не только определенный набор растений, что возможно отнести к форме его бытия (lafż), но и определенные структурирующие идеи (maʻānī). В нем господствует пространственная ориентация, связанная с представлениями мусульманской метафизики (čār ʻunṣur — четыре элемента, šaš jihat — «шесть причин», т. е. ориентация по четырем странам света, также ориентация по верхней и нижней точкам мироздания — зениту и надиру, и многое другое). Поэтому слово «сад» в заглавии произведения может служить сигналом об определенных принципах организации рассматриваемого текста[2].
Известный арабист Б. Я. Шидфар сформулировала требования современного подхода к изучению стиховедческих трактатов: «Новая
[1] В наше время примером чуда садово-парковой архитектуры могут служить так называемые «Бахайские сады» в Хайфе, задуманные как реплика райских садов. В силу того, что происхождение религии бехаизма уходит своими корнями в Иран и ислам, эти сады не могут не отражать эстетики иранского садового искусства.
[2] Не будем педантами, утверждающими, что всегда и во всех случаях заголовок, имеющий семантику сада, служит только и непременно указанием на строгую четырехчастную организацию, определяемую сочетанием lafż—maʻnā. Однако это не исключает, что к категориям названий, указывающих на символическую роль садовой символики, возможно, относится название трактата «Цветник тайн» (Гулшан-и раз) шейха Махмуда Шабистари (XIV в.), посвященного трактовке понятий суфизма, «Бахаристан» («Весенний сад») Джами, по словам А. Н. Болдырева, созданный как «морально этический кодекс», и многие другие произведения.
191
задача состоит в их объяснении не с современной точки зрения, а как бы изнутри, исходя из типологических особенностей культуры данного периода, мировоззрения литературных деятелей и системы их философских и эстетических взглядов…»[1].
Избранный нами подход сочетал «современную точку зрения», так как традиция не дает на этот счет эксплицитных указаний, с опорой на самосознание средневековой науки, одной из составляющих которой является мировоззрение средневекового ученого.
Путеводной звездой в этих поисках служило глубокое убеждение автора в том, что средневековые мусульманские мыслители были прежде всего классификаторами, видели свою задачу в детальной и последовательной рубрикации всего и вся, и, веря в разумное провиденческое устроение мироздания, не могли допустить отсутствия законов миропорядка ни в макро, ни в микрокосме. Более того — основания классификации, ее система, специфика ее применения в том или ином случае как раз оказывалась доступной пониманию, стоило только соотнести ее с основаниями мусульманских представлений о соотношении части и целого, явленного и сокрытого, истинного и метафорического, низведения и восхождения (объясняющего, в частности, использование классификации не от низшего к высшему, а наоборот), формального и содержательного.
Исследования последних десятилетий изменили наше представление о застойном характере восточных литератур и авторской инициативе, доказав, что пребывая в тисках конвенциональности языка, традиционных читательских ожиданий и других известных и малоизвестных ограничений, поэты будут на каждом шагу пытаться найти способы, чтобы, действуя все в тех же рамках, сказать новое слово, избежав обвинений в «bidʻat» (недопустимых новшествах), создать новый образ, внести новое в полемике с уже существующим. Иначе говоря, литературный процесс находится в движении, возникают неизбежные изменения, но литературный универсум меняется, как сказано, «оставаясь прежним. То же, но другое — это подобие (мисл): каждое мгновение исчезает сущность и возникает ее подобие»[2]. Это прекрасно понимали читатели своего времени и комментаторы средневековой литературы. И не только средневековой.
[1] Цит. по: Мусульманкулов Р. Персидско-таджикская классическая поэтика С. 4.
[2]Смирнов А. В. Там же.
192
Все это и многое другое говорит о существовании системы координат, позволяющей обозначить стратегию организации смыслового пространства в персидской литературе и тесно связанной с ней литературе урду.
А образы садов, овеваемых благоуханным ветерком, с их розами и соловьями, лужайками и аллеями, прекрасными возлюбленными и дружескими пирушками, с мотыльками, перелетающими от цветка к цветку, образы райских садов у небесного престола и праха могил в земных глубинах скрупулезно воссоздают картину строго и стройно организованного мироздания, в котором «рассыпанное» — всего лишь множественные метафорические свидетельства Единого Истинного бытия.
 |

|
 |

|
195
Исследование механизма устойчивого воспроизводства и обеспечения преемственности исламской культуры, особенно в духовной сфере, является важной задачей не только историко-философской арабистики и исламоведения, но и философии истории. В научной литературе предлагаются различные подходы в поисках ответа на вопрос — чем является исламский мир как культура (является ли она частью большой средиземноморской цивилизации, или стоит особняком, если так, то чем определяется самобытность исламского мира, его нередуцируемость, или несводимость к другой, более общей культуре, каковы причины этой несводимости и т. д.). Этот вопрос — лишь часть общей проблемы единства/инаковости культур и цивилизаций1. Для решения этого вопроса вряд ли следует некритически использовать понятия, выработанные в ходе изучения западного мира. Ведь за этими понятиями стоят варианты редукционизма, способа обнаружения «ожидаемого результата», что резко снижает его эвристические возможности[2].
Выявление способа функционирования культурного механизма ислама возможно на путях анализа мировоззренческих констант важнейших его интеллектуальных отраслей, другими словами, на путях анализа тех исходных мировоззренческих установок, взятых из пер
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
См. Смирнов А. В. О подходе к сравнительному изучению культур. СПб.: СПбГУП, 2009.
[2] См. Смирнов А. В. Справедливость (опыт контрастного понимания) // Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 1998. С. 250—251.
196
вичного для данной культуры опыта выстраивания картины универсума и его сегментов.
Мы видим решение этой проблемы на путях обоснования нижеследующей модели для поиска определяющих черт исламской культуры, делающих ее самобытной, а именно, — пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) как модель функционирования исламской культуры, как парадигма организации культурного пространства мира ислама.
Почему модель танзӣх—ташбӣх? Наше решение в пользу этой стратегии было подкреплено мыслью о необходимости искать определяющие характеристики исламской культуры и религии в понятии, лишенном религиозной коннотации, а не в религиозно-заряженных понятиях, как монотеизм, откровение, пророчество или религиозный закон.
Разумеется, библейское («священное») понимание, или видение истории человечества, раскрываемые через монотеизм, откровение, пророчество или религиозный закон, сыграло большую роль в концептуализации исламского знания, в способе выстраивания мусульманами религиозной картины мира и его эволюции. В свою очередь, особенности мусульманской религиозной картины мира повлияли на формирование исламской культуры. Однако стремление усматривать характеристики исламского мира исключительно в религиозных понятиях авраамической традиции ведет к возведению стены между языческим прошлым населения Внутренней Аравии и периодом возникновения и развития собственно ислама, равно как между эпохой доминирования религиозного сознания в исламском мире и современным этапом мусульманских стран. Дело в том, что во многих из этих стран в результате модернизации утвердились светскость и секулярность, но народы этих стран сохраняют исламскую культурную идентичность. Требуется теоретическая модель для описания континуальности этой культуры, с его доисламским периодом, эпохой классического ислама и современным этапом «культурного ислама». Под этапом культурного ислама мы понимаем период в мусульманском мире с конца XIX в. по сегодняшний день, когда во многих его регионах (особенно в постсоветском) фактически утвердились светские начала (отделение религии от государства, развитие светского образования и культуры и т. д.).
Выбор в пользу выявления определяющих характеристик исламской культуры с помощью пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) оправдан тем, что:
197
— во-первых, эта пара понятий учитывает исключительное значение интегрированности мировоззренческих систем в исламскую культуру и особое видение человека и его бытия;
— во-вторых, эта пара не содержит прямой коннотации религии, а потому может служить мегапарадигмой или моделью культурных парадигм – не только синхронных, то есть, действующих в одну эпоху, но и диахронных, то есть действующих на стадии секуляризации (пусть не полной) мусульманских стран, утверждения в них светских начал.
Исключительная роль этой пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) как парадигмы, модели организации культурного пространства исламского мира объясняется тем, что уже в Коране, тексте, лежащем в основании исламской культуры, закреплены основополагающие мировоззренческие тезисы. Это тезис о едином Первоначале (Бог) и множественном мире, принципиально отличном от этого Первоначала, но зависимого от него в своем возникновении, и тезис о человеке как разумном существе, поставленном выше всех существ в мире, обладающем способностью морального выбора.
Два ключевых понятия (Бог и множественный мир) формируют базовые предпосылки (мировоззренческих установок) ведущих интеллектуальных направлений арабо-мусульманской культуры. Эти понятия являются универсалиями исламской культуры: отношение между этими двумя противоположностями (Бог и зависимый от него множественный мир) задают горизонт всякого рассуждения. Бог олицетворяет «очищение» (танзӣх), или утверждение, единого Первоначала, тогда как «уподобление» (ташбӣх) — противоположное ему, множественный мир. Беспредпосылочность этой пары восходит к религиозному отношению арабов-язычников к маниййа (Судьба/смерть), связующему и организующему началу миропорядка. Языческое представление о Судьбе как всемогущественной силе и одновременно олицетворении бессмысленности смерти, мерно и равнодушно перемалывающей все живое, конечное, и с которой человек может столкнуться в любой момент своего краткого бытия, — в неявном виде содержится в кораническом положении о волюнтаристском аспекте Бога (фа‘а̄л ли-ма йаша’). Это представление о неподсудности Бога человеческому разуму в итоге было принято суннитским большинством в качестве одного из важнейших пунктов веры. На вопрос «Откуда
у до-исламских арабов возникло такое представление?», наверное, уже дать ответ не представляется возможным, так как оно родилось в сознании арабов доисламской эпохи, мифологически толкующего мир,
198
а миф — это то, что, пусть и иррациональным способом, способно придавать миру смысл.
Пара понятий «очищение»—«уподобление» (танзӣх—ташбӣх) содержит как инвариант (неизменная величина) исходные мировоззренческие установки, взятые из первичного для данной культуры опыта выстраивания картины универсума и его сегментов. Поэтому вопрос о трансцендентности-имманетности Бога миру превратится в постоянный источник развития для главных областей интеллектуального пространства ислама (коранические дисциплины, калам, фальсафа, суфизм, исмаилизм, ишракизм, историография и пр.). Это находит свое выражение в постоянном напряженном отношении между противоположностями: в коранической экзегетике (попытки корректного решения вопроса об «уподобляющих» аятах-стихах Корана (мушаббиха̄т)); в спекулятивной исламской теологии (калам) — выработка стратегии утверждения трансцендентности Бога через аллегорическое толкование антропоморфных мест в Коране и хадисах, что послужило причиной собственно тематизации дилеммы «очищения [Бога от свойств мира] — уподобления [Его миру]» (танзӣх—ташбӣх) как реальной проблемы; в фальсафе («восточном перипатетизме») — привлечение неоплатонической концепции эманации для решения проблемы установления непротиворечивой связи между единым и самодостаточным Первоначалом и миром и т. д.
По нашему мнению, с точки зрения способа организации культурного пространства исламского мира, пара понятий ташбӣх—танзӣх выступает как исходная модель для выстраивания общих принципов конкретных областей исламской культуры, причем эта модель обладает инвариантным характером (то есть, как сказали бы математики и физики об инварианте как некоей величине, остающейся неизменной при любых изменениях).
И действительно, фундаментальные категории и понятия многих религиозных дисциплин и философских направлений исламского мира явно или неявно построены по образцу соотношения пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх). Например, это пары категорий «основа/ветвь» (‘ас̣л—фар‘), «явное/скрытое» (з̣а̄хир—ба̄т̣ин), пары категорий «субстанция/акциденция» (джавхар—‘арад̣), «Первое/возможное» (‘аввал—мумкина̄т), «необходимое благодаря самому себе/возможное» (ва̄джиб би-з̱а̄ти-хи/мумкин) и т. д.
Организацию мыслительной деятельности в соответствии с парадигмой пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) можно увидеть в области мусульманской историографии — утвержде
199
ние теологической установки при интерпретации исторического процесса как реализации замысла единственного агента действия, Бога (истинного действователя). Не составляет труда выявить действие этой парадигмы в теоретической процедуре «очищения» (тазкийа) по выработке идеи совершенства (восстановление истинной веры (салафизм)), разработка теории об идеальном государстве (политическая мысль в суннизме, в фальсафе, или восточном перипатетизме, с его учением о «благородном городе/дурном городе» (мадӣна фад̣ӣла—мадӣна раз̱ӣла), нравственное совершенствование — мусульманская этика (ах̣ла̄к̣), суфизм (тас̣аввуф) и т. д.). Более того, функции этих категорий по упорядочиванию мыслительных процедур в своих областях применения сохраняют черты сходства с изначальной моделью в виде пары «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх).
В начале следует немного сказать о буквальном и традиционном значениях понятий танзӣх и ташбӣх. Танзӣх (букв. «очищение» [Бога от свойств сотворенного мира]) и ташбӣх (букв. «уподобление» [Бога миру]) — два ключевых термина калама. Термин танзӣх («очищение», «отрешение от всего дурного и недостойного») обозначает отрицание применения к Богу каких бы то ни было характеристик (авс̣а̄ф) и определений (х̣удӯд) ввиду отсутствия среди его творений чего-либо, подобного ему (ср. Коран, 42:11/9)[1]. Термин танзӣх использовался исламскими религиозными учеными для утверждения, что Бог абсолютно лишен любых недостатков, или, иначе говоря, к нему неприменимы для описания свойства и качества тварного мира. (Те, кто утверждает, что Бог — трансцендентен, естественно, заключают, что он также непознаваем). И, соответственно, в рамках исламского богословия понятие ташбӣх («уподобление») означает «уподобить Бога тварным вещам» и выражает позицию тех, кто признает схожесть Бога с тварными вещами в некоторых отношениях, апеллируя к кораническим выражениям, типа «рука Аллаха (йад ’Алла̄х), Его лик (ваджху-ху)» и т. п.[2] «Ат-ташбӣх (от глагола шаббаха — “сравнивать”, “уподоблять”) — сравнение, уподобление; в узком значении — представление божества в человекоподобном виде. В западном исламоведении ат-Т. понимается как антропоморфизм. Однако в мусульманской богословской и доксографической литера
[1] См. Ибрагим Т., Сагадеев А. В. Ат-Танзӣх // ИЭС. С. 224.
[2] См. Chittick W. C. The Self-Disclosure of God (Principles of Ibn al-‘Arabi’s Cosmology). P. XXI. См. также: Ибрагим Т., Сагадеев А. В. Ат-Танзӣх // ИЭС. С. 224; Прозоров С. М. Ат-Ташбӣх // ИЭС. С. 235—236.
200
туре этот термин употребляется и в более широком значении — как любое сравнение Аллаха с чем-либо»[1].
Обратимся к рассмотрению действия этой пары понятий как парадигмы организации культурного пространства исламского мира с раннего периода интеллектуальной жизни исламского мира. Коран и сунна (мусульманское предание о словах и поступках пророка Мухаммада) демонстрируют, что механизм модели «очищения—уподобления» (танзӣх—ташбӣх) используется для утверждения нового религиозного мировоззрения и обоснования новых социальных отношений.
В основе мусульманской религиозной картины мира, закрепленной Кораном и сунной, лежит представление о разделении универсума на две принципиально противоположные стороны — Бог и множественный мир. Бог есть единое и единственное Первоначало, существующее само по себе, Он — творец этого мира. В Коране неоднократно утверждается, что Бог является трансцендентным миру (например, «нет ничего, подобного Ему»[2] и т. д.). Стержневой линией в Коране является критика политеизма. Принцип единобожия (тавх̣ӣд), отстаиваемый в священной книге мусульман, выдерживается с большей строгостью и последовательностью. В Коране содержится совершенно новое понимание Бога в отличие от понимания божественного в иудаизме и христианстве. В нем последовательно отстаивается тезис о единственности и внутреннем единстве Бога (тавх̣ӣд): «Бог только есть единый, кому подобает поклонение»[3]. В Коране от имени Бога Мухаммаду предписывается говорить: «Скажи: истинно, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть во власти Бога, Господа миров, у которого нет соучастника: это заповедано мне, и я первый из покорных Богу»[4].
Таким образом, как и христианство и иудаизм, ислам является одним из религий авраамической традиции, отличающихся монотеизмом — верой в единого и единственного Бога. Но исламское единобожие (тавхӣд) претендует на большую строгость и последовательность. Мусульманское понимание единственности и единства Бога противопоставляется как многобожию, так и христианской Троице. Согласно Корану, Бог (Аллах) — един и единственен, никого не рождал и сам
[1]Прозоров С. М. Ат-Ташбӣх // ИЭС. С. 235.
[2] Коран 42:11, К. Цитаты из Корана приводятся в переводах Г. С. Саблукова (С.), И. Ю. Крачковского (К.).
[3] Коран, 4:171, С.
[4] Коран, 6:163, С.
201
не рожден: «Он — Аллах — един, Аллах вечный, не родил и не был рожден, не был Ему равным ни один»[1], «Неверны те, которые говорят, что Бог есть третий в трех; тогда как нет никакого бога, кроме единого Бога»[2]. В свете более строго утверждаемого Кораном единобожия христианские догматы о Троице и боговоплощении рассматриваются как отступление от истинного единобожия. Новое понимание божественного в виде строгого единобожия ведет к выстраиванию в исламской религиозной картине принципиально иной системы отношений «Бог — человек — мир».
Разумеется, Коран и сунна содержат много антропоморфных описаний Бога, в том числе в продолжении приведенного аята: «[Нет ничего, подобного Ему]. Он — слышащий, видящий (курсив наш. — И. Н.)»[3]. Бог оказывается одновременно трансцендентным и имманентным миру («Мы к нему ближе его шейной жилы»[4]) благодаря своему знанию о сущем («Ты знаешь, что во Мне, но я не знаю, что в Тебе»[5]) и акту творения сущего («Сотворил все существа»[6]).
Сунна (мусульманское предание) также содержит материал с противоречивым описанием Бога. Есть хадисы, в которых подчеркивается инаковость Бога миру, его трансцендентность («Поклоняйся Богу так, словно ты видишь Его, и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя»[7]), («Кто расскажет тебе, что [пророк] Мухаммад, да ниспошлет Бог ему благословение и благодать, видел своего Господа, тот солгал, [ибо Бог] говорит: “Взоры не постигают Его”»[8]). Но есть хадисы, в которых подразумевается имманентность Бога миру. Например, в некоторых хадисах говорится о возможности лицезрения Бога («Пророк [Мухаммад] посмотрел на лунный диск в полнолуние и сказал: “Вы увидите вашего Господа так, как видите эту луну”»[9]), о нисхождении Бога на земное небо («Бог спускается на земное небо»)[10],
[1] Коран, 112:3, К.
[2] Коран, 5:73, С.
[3] Коран 42:11, С.
[4] Коран, 50:16, С.
[5] Коран, 5:116, С.
[6] Коран, 25:2, С.
[7]Муслим. С̣ах̣ӣх̣ Муслим би-шарх̣ има̄м Мух̣йӣ ад-Дӣн ’Абӣ Закарийа Йах̣йа̄ ибн Шараф ан-Нававӣ. Т. 1—18. Бейрут: Да̄р ал-х̱айр, 1996. С. 131; ал-Бух̱а̄рӣ. С̣ах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ. Т. 1. Бейрут; Сайда: Ал-Мактаба ал-‘ас̣риййа, 1997. С. 41.
[8] Коран, 6:103, С.
[9]Ал-Бух̱а̄рӣ. С̣ах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ. Кита̄б ат-тавх̣ӣд (7434). Т. 4. С. 2319.
[10]Ан-Наса̄’ӣ. ас-Сунан ли-л-Наса̄’ӣ ал-кубра̄. Т. 6. Бейрут: Да̄р ал-кутуб ал- ‘илмиййа, 1991. С. 125. 10318).
202
о сотворении человека по образу Бога («Бог сотворил Адама по образу Своему»[1]) и т. д.
Еще одним антропоморфным описанием Бога в Коране могут служить сюжеты о его явлении пророку Мӯсе, в результате чего гора обратилась «в мелкий прах»: «Когда Моисей пришел в назначенное место и время: тогда Господь его говорил с ним. Он сказал: Господи мой! Дай мне видеть Тебя, я взгляну на Тебя! Он сказал: не можешь видеть Меня! Взгляни на эту гору; если устоит она на месте своем, то увидишь Меня. И когда Господь его явил свет свой горе сей, то превратил ее в мелкий прах, и Моисей пал ниц, в обморок»)[2], о предстоянии людей в Судный день перед Богом: «В тот день, когда земля заменится другою землею, а также и небеса другими небесами, они явятся пред Богом, единым, все покоряющим»[3], о ночном вознесении пророка Мухаммада (Коран, 17:1) и т. д. Также, например, в Коране говорится, что в Судный день люди будут удостоены блаженного ви�дения (ру‘йа) Бога воочию: «В тот [Судный] день у некоторых лица будут сияющие, взирающие на Господа их» (Коран 75:22—23, С.). Хотя эти идеи о явлении Бога в мире найдут концептуальное выражение гораздо позже в учениях исламских богословов, суфиев и т. д., но уже на раннем этапе новой религии у верующих возникали вопросы: как увидят люди трансцендентного Бога, каково это видение и каков характер эпифании (таджаллин) Бога в чувственном мире?
В ряде ранних мусульманских произведениях эта тема получила освещение в свете хадисов о видении Бога в Судный день. Мух̣аммад ибн Йах̣йа̄ ибн ‘Абӣ ‘Умар ал-‘Аданӣ (ум. в 856 г.) приводит хадис от ‘Адӣ ибн Х̣а̄тима: «Посланник Аллаха сказал: “Нет среди вас никого, с которым бы ‘Алла̄х не поговорил [в Судный день] — не будет между Ним и человеком переводчика (посредника) и тогда [человек]
[1] Хадис: «Бог создал Адама по Своему образу» (х̱алак̣а ’Алла̄х ’Адам ‘ала с̣ӯрати-хӣ (см. ал-Бух̱а̄рӣ. С̣ах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ. Кита̄б ал-исти’з̱а̄н (6227). Т. 4. Бейрут; Сайда: Ал-Мактаба ал-‘ас̣риййа, 1997. С. 1959; Муслим. С̣ах̣ӣх̣ Муслим (2841). Т. 4. С. 2183). Согласно мнению многих исламских религиозных ученых, такая интерпретация является добавлением к хадису. Например, согласно ан-Нававӣ, личное местоимение «его» (хи) в последнем слове хадиса «с̣ӯрати-хи», то есть «в его образе», относится не к Богу, а к Адаму, и что этим подразумевается то, что последний был сотворен в своем первоначальном строении в той форме, в которой пробыл на земле и умер. См. ан-Нававӣ. С̣ах̣ӣх̣ Муслим би-шарх̣ има̄м Мух̣йӣ ад-Дӣн ’Абӣ Закарийа Йах̣йа̄ ибн Шараф ан-Нававӣ. Т. 17. С. 307.
[2] Коран, 7:143, С.
[3] Коран, 14:48, С.
203
увидит [Его]”»[1]. В сборнике хадисов под названием «Ру’йат ’Алла̄х» (Лицезрение Аллаха), составленном ‘Алӣ ибн ‘Умар ибн Ах̣мадом ад-Да̄рак̣ут̣нӣ, (ум. в 995 г.), приводится хадис от ‘Абӯ Хурайры: «Пророк Мухаммад сказал: “Вы увидите в Судный день ‘Алла̄ха так, как вы видите луну в полнолуние, и как видите солнце, не скрытое облаком»[2]. Он же приводит этот хадис в нескольких передачах, в котором сообщается, что пророк видел во сне Бога «в наилучшем виде», а в некоторых передачах этого хадиса приводятся уточнение: «[Пророк] видел Бога в образе юноши в золотых сандалиях, лицо которого было прикрыто вуалью из золота (золотых цепочек. — И. Н.)»[3]. ад-Да̄рак̣ут̣нӣ приводит также различные мнения сподвижников пророка Мухаммада о характере видения пророком Бога — непосредственном видении, то есть, воочию, или опосредованно, сердцем. Согласно ад-Да̄рак̣ут̣нӣ, ‘Абу З̱арр, видный сподвижник пророка, сказал: «Он (пророк Мухаммад. — И. Н.), видел Его, [Бога], сердцем, а не глазами», и уточнил, что на его вопрос о том, каков Бог, пророк Мухаммад ответил: «[Бог] — свет, я вижу Его»[4]. Ибн ‘Аббас (619—686), ранний ученый ислама и двоюродный брат пророка Мухаммада, высказал другое мнение, утверждая, что «Бог выделил пророка ‘Ибра̄хӣма (Авраама) [среди прочих пророков] подарком, пророка Мӯсу (Моисея) — речью [с Ним], а Пророка Мухаммада — лицезрением [Себя]»[5].
Два самых авторитетных сборника хадисов («С̣ах̣ӣх̣» ал-Бух̱а̄рӣ и «С̣ах̣ӣх̣» Муслима) содежат главы, где приводятся высказывания пророка Мухаммада о предстоящем ви�дении людьми воочию Бога в будущей жизни в свете вышеприведенного аята Корана, где говорится о лицезрении людьми Бога в Судный день. В хадисе от Джарӣра сообщается: «Пророк [Мухаммад] посмотрел на лунный диск в полнолуние и сказал: “Вы увидите вашего Господа так, как видите эту луну”»[6]. В другом хадисе от Джарӣра сообщается: «Пророк сказал: “Вы увидите вашего Господа воочию”»[7]. В хадисе от ’Абӯ Хурайры сообщается: «Вы увидите его (Бога. — И. Н.) так же, [как видите лунный
[1]Ал-‘Аданӣ. Ал-‘Ӣма̄н. Кувейт: Дар ас-салафиййа, 1986. С. 89.
[2]Ад-Да̄рак̣ут̣нӣ. Ру’йат ’Алла̄х. Каир: Мактабат ал-к̣ур‘а̄н, б. г. С. 64.
[3] Там же. С. 190.
[4] Там же. С. 183—184.
[5] Там же. С. 184.
[6]Ал-Бух̱а̄рӣ. С̣ах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ. Кита̄б ат-тавх̣ӣд (7434). Т. 4. С. 2319.
[7] Там же. С. 2320.
204
диск в полнолуние или солнце в безоблачный день]»[1]. В дальнейшем в мусульманской религиозной литературе сложилась устойчивая традиция обращения к данной теме. Например, см. хадис от ‘Адӣ ибн Х̣а̄тима: «Посланник Аллаха сказал: “Нет среди вас никого, с которым бы Аллах не поговорил [в Судный день] — не будет между Ним и человеком переводчика (посредника. — И. Н.), и тогда [человек] увидит [Его]”»[2]. См. также: «Законодатель (ша̄ри‘) (Мухаммад. — И. Н.) сообщил, что мы увидим нашего Господа в Судный день так, как видим луну в ночь полнолуния»[3]. Что же касается грешников, обреченных на адское наказание, то они, как утверждает Коран, будут лишены видения Бога воочию. В комментариях к аяту Корана «Истинно, в тот [Судный] день они завесою будут закрыты от Господа своего»[4] отмечается, что люди, подвергнутые наказанию в Судный день (в отличие от спасенных людей), не узрят Бога[5].
Таким образом, Коран, утверждая одновременную трансцендентность и имманентность Бога миру, то есть, требуя его «очищения» (танзӣх) от свойств множественного мира, одновременно самым недвусмысленным образом говорит о сходстве, или «уподоблении» (ташбӣх) его миру в так называемых «уподобляющих» (антропоморфных) аятах-стихах (мушаббиха̄т). Сказанное применительно и к сунне. Уже в раннем исламе сложатся две позиции в отношении антропоморфных свойств Бога, которыми он описывается в Коране и сунне. Буквалисты-захириты, особенно из числа традиционалистов, «сторонники предания» (’ахл ал-х̣адӣс̱), понимали в прямом смысле «уподобляющие» аяты Корана и соответствующие места в хадисах. Их оппоненты в лице представителей зарождающегося калама отстаивали право на метафорическое, аллегорическое толкование антропоморфных характеристик Бога в Коране и сунне.
Это порождает неизбежные вопросы: как совместить две противостоящие стороны, Бога и мир, как понять характер их отношения?
[1]Муслим. С̣ах̣ӣх̣ Муслим (182). Т. 1. С. 164. О толкование мусульманскими религиозными учеными этого хадиса от ’Абӯ Хурайры см. ан-Нававӣ. С̣ах̣ӣх̣ Муслим би-шарх̣ има̄м Мух̣йӣ ад-Дӣн ’Абӣ Закарийа̄ Йах̣йа̄ ибн Шараф ан-Нававӣ. Т. 3. С. 393—394.
[2]Ал-‘Аданӣ, Мух̣аммад. Ал-’Ӣма̄н. Кувейт: ад-Да̄р ас-салафиййа, 1986. С. 89.
[3]Ибн Х̱алдӯн. Мук̣аддима. Сайда; Бейрут: Ал-Мактаба ал-‘ас̣риййа, 1996. С. 444.
[4] Коран, 83:15, С.
[5] См. Ал-Мах̣аллӣ. Ас-Суйӯт̣ӣ. Тафсӣр ал-Джала̄лайн. Бейрут: Да̄р ал-ма‘рифа, б. г. С. 797.
205
Какова связь между двумя противоположными сторонами — Богом и миром? Как непротиворечивым образом объяснить соотношение божественного и множественного мира? В дальнейшем стремление получить приемлемый ответ на эти вопросы станет источником развития мусульманской религиозной и философской мысли.
Впоследствии противоречивый тезис об одновременной трансцендентности и имманентности Бога множественному миру, утверждаемый Кораном и подкрепляемый сунной, будет тематизирован в ходе споров в раннем исламе в виде пары сопряженных терминов «очищение [Бога от свойств мира]—уподобление [Его миру]» (танзӣх—ташбӣх) и превратится в парадигму организации фундаментальных понятий ведущих интеллектуальных отраслей исламской культуры. Некоторые специалисты отмечают, что в построениях мутакаллимов, равно как и других мусульманских мыслителей, «учение Корана, разъясненное и дополненное Сунной, служило если не нормативной парадигмой, то, по крайней мере, тем обязательным фоном, на которых они развивали свои теолого-философские системы»[1].
Тем не менее, при рассмотрении механизма деятельности модели ташбӣх—танзӣх в самом тексте Коране (тем более в корпусе хадисов) не следует некритически опираться на интерпретацию Корана и сунны сторонниками буквалистского, прямого понимания смыслов Корана текста, особенно традиционалистами и их противниками, сторонников метафорического, аллегорического толкования Корана. Это требование объяснимо тем, что различные подходы традиционалистов и мутакаллимов в толковании антропоморфных («уподобляющих») мест в Коране и корпусе хадисов складывались в условиях противоборства различных религиозно-политических группировок. Каждая из последних обращалась к содержанию Корана и сунны, двух источников ислама, в поисках легитимизации своих идейных и политический амбиций, что не могло не наложить отпечаток на их спор.
Борьба за строгое единобожие против антропоморфистской интерпретации Бога в Коране и сунне в целом укладывается в парадигму механизма «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх). В тексте Корана и корпусе хадисов можно указать на те процедуры, посредством которых реализуется действие пары понятий «очищение—уподобление»
[1]Ибрагим Т. Религиозная философия ислама. Калам. Казань: Казанский ун-т, 2013. С. 34.
206
в кораническом тексте и в хадисах. В них используются не только риторика, красноречие, но и некоторые рациональные методы, например,
различные формы умозаключений по аналогиям (физическая и т. д.), делаются ссылки на библейские истории и события доисламского прошлого Аравии и т. д. Вот некоторые из них:
— Апелляция к вере язычников-арабов и представителей других верований в верховного Бога (’Аллах) как творца и дарителя благ («Истинно, и верующим, и иудействующим, и назарянам, и сабеям, тем, которые веруют в Бога, в последний день и делают доброе, — им награда у Господа их: им не будет страха, они не останутся в печали»[1]; «Да, если ты спросишь их: кто низводит с неба воду и ею оживляет землю после ее омертвления? Они скажут: Бог»[2]). Следует отметить, что имя отца пророка Мухаммада — ‘Абд ’Аллах («раб ’Аллаха»).
— Апелляция к врожденному знанию. В Коране непризнание существования Бога расценивается как нарушение человеком предвечного Договора (йаум ал-мис̱а̄к̣) с Богом, согласно которому люди еще до своего земного существования признали Бога («Разве не Господь ваш Я?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем…”» (Коран, 7:171 (172), К.)).
— Апелляция к уму. В Коране часто подчеркивается, что размышляющий человек не может не отказаться от многобожия в пользу признания единого Бога («Так ужели будете покланяться, опричь Бога, таким, которые не могут сделать вам ни пользы ни вреда?»[3]; «Таковы знамения свои проявляет вам Бог, предполагая, что вы будете поступать разумно»[4]; «Когда встречаются они с верующими, то говорят: “мы веруем”; но когда остаются наедине одни с другими, тогда говорят: “перескажите им то, что открыл вам Бог, чтобы представили они вам на то доказательства пред Господом вашим”. Не понимаете ли вы этого?»[5]).
— Апелляция к гармонии и целесообразности. В Коране в обоснование наличия мудрого и справедливого единого творца делаются ссылки на царящие в природе гармонию и порядок («Истинно, в устройстве небес и земли, в смене ночи и дня; в кораблях, перевозящих по морю полезное людям; в воде, которую низводит Бог с неба и ожив
[1] Коран, 2:64, С.
[2] Коран, 29:61, С.
[3] Коран, 21:66, С.
[4] Коран, 2:242, С.
[5] Коран, 2:76, С.
207
ляет ею землю после ее омертвения; во всех животных, какие расселял Он по ней; в движении ветров и облаков, принужденных носиться между небом и землею, есть знамения для людей рассудительных»[1]; «Истинно, Господь наш есть Бог, который сотворил небеса и землю в шесть дней и потом воссел на престол. Он закрывает ночью день, а этот опять за ней гонится быстро. Солнце, луна, звезды подчинены Его управлению. Не Его ли это тварь и управление ею? Благословен Бог, Господь миров!»[2]; «Он сотворил небеса и землю с благою целью. Он день обвивает ночью, а ночь обвивает днем; покорными делает солнце и луну: то и другая движутся до назначенного срока. Смотри, как силен, снисходителен Он!»[3]).
— Апелляция к авраамическому представлению о пророках как людях, избранных Богом для доведения людям его Закона. В Коране говорится, что подлинной миссией всех пророков было утверждение на земле религии единобожия («Скажите: мы веруем в Бога и в то, что свыше ниспослано нам, в то, что было ниспослано Аврааму, Исааку, Иакову и коленам израильским; в то, что было дано Моисею и Иисусу, что было дано пророкам от Господа их; не делаем различия между всеми ими, и Ему покорны мы»[4]; «Люди были одной религиозной общиной; потом, когда Бог стал воздвигать пророков благовестниками и угрожателями, и с ними ниспосылал Писание и в нем истину, чтобы решить между людьми то, в чем они разногласили между собою: тогда те, которым дано было оно (Писание), после того как доставлены им ясные указания, стали разногласить в нем по ненависти друг к другу. Но Бог, по своему изволению, руководствовал верующих к истинному знанию о том, в чем они разногласят между собою. Бог ведет кого хочет, на прямой путь»[5]; «Некогда Бог поставил с пророками завет: это даю Я вам из Писания и мудрости, потом придет к вам посланник, подтверждающий истину того, что у вас; вы должны веровать в него и помогать ему. Исповедуете ли и принимаете ли на этом условии союз со Мною? Они сказали: исповедуем. Он сказал: так будьте свидетелями, и Я с вами в числе свидетельствующих»[6]; «Скажи: истинно, Господь мой привел меня на прямой путь, к пра
[1] Коран, 2:164, С.
[2] Коран, 7:54, С.
[3] Коран, 39:5, С.
[4] Коран, 2:136, С.
[5] Коран, 2:213, С.
[6] Коран, 3:81, С.
208
вильному вероуставу, к вероучению Авраама, который был истинно благочестивым, не был в числе многобожников»[1]).
Использование в Коране рациональных методов в виде умозаключений по аналогии для доказательства единства и единственности Первоначала, Бога, — факт неоспоримый. Достаточно посмотреть, как в исламской экзегетике знатоки толкования Корана (тафсӣр) определяют каждую из частей этой пары понятий.
Обратимся к примерам определения понятия «очищение» (танзӣх), используемое для утверждения, что к Богу неприменимы для описания свойства сотворенного мира. Данное понятие разъясняется отсылками к вещам из нерелигиозной сферы (природные явления, то есть физические примеры), языковая практика употребления понятия «очищение» (ат-танзӣх фи-л-луг̣а). Например, возьмем рассмотрение Ибн ас-Сала̄мом хадиса, где упоминается чтение пророком Мухаммадом коранических аятов с «очищением Бога» (танзӣх ’Алла̄х) [от свойств тварного мира]. Комментатор пишет, что танзих — это очищение Бога от всего того, что могло повлечь утверждение о том, что у Него есть сотоварищ, дитя и тому подобное, и поясняет что слово танзих происходит от значения «отдаленность», то есть, удаленность от чего-либо, что содержит грязь, и направление к тому, в чем есть чистота и непричастность. Он добавляет, что ‘Умар ибн ал-Х̱ат̣т̣а̄б (ум. 644), второй халиф, также употреблял однокоренное слово нузха («отдаленность») с тем же значением — в смысле чистоты, отстранения от всего грязного. В итоге Ибн ас-Сала̄м приходит к утверждению, что с тех пор слово танзӣх стало обозначать требование возвращения к основе (’ас̣л), то есть к чему-то изначальному, незамутненному и чистому[2].
Есть и другие примеры, когда комментаторы Корана и хадисов определяют понятие танзӣх, взятого в терминологическом значении, с помощью отсылки к языковой практике его употребления. Вот как, например, комментатор ан-Нух̣а̄с разъясняет хадис от Т̣алх̣и «Я спросил [пророка] Мухаммада, да ниспошлет Бог ему благословение и благодать, про выражение субх̣а̄на [“Пречист Бог!”], и он ответил, что это — очищение (танзӣх) Бога». Ан-Нух̣а̄с поясняет, что
[1] Коран, 6:161, С.
[2]Ибн ас-Сала̄м. Г̣арӣб ал-х̣адӣс̱. Т. 3. Бейрут: Да̄р ал-кита̄б ал-‘арабӣ, 1975. С. 80—81.
209
слово танзӣх «в языке — это отдаленность, а значит, отдаленность (танзӣх) Бога от идолов и детей»[1].
Однако в корне неправильно сводить модель пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) Корана и Сунны как нормативную парадигму к перечисленным процедурам, к различным приемам риторики и к некоторым рациональным методам. Данная модель стала парадигмой для организации исламской культуры благодаря тому, что она определяет горизонт всякого (не только теоретического) рассуждения. Она задает — 1. предельные основания бытия; 2. сферу допустимости в познании; и 3. конечную инстанцию моральных суждений. Таким образом, эта парадигма имеет три аспекта — метафизический, или онтологический (Бог, Первоначало есть принцип организации бытия), гносеологический (знание носит строго иерархизированный характер) и этический (без человека творение мира не может считаться завершенным, даже жизнь и смерть конкретного человека получают оценку в абсолютном измерении — в свете Судного дня после гибели этого мира).
Другими словами, пара понятий «очищение»—«уподобление» (танзӣх—ташбӣх) в качестве парадигмы служит способом выстраивания в Коране и сунне картины универсума и его частей. Всякий способ предельного осмысления мира возможно лишь в контексте отношения абсолюта (Первоначала) к множественному миру (Единое—многое; необходимое—возможное) и его роли в организации множественного мира (в качестве Первой причины всего сущего). В этом отношении эта модель организации картины мира такая же философская, как и варианты организации картины универсума, бытия, предложенные античными философами (на основе одного принципа, начала (огонь Гераклита, бытие Парменида, число (пропорция) Пифагора); нескольких начал (стихии Эмпедокла) и т. д.).
Действие парадигмы по модели пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) ведет к перестройке прежней религиозной картины и к закреплению ее в Коране и сунне. Можно выделить три аспекта действия этой парадигмы в Коране и сунне: метафизический, гносеологический и этический.
1. В аспекте метафизическом в Коране и сунне закрепляется тезис о Боге как принципе организации бытия, мироустройства. Конечно, в Коране и сунне не выдерживается до конца линия по «очищению»
[1]Ан-Нух̣а̄с. Ма‘а̄нӣ ал-К̣ур’а̄н. Мекка: Джа̄ми’ат ’умм ал-к̣ура̄. Т. 1. 1988. С. 525—526.
210
(танзӣх), отрицанию применения к Богу каких-либо характеристик тварного мира. Бог в Коране все еще сохраняет антропоморфные, зачастую жестокие черты древнесемитских божеств (подобные черты имеет и Судьба (маниййа), значимая фигура языческого пантеона арабов-язычников, — всемогущая сила, бессмысленно и мерно
перемалывающая все в мире). Поэтому коранический Бог все также мстителен и неподсуден («Господь твой есть полновластный совершитель того, что хочет»[1]). Но он уже ограничен требованиями разума, а потому он и справедливый, располагающий все сущее на свои места и воздающий всему должное («Господь наш тот, кто дал каждой вещи ее строй, а потом вел ее по пути»[2]). Таким образом, Богу, Первоначалу, принципу мироустройства предицируются разумность и справедливость. Это Первоначало — прямая противоположность Судьбе арабов-язычников с ее иррациональным характером и имморализмом.
2. В гносеологическом аспекте разумность Бога следует понимать как избавление его (пусть и неполное) от иррационального начала. Хотя знание Бога неизмеримо больше знания человека, тем не менее оно служит для выполнения действий, направленных на благо человека. В этом отношении божественное знание уже допустимо оценивать согласно критериям на соответствие рациональному знанию, поскольку знание Бога в какой-то мере становится подсудным человеческому суждению.
Такое особое благоволение Бога к человеку в Коране объясняется тем, что Он ему, а не ангелам даровал право давать вещам имена[3]. Человек превосходит своим знанием ангелов. Соответственно, кораническое учение о человеке получает еще одно измерение — человеческий разум (‘ак̣л) объявляется высшей ценностью. Слово «разум» и производные от него слова, а также «знание» (‘илм) с однокоренными словами часто встречаются в Коране.
Человек занимает высшее место в мироздании благодаря тому, что на него изначально Бог возложил завет, или «доверенность» (‘ама̄на), которая последовательно была предложена небесам, горам, но те отказались, боясь нести это бремя, и лишь человек взялся ее нести[4]. В Коране говорится о человеке как высшем творении Бога. Бог со
[1] Коран, 11:107, С.
[2] Коран, 20:50, К.
[3] Коран, 2:33.
[4] Коран, 33:72.
211
здал его «Своими руками», сотворил человека «лучшим сложением», «вдул в него от Своего духа»[1]. Человек не только является высшим творением Бога, но и преемником (х̱алӣфа) Его на земле: «И вот, сказал Господь твой ангелам: “Я установлю на земле наместника”»[2].
3. Этический аспект выражается в том, что утверждение в Коране и сунне новой надплеменной морали также укладывается в парадигму действия пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) — через «очищение» от всего локального, племенного, или сведение морали каждого племени к единой, универсальной морали всего человечества. Это делается по образцу «очищения» (танзӣх), в первую очередь «очищения» Бога от свойств множественного мира, в том числе от отношений субординации верховного божества (’Алла̄х) арабов-язычников к многочисленным их племенным богам.
В исламе человек в моральном и правовом плане становится субъектом, несущего личную ответственность за свои нравственные поступки и действия правового характера в отношении других людей. Коран утверждает индивидуализацию человека: человек полностью ответственен за свои поступки и не подсуден по принципу круговой поруки «Будь вместе со своим братом [по клану], невзирая на то — является ли он притесняющим или притесняемым», что было характерно для языческой Аравии, когда человек не был вычленен из клана, а потому представлял существо безответственное за свои поступки. В моральном и правовом отношении в клане он был клоном, двойником (шабӣх) любого другого члена клана. Ислам, напротив, вычленил человека из множества (племя), полностью «очистил» его в смысле признания как субъекта, лично несущего ответственность за свои поступки. Эта процедура индивидуализации человека также была сделана по образцу «очищения» (танзӣх), или освобождения, его от требований круговой поруки и племенной морали.
В Коране утверждается совершенно иное, чем в язычестве, понимание жизни и смерти и ответственности человека за свои действия. И в языческой религии есть вера в жизнь на том свете, но у язычников вера в нее не доведена до четкого ощущения, что на том свете за все содеянное на этом свете человек будет нести ответственность: «Разве думает человек, что он оставлен без призора?» (75:36, К.). По этой причине язычество не способно оказать влияние на развитие внутреннего мира человека и не ведет к осознанию человеком самого себя как ин
[1] Коран, 38:75, К.; 95:4, К.; 32:9, К.
[2] Коран, 2:30, К.
212
дивида, в первую очередь как существа, целиком несущего ответственность за свои поступки, как это утверждает ислам. В Коране последовательно говорится, что вершителем подлинного суда является только Бог, который восстанавливает установленный им Закон (шари‘а) путем наказания человека за грехи в том случае, когда Он решает не прощать и лишить его возможности спасительной благодати, обязательно даруемой, в свою очередь, тем людям, которые соблюдают религиозный Закон. Божий суд выводит человека из под власти людского суду, несвободного от произвола и ошибок. Человек предстает перед Богом, полностью отвечая за свое поведение перед Ним. Человек вновь оказывается в рабской зависимости, теперь от Бога, но это рабствование делает его независимым от всех людей, даже тиранов.
Кораническая идея о посмертном воздаянии в потустороннем мире (‘а̄х̱ира) является исходной точкой развития в исламе идеи личности. Наличие у человека внутренней свободы есть основание, на котором становится возможным развитие самосознания и формирование личности.
С кораническим учением о внутренней свободе человека тесно связаны идеи о свободе воли человека и предопределенности всего сущего. С одной стороны, в Коране постоянно звучит призыв к человеку совершать добро и избегать зла, ибо Бог в равной мере (то есть, справедливо) воздает как за добро, так и за зло. Этим подразумевается наличие у человека свободы выбора между добром и злом, иначе не было бы в Коране постоянной отсылки к участи неверных, которые нарушают справедливое устроение Бога на земле и в результате обрекают себя на вечное наказание. «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они не переменят того, что с ними» (Коран, 13:11, К.). С другой стороны, в Коране и в высказываниях Пророка Мухаммада утверждается, что все в мире, в том числе все действия человека, как злые, так и добрые, предопределены Богом с извечности: «И завершились словеса Господа твоего по истине и справедливости. Слов Божиих не переменить» (Коран, 6:115, К.)). Божественное предопределение (кад̣а̄’) как общее знание Бога о вещах с извечности исключает любые попытки человека изменить предопределенный ему удел на этом и том свете, не оставляет за ним свободу выбора.
В данном случае также можно видеть действие механизма модели «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх). Выработка самой идеи свободы человека, представления о нем как свободном агенте своих поступков, предполагает формирование представления о человеке как существе, независимом от иных сил, то есть предполагает ту
213
же процедуру «очищения» (танзӣх) человека от зависимости от воли иного субъекта, рока, действия явлений этого и сверхъестественного мира и т. д. Ведь вера в предопределенность всего сущего основывается на представлении об отсутствии у человека воли и способности выйти из-под власти иных явлений и существ, то есть на представлении, что он есть «как все», на полном уподоблении (ташбӣх) его всем явлениям физического мира. Другими словами, в полном
соответствии с парадигмой действия пары понятий «очищение—уподобление» (танзӣх—ташбӣх) в Коране идея о свободе человека противопоставляется представлению о предопределенности всего сущего.
В дальнейшем, действие парадигмы «очищение»—уподобление» (танзӣх—ташбӣх), (с момента начала споров в раннем исламе по вопросу о природе божественных атрибутов), надолго определит вектор развития основных интеллектуальных направлений исламского мира, — даже тех, модель философствования которых опиралась на античную философию (фальсафа). Все попытки решения проблемы соотношения Бога и мира, предпринятые в каламе, фальсафе, историографии, суфизме, исмаилизме, ишракизме и т. д. — это частные варианты (более или менее успешные) решения проблемы «очищения—уподобления» (танзӣх—ташбӣх), или трансцендентности/имманентности Бога миру. Во всех этих вариантах Бог рассматривается как абсолют и принцип организации бытия (природного, социального и индивидуального).
Противоречивый тезис об одновременной трансцендентности и имманентности единого Бога множественному миру, утверждаемый Кораном и впервые тематизированный ранними исламскими религиозными учеными и мыслителями в виде пары сопряженных терминов «очищение [Бога от свойств мира]—уподобление [Его миру]» (танзӣх—ташбӣх), почти сразу превратился в парадигму организации фундаментальных понятий ведущих интеллектуальных отраслей исламской культуры — коранических дисциплин, философии, мусульманской историографии, социально-политической мысли, морали и т. д. — как в классическую эпоху этой культуры, так и на современном этапе развития мусульманского мира. Это находит выражение в напряженном отношении между религиозным фундаментализмом и светской идеологией, в проблеме соотношения «нормативного ислама» и локальных форм бытования ислама, в конфликте исламской морали (и шире — образа поведения) и норм секуляризованного/светского общества и т. д.
 |
7.2 Уподобление (ташбих) и несравненность (танзих) согласно Ибн ‘Араби (‘Али Ширвани) |

|
214
Постановка проблемы
Слово «уподобление» используется в значении «уподоблять», «находить сходным», а также употребляется в случае убежденности в тождественности двух вещей, а понятие «несравненность» является производным от глагола со значением «очищать», «освобождать», «находить очищенным и освобожденным», а также в случае убежденности в отсутствии изъяна и недостатка в чем-либо. Значение этих слов в богословии полностью соотносится с их словарным значением, представляя собой случай их особого применения. В богословии термин «уподобление» (ташбих) употребляется в значении отождествления или сходства Бога с творениями и убежденности в их тождественности, которая делает обязательным приписывание возможных качеств и атрибутов, а «несравненность» (танзих) понимается как свобода Бога от качеств и свойств творений и убежденность в том, что Он не имеет сходства с этими творениями, которые ведут к отниманию возможных качеств и атрибутов от обязательных.
В исламских религиозных текстах и в главном сакральном тексте Ислама — Священном Коране — имеется много прецедентов приписывания качеств творений Богу, к примеру:
«Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)» [Коран, 20:5];
«Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха» [Коран, 2:115];
«Рука Аллаха — над их руками» [Коран, 48:10];
«И тебя взрастил у Меня на глазах» [Коран, 20:39].
215
Подобные айаты увели немногочисленную группу мутакаллимов, излишне восприимчивых к буквальному, внешнему смыслу религиозных текстов, в сторону уподобления настолько, что даже некоторые из них представляют Бога в качестве света светов, другие — юноши, иные — в образе старца, наделив Его такими частями тела, как руки, ноги, глаза, уши, а также формой, весом и местом. Подобные взгляды считаются неприемлемыми с точки зрения исламских философов и большинства приверженцев калама.
В противовес этим текстам, существует также множество книг, в которых говорится, что Всевышний Бог лишен какого бы то ни было сходства и подобия с творениями, ибо: «Нет никого, подобного Ему» [Коран, 42:11]. У всех исламских философов и большинства последователей калама прослеживается идея о несравненности Всевышнего, они считают неверным толкование текстов, указывающих на Его уподобление чему-либо. А некоторые из них даже доходят до того, что лишают Бога каких-либо качеств, тем самым создавая апофатическую богословскую доктрину.
Основной вызов установкам этой группы исходит от большого количества текстов, которые, на первый взгляд, внешне свидетельствуют в пользу доктрины уподобления. Толкование путем абстрагирования от первичного внешнего смысла этих всех текстов является трудным делом.
Ибн ‘Араби и соединение уподобления
и несравненности
На фоне всех этих текстов, внешне противоречивых, в рамках доктрины Ибн ‘Араби можно найти компромиссное решение, ибо в ней есть место как текстам, свидетельствующим в пользу уподобления (ташбих), так и преданиям, содержащие указания на несравненность (танзих). Их первичный внешний смысл принимается без толкования, без того, чтобы вывести Господа из Его положения Всевышнего Бога и утвердить Его в статусе творения, и без исчезновения трансцендентности Творца по отношению к творениям, или же без покидания своего места творением и восхождения им в ранг Творца.
Ибн ‘Араби принадлежит к числу тех философов, которые выступают за соединение уподобления и несравненности, считая истинной лишь такое понимание Единобожия. Все же следует иметь в виду, что определение понятий «уподобление» и «несравненность» у Ибн ‘Араби отличается от того, какое давали ему последователи калама
216
и фалсафы. Согласно их трактовке, уподобление — это утверждение о наличии качеств творений и в особенности телесных деяний у Господа, а несравненность — отрицание этих качеств у Бога, тогда как у Ибн ‘Араби уподобление означает скованность, связанность [ограничение Бога какими-либо рамками], а несравненность — освобождение [Бога от ограниченности чем бы то ни было]. Согласно доктрине Ибн ‘Араби, несравненность олицетворяет проявление Всевышнего Бога для Себя и Себе, и в этом состоянии данный акт проявления является и превосходящим какое бы то ни было отношение и качество. Уподобление же означает проявление Господа в образе внешних живых существ в мире бытия.
Чтобы постигнуть суть теории Ибн ‘Араби относительно соединения уподобления и несравненности, нужно ознакомиться с его учением о мире бытия. Ибн ‘Араби считает бытие единым, абсолютным и бесконечным. Это Абсолютное Бытие, которое он называет Абсолютно Скрытым, находится на уровне сущего и проявляется в Именах и Атрибутах, нисходя на все миры — «мир явного и осязаемого» (‘алам ал-мулк ва ш-шахада), «мир царствования» (‘алам ал-малакут), «мир могущества» (‘алам ал-джабарут) — является очищенным от каких-либо качеств, отношений, имен и месторасположения. Господь на этом уровне (уровень Существа) не постижим ни одним мыслящим умом. Он является той самой желанной жемчужиной, путь к которой скрыт ото всех. Это свойство Всевышнего сокровенно, неведомо и неопознано, и, согласно Ибн ‘Араби, несравненность относится именно к этому Его качеству.
Но Бог проявляет себя непрерывно, и в этих теофаниях Он являет Свои Имена и Атрибуты. Имена и Атрибуты также имеют свои проявления («прообраз», «неизменный Архетип» — а‘йан сабита) во внешнем мире, обладая внешними характеристиками. Поэтому в мире отобразилась множественность. Согласно Ибн ‘Араби, все эти множественности суть проявления истины Существа, то есть Бога. Если не будет этого Существа, абсолютно исчезнет множественность. Поскольку бытие принадлежит только Богу, и помимо Него во всей Вселенной, в прямом смысле слова, нет ничего другого, а всё, что есть, является Его проявлением и теофанией, — поэтому всё, что мы видим и всё, что есть в мирах бытия, суть Его Имена и Атрибуты (уподобление). Конечно, это происходит на уровне проявления и теофании, но на уровне Сущности Он свободен от всякого рода описаний и определений (несравненность).
217
Недостатки доктрины несравненности (танзих)
Священный Коран гласит, что в те времена, когда идолопоклонничество достигло своего пика, пророк Нух (Ной) силой и мощью вызвал к себе свой народ и призвал их к поклонению одному Богу и монотеизму. С точки зрения Ибн ‘Араби, это не что иное, как приглашение к принятию концепции несравненности (танзих). Тенденция к многобожию (политеизм) настолько была распространена среди его народа, что только односторонний акцент на Единобожие (монотеизм) давал возможность возврата на путь истинный (соединение уподобления и несравненности). «Положение и состояние тех идолопоклонников требовало их призыва к принятию идеи о несравненности Господа, к Единобожию, отдалению от греха и вере в наказание, с тем чтобы они вспомнили о духовности и уверовали в загробный мир. Поэтому Всевышний ниспослал пророку Нуху (Ною) мудрость, чтобы он призывал уверовать в несравненность Бога и развенчал идею Его уподобления творению. Следовательно, призыв пророка Ноя был внутренним и его соответствие призыву Сифа[1] подобно сравнению призыва пророка ‘Исы (Иисуса) с призывом пророка Мусы (Моисея)»[2].
Но Ибн ‘Араби полагал, что богословие, основанное сугубо на доктрине несравненности, является неполным учением — точно так же, как и учение, основанное на чистом уподоблении. Подобно тому как чистое уподобление означает ограничение Бога в Его проявлениях и, тем самым, противоречит совершенно свободной Божественной Сущности, исключительная несравненность также равноценна разрыву связи Господа с Его проявлениями и отключению Этой Сущности от проявлений. В конечном итоге, это провоцирует скованность Этой чистой и освобожденной Сущности во всем:
Знай — да укрепит тебя Господь Своим Духом — что несравненность согласно учению приверженцев истины подобна определению размеров и условий (для Истинного Бога). Поэтому последователи доктрины несравненности либо невежды, либо им чужда культура[3].
Как отмечают комментаторы «Фусус аль-хикам», Ибн ‘Араби объясняет это следующим образом: несравненность (танзих) либо является одним из возможных недостатков, либо относится к числу
[1] Третий сын Пророка Адама и Евы, соответствует кораническому Шиту. [Прим. пер.]
[2] Абд ал-Раззак Кашани Шархи Фусус аль-хикам. С. 55.
[3] Ибн Араби, Фусус аль-хикам. С. 68.
218
как возможных недостатков, так и совершенных качеств человека, которые, согласно сторонникам доктрины «единства свидетельства» (вахдат аш-шухуд), провоцируют лимитацию и ограничение Бога. Ибо всякий, кто говорит о несравненности Господа, отделив Его ото всех живущих творений, ограничивает Его проявление в некоторых формах, связанных с несравненностью, и лишает Его других проявлений, сопряженных с уподоблением, как то: жизнь, знание, сила воли, власть, слух и зрение. Тогда как все живые существа во всех своих качествах суть проявления Истинного Бога, и Господь являет Себя в них и через них. Это значит, что именно Бог проявил Себя в формах всех живых существ и проявил Себя в скрытом подобии творений[1].
В заключение скажем, что несравненность применительно к «А» и «Б» означает их отличие друг от друга, обусловленное особыми качествами, которые свойственны каждому из них. Следовательно, несравненность «А» (что бы это ни было) с «Б» (что бы это ни было) делает необходимым обладание «А» особым качеством или качествами. Говоря о том, что у «А» наличествуют эти качества, мы, тем самым, ограничиваем его. Тот, кто считает Бога очищенным и освобожденным от каких бы то ни было ограничений и лишает Его каких-либо ограничений, на самом деле связывает Его условием избавления, таким образом делая Его ограниченным[2]. Именно поэтому учение о несравненности, согласно сторонникам истины, заключает в себе лимитацию и ограничение Господа.
Согласно Ибн ‘Араби, размышления о Боге — путь философов — ведут человека к пропасти доктрины несравненности. Он считает, что философы, которые сторонятся Шариата и Откровения, и, тем самым, отрицают явное свойство и параметр уподобления, не ведают об истине бытия[3]. А мутакаллимы, которые претендуют на следование пророкам и на то, что опираются на Божественное Откровение, и все же занимают позицию чистой несравненности, подобны невежественному отступнику. Ибо они, невзирая на многочисленность Божественных айатов, которые свидетельствуют в пользу характера уподобления Господа, все же отрицают уподобление и отвергают Бога и Его пророков:
[1] Хусейн Хорезми, Шархи Фусус аль-хикам, исследование Наджиб Маеля Херави. С. 163—164; Дауд Кейсари, Шархи Фусус аль-хикам. С. 498.
[2] Абд ал-Раззак Кашани, Шархи Фусус аль-хикам. С. 55.
[3]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 68.
219
«Поэтому тот, кто следует Шариату и верует в него, всякий раз, приписывая несравненность Господу и удовлетворяясь только ею одной, является необразованным человеком, который отрицает Господа и Его посланников (Мир Им всем!), не ведая об этом»[1].
Ибо Бог описывает Себя посредством Своих Пророков такими эпитетами как Живой, Вечный, Слышащий и Видящий.
Недостатки доктрины уподобления (ташбих)
Подобно тому как чистая несравненность порождает ущербное познание, так и сугубое уподобление приводит к неполному познанию Всевышнего. Тот, кто в отношении Бога применяет лишь принцип уподобления (ташбих), игнорируя Его несравненность (танзих), делает Господа ограниченным и лимитированным, не познав Его[2]. Ибо сторонники доктрины уподобления ограждают Бога чертогами определенностей образов Истинного, а все, что ограничено рамками и не выходит за их пределы, есть творение, а не Творец.
Следует сделать акцент на том, что, согласно Ибн ‘Араби, Бог не приравнивается всему миру (определенностям). Как говорит Кашани, совокупность ограничений хоть и не является чем-то, кроме Бога, но и не является полностью Им Самим, ибо истина единицы, которая внешне присуща всем определенностям, отлична от комплекса этих же определенностей[3]. Поэтому те, кто приравнивает концепцию «Единства Бытия» Ибн ‘Араби к пантеизму — религиозному учению или философской теории, согласно которым Бог и Вселенная суть одно и тоже — сильно ошибаются. Вера в пантеизм в его вышеупомянутом смысле представляет собой то самое падение в бездну чистого уподобления, в которую опускаются Всевышний и Его несравненность. Согласно этому учению, Вселенная не только является Богом, но и подобна Ему, и Бог тождественен Вселенной.
Совершенное познание
Как уже было сказано, совершенное познание Всевышнего нуждается в соединении уподобления и несравненности. На этом пути, основанном на мистическом опыте совершенного человека (ал-инсан
[1]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 68.
[2] Там же. С. 69.
[3] Абд ал-Раззак Кашани, Шархи Фусус аль-хикам. С. 57—58.
220
ал-камил), ‘ариф (мистик) наблюдает Сущность Всевышнего в зеркале вещей и событий, видя единичность в множественности. И как говорит Мауляна Руми в своей «Поэме о скрытом смысле»:
То ты, солнце, становишься морем,
То — горой Каф[1], то [птицей] Анка.
Ты не то и не другое по своей сущности,
О, Ты, Кто выше всякого воображения и больше наибольшего!
Из-за Тебя, Тот, у кого нет телесного воплощения, но столько форм,
И мушаббихи[2], и муваххиды[3] пребывают в недоумении[4].
С точки зрения такого человека вся Вселенная представляет собой проявление Атрибутов Величественного Бога. Тем самым, она и является Им, и в то же время не тождественна Ему:
И ты — не Он, но [в тоже время] ты — Он, и ты видишь Его
В самих вещах, неограниченным и ограниченным[5].
Согласно комментариям Кейсари, смысл этого бейта сводится к следующему: ты не Бог по причине твоей явной привязанности к Нему и нужды в Нём, ты являешься Им, ибо ты, на самом деле, подобен Ему и Его Сущности, Которая проявила Себя в одном качестве из ряда качеств, на одном уровне из уровней Его Сущности. И ты наблюдаешь Истину в самих вещах, тогда как они ограниченны Его Абсолютной Сущностью и Его проявлением в одном Атрибуте из Его Атрибутов[6].
Но если дело обстоит именно так, тогда почему такие пророки, как Нух (Ной), призывали только лишь к вере в несравненность Господа, обходя стороной тему уподобления? В трактате «Фусус аль-хикам» Ибн ‘Араби содержится детальный анализ этого вопроса, итог кото
[1] Каф — мифологическая горная цепь, опоясывающая землю. На этой горе обитает вещая птица Анка. В терминологии суфиев гора Каф означает познание Божественной истины; Анка — совершенный человек, который является воплощением Божественных атрибутов. [Прим. пер.]
[2] Сторонники учения об уподоблении Аллаха творениям. [Прим. пер.]
[3] Истинные мусульмане-монотеисты. [Прим. пер.]
[4] Джалал ад-дин Мухаммад Руми (Мауляна), Поэма о скрытом смысле, дафтар 2, бейты 54, 55, 57. Перевод стихов Мауляны взят из его поэтического произведения «Поэма о скрытом смысле», 1—6 дафтары — Пер. с перс. О. Ф. Акимушкина, Ю. А. Иоаннесяна, Б. В. Норика, А. А. Хисматулина, О. М. Ястребовой; СПб.: Петербургское Востоковедение. [Прим. пер.]
[5]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 70.
[6]Дауд Кейсари. Шархи Фусус аль-хикам. С. 512.
221
рого сводится к следующему: обычай Пророков был таковым, что они прямо высказывались лишь о несравненности, а тему уподобления покрывали завесой, ибо она предназначалась лишь для сторонников тайны и властелинов сердец. Конечно, его слова относительно призыва Нуха (Ноя) порицаемы: «Народ не принял призыв Ноя, потому что он приглашал к чистой несравненности, они бы послушались его, если бы он соединил несравненность с уподоблением»[1].
Согласно Ибн ‘Араби, соединение несравненности и уподобления наилучшим образом представлено в самом Священном Коране. И даже айат «Нет никого подобного Ему»[2], свидетельствующий в пользу несравненности, заключает в себе уподобление, ибо, если считать букву

в слове

лишней, это станет доказательством подобия Господа. А это и является уподоблением, сторонники которого относят атрибуты «Слышащий» и «Видящий» исключительно к Богу: «И Он — Слышащий, Видящий»[3], в чем одновременно заключена и идея несравненности. А если эту букву не считать лишней, тогда в начале айата будет идти утверждение о несравненности Бога, а в продолжении пойдет речь о Его уподоблении творению:
«Всевышний Бог сказал: “Нет ничего подобного Ему” — значит, Он приписал Себе несравненность, и продолжил: “…и Он — Слышащий, Видящий” — значит, Он уподобил Себя [творению]. И Бог сказал: “Нет ничего подобного Ему”, значит, уподобил Себя [то есть признал существование подобного Себе, кроме Себя], потом добавил: “И Он — Слышащий и Видящий”, значит, приписал себе несравненность и единство [то есть ограничил в Себе слышащее и видящее существо]»[4].
Источник удивления
Соединение качеств, согласно учению Ибн Араби, происходит подобно модели таких парных прилагательных, как «внешний» (явный) и «внутренний» (скрытый), «первый» и «последний», «старый» и «новый», «Творец» и «творение». Если богоявление, обладая особым смыслом, к которому Он стремится, заменит понятие творения и созидания, тогда мы поймем, что весь мир является Им и не является Им.
[1]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 70.
[2] Коран, 42:11.
[3] Там же.
[4]Ибн Араби Фусус аль-хикам. С. 70.
222
Это и есть соединение уподобления и несравненности, и именно это изумляет и удивляет. Ибн ‘Араби полагал, что правильной стоянкой, соединяющей несравненность и уподобление в себе, является та стоянка, которая позволяет увидеть единичность в множественности и множественность в единичности. Ибн ‘Араби называет это постижение посредством такого меняющегося соединения удивительным. Таким образом, это удивление является метафизическим, ибо человек, постигая природу всего, что он видит в мире, находится в угнетенном состоянии от того, что не знает, считать ли бытие единичным или множественным[1].
Ибн ‘Араби считает, что истину в ее рафинированном виде невозможно осмыслить и вообразить, ее познание тождественно изумлению ею. Подобно тому, как говорится в хадисе: «Неспособность постижения познания сама по себе является видом познания». Разумеется, Ибн ‘Араби описывает это удивление на разных уровнях.
Удивление мыслителей является ущербным этапом изумления, в отличие от удивления совершенных мистиков, которые очистили свои сердца от всех мирских интересов и желаний, чтобы в них отобразилась Вселенная и чтобы постичь единство во множественности, несравненность в уподоблении. На этой ступени удивление сопряжено с преображением сердца и созвучно с разнообразием истины в различных формах, то есть оборачивается познанием устойчивости [единства] в многообразии и многообразия в устойчивости [единстве].
С точки зрения Ибн ‘Араби, только сердце мистика способно постичь это многообразие, разум же смотрит на истину в свете своих выработанных понятий. Следовательно, разум, ограничивая и лимитируя Господа, не выходит за рамки придуманных и созданных собою понятий:
«Совершенный мистик познает Бога в каждой форме, в которой Он проявляет Себя, и в каждом образе, в который Он входит, и никто, кроме ‘арифа, не способен познать Его, разве что в рамках своей системы взглядов. И поскольку Истинный Бог проявляет Себя вне этой системы взглядов, он отрицает Его. Этот вопрос и является самым трудным вопросом в богословии. Чему открывается противоречие форм, не Ему ли в Нем Самом?»[2]
В этом месте Ибн ‘Араби говорит об эволюции теологии и о ее перемене в формах убеждений и познаний. Но следует иметь в виду,
[1]Изуцу Т. Суфизм и таоизм. С. 89.
[2]Ибн Араби. Мекканские откровения. Т. 4. С. 197.
223
что эта эволюция относится к познающему, а не к Познанному. Ибо Познанный — Бог — является устойчивым и неизменным Существом. Эта истина в мире подобия, который служит промежутком между телесными истинами и не телесными, надевает на себя разнообразные формы, воплощаясь во множественных ликах. Именно Сущность Господа обладает этими богоявлениями, «посредством которых значение и смысл неразрывно связываются с формами»[1].
Разнообразные формы богоявлений в сердце мистика
Одним из основных элементов мысли Ибн ‘Араби является вопрос о богоявлении. Проявления Господни происходят как во внешнем мире, так и в сердцах мистиков. Для разъяснения своей позиции относительно «Бога, сотворенного в верованиях» Ибн ‘Араби привязывает феномен богоявления к сердцам ‘арифов.
Согласно его концепции, Бога возможно постичь только в промежутке синхронной противоположности — иначе, упав в бездну ограничений и особого верования, мы войдем в число отвергающих и отрицающих явившего Себя Господа[2]. Именно это собрание противоположностей становится причиной удивления и изумления человека, который зрит Бога скрытым, когда Он открыт, считает Его множественным, в то время как Он един, полагает, что Бог — обладатель красоты, тогда как Он — Властелин Величия, хотя Его величие порождает Его великолепие и красоту. Неисчисляемое количество вещей, которые отчетливо и ясно превосходят друг друга и отличаются друг от друга, некоторые открыто противопоставляются иным, на самом же деле составляют суть одного целого. Осознание этого заставляет мозг человека блуждать в пропасти удивления.
Освобождение от удивления
С точки зрения Ибн ‘Араби, это удивление проходит тогда, когда мистик, влияя в своем значительном гностическом опыте на глубины бытия, созерцает Единство Бытия, ибо причина удивления заключается в разъединенности взгляда. Значит, там ничего нет, помимо
удивления, которое спровоцировано разъединенностью взгляда [который, с одной стороны, видит единство, с другой стороны, наблю
[1]Ибн Араби. Трактат Ибн Араби, Книга вопросов. С. 18.
[2]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 77.
224
дает множественность]. И каждый, кто постигнет то, что было сказано нами, не познает удивления.
Вышесказанное объясняется следующим: когда мистик, устраняя завесы мрака и света, проходя стоянки бытия одну за другой, найдет путь к безбрежному морю Божества, узрит единичность и познает ее отделенность от внешних множественностей, то узнает он во всем, что увидит он на пути возврата в мир множественностей, знакомую форму той единичности красоты и величия. К примеру, человек, который созерцал чье-то лицо вблизи, изучил его и установил связь с его обладателем. Когда это лицо предстанет перед всевозможными зеркалами, которые, в соответствии со своей спецификой, будут отображать его: маленькое зеркало – маленькое отображение, большое зеркало — большое отображение, желтое зеркало — желтое отображение, красное зеркало – красное отображение, выпуклое зеркало — растянутый образ, вогнутое зеркало — кривое изображение, и т. п., тогда перед ним предстанут тысячи различных и противоречивых лиц. Но поскольку перед этим он лицезрел образ своей возлюбленной, то он с легкостью отыщет знакомый лик среди этого многообразия, он распознает все лица, и во всех них узрит Его.
Мистик, идущий по пути духовного усовершенствования, на этапе ‘ирфанического опыта (стоянка Единобожия) видит Божественную Сущность в облике зеркала, а мир природы — разнородных образов, которые отображены в этом зеркале, не привнося в эту Сущность ни единичности, ни множественности, так как зеркало едино, а образов много. Но на другом этапе (стоянка истины)[1] каждая внешняя вещь воспринимается в качестве зеркала, которое отображает Сущность Бога, ибо зеркал много, но все они показывают один и тот же лик: «Поэтому мир природы — это не формы в одном зеркале, а единая форма в различных зеркалах»[2].
Выводы
[1] Под «стоянкой истины» подразумевается созерцание Всевышнего в Его Именных формах, то есть в живых существах. Созерцание Творца не скрыто от творений самим Богом.
[2]Ибн Араби. Фусус аль-хикам. С. 77.
225
«Единство Бытия» — это стержень учения Ибн ‘Араби. Он находит истину исламского единобожия именно в этой концепции, выстраивает ход своих мыслей в соответствии с ней и приступает к комментариям и объяснениям религиозных текстов. Соединение уподобления и несравненности в особом понимании Ибн ‘Араби было заложено именно на этой основе и получило распространение среди последователей концепции «единства бытия» (вахдат ал-вуджуд). На основе этого учения не только свойства и качества творений приписываются Богу, но и Сам Бог является этими творениями — правда, только в статусе богоявления и теофании (уподобление). Наряду с этим, Сущность Господа не только очищена и освобождена от качеств и свойств творений, но и — от каких-либо описаний и определений, и в результате остается всегда непознанной и неопознанной (и в этом проявляется Его несравненность). По мнению Ибн ‘Араби, именно это и есть истинное единобожие.
Несмотря на то что комментарии и объяснения Ибн ‘Араби к некоторым религиозным текстам являются предметов споров, критики и исследований, все же существует множество интеллектуальных доказательств и логических свидетельств в пользу концепции «единства Бытия» (вахдат ал-вуджуд).
Литература
Ибн ‘Араби, Мухйи ад-Дин. Мекканские откровения. Бейрут: Дар Садир, б. г.
Ибн ‘Араби, Мухйи ад-Дин. Трактаты Ибн ‘Араби. Бейрут: Дар Ихйа ат-турас ал-‘арабийй, б. г.
Ибн ‘Араби, Мухйи ад-Дин. Фусус аль-хикам / Ред. Абу ал-‘Ала ‘Афифи. Тегеран: Аз-Захра, 1987.
Изуцу Т. Суфизм и даосизм / Пер. Мухаммада Джавада Гоухари. Тегеран: Рузане, 1999.
Кашани, ‘Абд ар-Раззак. Шарх-е Фусус ал-хикам. Кум: Бидар, 1991.
Кайсари, Дауд. Шарх-е Фусус ал-хикам / Сост. Джалал ад-дин Аштиани. Тегеран: Научно-культурное изд-во, 1996.
Руми, Джалал ад-дин Мухаммад. Поэма о скрытом смысле / Отв. ред. и сост. Р. Николсон. 10-е изд. Тегеран: Амир Кабир, 1987.
Хорезми, Хусейн. Шарх-е Фусус ал-хикам / Сост. Наджиб Маил Хирави. 2-е изд. Тегеран: Изд. дом «Маула», 1989.
(перевод с персидского под ред. А. Ежовой)
226
 |
8 Часть 6 «Рассыпанное» и «собранное» в арабо-мусульманской культуре |

|
 |
8.1 Философия мусульманского Культурного духа* (М. М. Аль-Джанаби)[1] |

|
229
Оставаясь в рамках собственного культурного духа как источника самоинтерпретации и озарения, мусульманская культура оставила глубокий след во всемирной истории. Ее цивилизованность — это импульс ее постоянного творчества. Отсюда — ценность того, что мусульманская культура назвала «аль-гайб» (сокровенное таинство) в бытии и метафизике. Сакральное таинство для культуры не выходит за рамки исторического бытия, а является источником перманентной самоинтерпретации. Вместе с тем, мусульманская культура находила в нем смысл всякого возникновения и исчезновения, придавая метафизический, онтологический и моральный характер всему, что она говорит и делает.
Основные теоретические науки ислама, такие как юриспруденция (фикх), теология (калам) и мистицизм (суфизм), рассматривали сущее в качестве «написанной книги». Следовательно, мусульманская цивилизация достигла уровня, при котором она рассматривает себя и все в ней имеющееся в качестве слов на «Скрижали бытия», являющейся историческим воплощением «божественной скрижали,» т. е. она воспринимает собственное развитие в качестве главы в книге всемирной истории. Это восприятие вытекало из доминирующего в мусульманской цивилизации культурного духа. Именно поэтому она является единственной цивилизацией, название которой не связано с пространством, временем, национальностью или личностью. Поклонение (ислам) абсолюту, Единому трансцендентному Богу стало именем ее исторического бытия. Она идентифицировала свое видение со своим абсолютом, т. е. превратила свои чувства, разум и интуицию в части целого и через него прикладывала усилие ко всем областям жизни. Мусульманская культура усматривала во всем, что говорится и делается, свободное искание истины. Усомнившись в своих оценках, она не впала в бездну скепсиса, точно так же, как, превратив свое мнение
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 13-03-00414.
230
в рациональное усердие, она не впала в софистику. Это уравнение слагалось в процессе расцвета монотеистического кредо как формула справедливого порядка.
Сущностное значение порядка и справедливости в мусульманской культуре представляет собой единство логического и исторического в монотеистическом мировоззрении ислама. Следовательно, единство справедливости и порядка есть не что иное, как конкретная форма реального соотношения физического и метафизического, уравнение материального и духовного в бытии индивидуума, нации и цивилизации.
С самого начала своего существования мусульманская культура исходила из того, что источником всего сущего является Единый, справедливый Бог. Таким образом, все многообразие сущего есть благо, будь-то живое или неживое, природа или человек. Отсюда идея о необходимости наличия разных народов и языков. При этом Истина — одна, и Истинный — Один. Эта идея была воспринята исламом и в практическом плане. Он впитал ее в себя в качестве истинного представления монотеистического мировоззрения. На этом базируются выводы ислама о равенстве всех пророков монотеизма, ибо он видел в них представителей Истины и Истинного.
Идея о представительстве Истины и Истинного в мусульманской культуре содержала в себе единство истории и самобытности. Этим было обусловлено формирование культуры ислама и дальнейшее превращение мусульманской цивилизации в Империю культуры, в которой главенствующее место заняла история Истины, а не религиозные, этнические или национальные составляющие. История бесконечна и не имеет ни начала, ни конца, будучи историей Истины и Истинного. Мусульманская культура не видела во Христе христианина точно так же, как не видела в Моисее иудея, а изобразила их истинными представителями Бога (Единого). Все мусульмане «преданы Истине» и лишь отход от Истины приводит к разобщению. Пророки призывают не к разным религиям, а к Единому Богу. Бог един и Бог справедлив, история же не театр, а книга, прочтение которой и есть ее написание.
Этот вывод обусловил цивилизационную открытость и культурную самобытность ислама, и определил общий позиционный подход к усердному поиску во всем (независимо от непосредственного результата). Если поиск успешен, то вознагражден (ищущий) будет дважды, если нет — единожды, ибо «над каждым знающим есть всезнающий». Другими словами, достижение человека или культуры имеет
231
относительную ценность в силу того, что оно отражает опыт конкретного знания и действия. Отсюда идея самой культуры о «науках первых и последних». В «науки первые (или древние)» она включила все, что предшествовало исламу, рассматривая в них усердие поиска истины, ибо они — предтечи всех наук. В этом смысле эти науки есть усердие, содержащее истину и ложь, верное и ошибочное. Опыт народов и культур мусульманская культура переработала в собственных критериях оценок и действий. Это отражено в хадисе, гласящем: «мудрость — желанная цель правоверного». Мудрость есть истинное творчество и истина в любом творчестве. Отсюда вхождение мудрости Китая, Индии, Персии, Греции, Рима и других культур в искусство, литературу, теологию, философию, политику мусульманского мира, позже в качестве фрагментов или самих по себе сущих мудростей и в качестве разумных и приемлемых элементов самосознания. Не случайно поэтому книга «Калила и Димка» — не только изящный образец словесности, но и практическое руководство по этике и эстетике. То же можно сказать и о греческих философах, чьими идеями пронизано мусульманское творчество. Аристотель становится не просто философом, но и первоучителем, ал-Фараби — вторым, а Ибн-Рушд — первым Толкователем.
Другими словами, мусульманская культура в критериях собственного культурного духа превратила опыт предыдущих культур в собственный опыт, вводя их мудрецов в пантеон собственных мудрецов и учителей. Подобный подход мы находим и в отношении естествознания. Когда Ибн Аби Усайбиа (ум. 668 г. Х.) написал свою книгу «Око знаний», он исходил из того, что «все, к чему мы стремимся, делится либо на добро, либо на удовольствие. И то, и другое возможно лишь при наличии здоровья». Это привело его к выводу о том, что «несмотря на то что времена многих мудрецов-лекарей давно прошли, все знания о лекарствах, собранные ими и записанные в книгах, не теряют своей полезности, как не теряет добродетели труд учителя перед его учениками». Эта позиция характерна для мусульманской культуры по отношению ко всем видам опыта древних. Таким образом, включение совокупных достижений предыдущих цивилизаций в мусульманскую культуру было не механическим актом, либо одним из слоев, каким бы он не был «толстым», в здании мусульманской цивилизации, а культурным растворением в системе основных парадигм исламского монотеистического мировоззрения.
Мусульманский монотеизм формировал подобное себе государство, общество и цивилизацию. Халифат — не просто власть, но и
232
бытие, в котором реализуется мусульманское видение единства физического и метафизического. С исторической точки зрения первым мусульманам не было чуждо понимание царских, шахских, королевских типов государственности. Следовательно, халифат в первоначальном и идеальном типе представляет собой новое понимание политического преемства (хилафа) исторической миссии. В этом смысле халифат содержит в себе единство материальной и духовной истории. Все его функции заложены в перманентном следовании пророческой миссии как выражении Истинного (Бога). Оно выступает как фундаментальная парадигма общины в Коране и Сунне, которые являются источником законопроизводства и правового статуса халифа. Политика и правовой статус единства в халифате показывает, что данное единство имеет свою парадигму в Коране и Сунне как начале его возвышенной истории и свое продолжение в усердии осознания единства парадигмы разума и иджмы (согласование решение признанных юристов общины). Все это оставило свою печать на жизни и деятельности государства, общества и человека как частей единого целого.
Идеальный тип государства, общества и человека предполагает их объединение на основе фундаментальных принципов ислама. Синтез разума и иджмы наряду с Кораном и Сунной образует фундамент мусульманской культуры, являясь культурной формой физического и метафизического. Этим обусловлено становление системы материальной и духовной жизни мусульманской культуры. Коран и Сунны есть единство «божественного» (надысторического) и исторического. Оно осознано общиной в процессе ее восприятия возникающих нужд и интересов, который, как всякий культурный процесс, не мог проходить вне идейных и политических столкновений. Отсюда столько разнообразия в школах и направлениях, в том числе — и в фикхе. Дело в том, что господство так называемых основных суннитских толков фикха (шафиизм, маликизм, ханифизм и ханбализм), шиитских (джафаризм) и захиритских (эзотеризм) отражает лишь факт закостнения состояния мусульманской цивилизации и затухания ее культурного духа. Никто из корифеев фикха не стремился превратить собственные разработки в государственную систему, в правила регуляции общественной жизни. Наоборот, все они без исключения были против того, чтобы служить властям и властителям. Они служили государству посредством юридического обоснования (иджмы) правил, регулирующих общественные и частные интересы.
Мусульманское право (фикх), исходя из общих мировоззренческих принципов ислама, не могло абстрагироваться от государствен
233
ных и общественных дел, так как именно Коран и Сунна представляли собой источники судопроизводства. Интеллектуальное усердие в неподвластных государству областях общественной и духовной жизни стало импульсом, способствующим рациональному поиску решения разных жизненных проблем. Следствием этого является разветвление и многообразие охвата тончайших сторон общественной жизни при сохранении единства материального и морального подхода к ним. Ат- Табари (ум. 310 г. Х), например, приводит 27 различных юридических подходов к проблемам гарантий и доверенности, в которых он затрагивает реальные и вероятные варианты сделок и решений. Нечто подобное можно найти по отношению к сотням и тысячам проблем и сторон общественной жизни. Это естественно для всякой юриспруденции, однако особенность ислама в том, что она обусловлена парадигмами порядка и справедливости с присущими им онтологическими и метафизическими параметрами. Этим определяется статус фикха как науки об изменяющихся нуждах в системе справедливости. Фикх, таким образом, наука, которая не просто осознает и обосновывает ценности права в соответствии с изменяющимся нуждами, но и утверждает право и порядок. Т. е. свобода в нем — это усердие поиска, подчиненное осознанной необходимости, а утверждение в ней (свободе) есть подчинение порядку и справедливости. Отсюда — доминанта таких понятий, как наилучшее, наиполезное, дозволенное, желательное, должное и обязательное.
Единство порядка и свободы, или истины, и усердие поиска привело, путем борьбы фикхских, каламских и политических школ и направлений, к образованию «института» иджма и дальнейшей его трансформации в институт регуляции общественных и государственных отношений. Самым существенным в нем является то, что он выражает на юридическом уровне монотеистическое мировоззрение ислама. Исторически иджма есть соборность решений, аккумулированных в юридическом преодолении преград, встающих на пути противоборства разных вариантов подхода к тем или иным проблемам. Таким образом, она содержит в себе способ превращения первичных парадоксов во всеобщие аксиомы. Следовательно, всякий шаг по пути свободы есть шаг в сторону порядка. Когда мусульманская цивилизация в процессе своего развития включила в свою структуру права человека, она говорила о «правах мусульманина», а не о правах человека вообще. Т. е. она говорила не об абстрактном, стандартизированном «среднем» человеке, а о человеке, существующем и действующем в собственных рамках. Отсюда формирование основных прав человека путем
234
утверждения приоритета трех прав: право чести, личного достоинства; право неприкосновенности жизни; право неприкосновенности личного имущества. К ним присоединяется целая система правил морального поведения.
Мусульманская культура разрабатывала в основном коллективные право, а не государственное, охватывая отношения человека к человеку, индивидуума к общине. Ал-Газали (ум. 505 г. Х), собирая все то, что названо им «правами мусульманина», включил в эти права обязательное приветствие при встрече, непременный отклик на просьбу, посещение болеющих знакомых и соседей и участие в их похоронах. Эти права, по сути своей, есть морально-практическая форма отношения общины к самой себе от момента рождения до момента смерти ее члена. В их перманентности отражена система морального видения, которая лаконично изложена в хадисах: «правоверный в своей взаимной любви и взаимном милосердии как единое тело. Если в нем страдает один орган, то отвечает все тело пóтом и бессонницей» и «правоверный для правоверного как камни одного здания — друг друга держат». Истинный правоверный ни словом, ни делом не причинит ущерба другому правоверному. Это обусловливает такие моральные требования, «как скромность, незлопамятность, обязательность добрых поступков, запрет долгих преднамеренных разлук, порицание возмездия и реванша, соблюдение такта и деликатность, уважение к старшим, милосердие к младшим, отношение к людям в соответствии с их достоинством, запрет на использование недостатков правоверного, запрет на шпионство и доносительство, защита чести, достоинства, жизни и имущества мусульманина от посягательств, поддержка и помощь и др.». Затем ал-Газали дополнил эти права «правами соседства», в которые наряду с вышеназванными общими правами входят еще и права соседа, которые, независимо от его вероисповедания, предполагают не только не причинение ему обид, но и претерпевание от него неудобств (если таковые имеются), проявление милосердия к нему и разделение с ним радости и печали, прощение ему его ошибок. Далее идут «права родственников» и, прежде всего, «права родителей». Права эти предполагают доброе отношение к ним во всем при жизни и просьбу у них о прощении после смерти, выполнение их обещаний и заветов, уважение их друзей, точно так же как мягкое и сердечное отношение к детям. Тщательное их воспитание является правом родителей. Из изложенного выше явствует, что права человека это не просто констатация его интересов в религиозной и светской жизни, но и их моральное оформление по отношению ко всему
235
окружающему миру — от общего (правоверного, мусульманина) к частному (соседям) и к самому себе (родственникам). Это — моральная цепочка, которая дополняет правовые нормы и законы, разработанные разными школами фикха и регулирующие социальные, экономические и политические отношения.
Эту тенденцию мы можем наблюдать и в отношении к обществу. Основанием этого отношения является приоритет общины верующих и присущий ей дух коллективности. Общество представляет собой динамичное единство община-коллектив (Умма — Джамаа). Соотношение религиозной общины и коллектива соответствуют соотношению формы и содержания. Состояние общины зависит от духа коллективизма, который является разумной мерой, пропорцией, выработанной в процессе решения самой общиной основных материальных и духовных проблем своего существования. Соотношение община-коллектив и их пропорция обусловливают пределы свободы, определенные справедливостью. Отсюда действенность «правил» во всех областях и на всех уровнях жизни от мировоззрения до интимного поведения человека.
В мировоззрении были разработаны «основы догматики» по числу школ Калама. Мутазилиты, например, обосновывали свое учение пятью принципами: справедливость, монотеизм, посмертное воздаяние, промежуточное состояние, необходимость добрых деяний и сопротивление деяниям злым. На основании этих принципов они разработали разные варианты идеальных основ вероучения, призванных объединить общину, закрепить дух коллективности. У «людей хадисов и Сунны» также имеются разные варианты «основ вероучения», где детально собраны согласованные взгляды на различные проблемы — от метафизики до конкретных проблем политической истории халифата. Ашариты, более чем кто-либо, систематизировали различные варианты «основ вероучения». Так ал-Джувейни (ум. 478 г. Х.) написал труд «Проблески основ вероучения», где в популярной форме изложил принципы своей теологической философии. Это признание того, что мир — это все сущее, кроме Бога; мир разделяется на сотворенные субстанции и акциденции; Бог — это Творец, Вечный, Единый, Знающий, Могущий, Живой, Обладающий вечной волей; все происходящее, будь то полезное или вредное, угодно Богу; Бог виден, ибо он существует; Всякая вещь сотворена Богом; человек не принужден в своих делах, ибо он обладает волей, которая им присвоена; о Боге нельзя говорить, что он обязан или должен; Он посылает в мир пророков в качестве проповедников и вестников; чудо — это нечто,
236
не соответствующее естественному положению вещей; доказательство пророчества Мухаммада — Коран; праведных халифов было лишь четверо; халифат продолжался всего тридцать лет, а после него образовалась королевство; имам (властитель общины) должен обладать определенными качествами, т. е. он должен быть курейшитом, свободным в своем поиске, способным творить фетву, смелым, полноценным, быть свободным (не рабом) и благочестивым.
Существенный вклад в дело разработки основ вероучения внес ал- Газали. Он выделил четыре основных принципа, каждый из которых содержит десять основных правил. Первый принцип имеет отношение к различным аспектам божественной субстанции, второй — к атрибутам Бога, третий — к деяниям Бога, четвертый — к различным проблемам сунны («предания»). Что касается остальных направлений ислама (таких, как шииты, хариджиты) и различных социально-политических группировок (таких, как Братья Чистоты), то они также способствовали развитию общей тенденции свободного поиска, формированию общих забот и укреплению единства общины, ее коллективного духа.
Этот дух проявился в создании жанра назиданий. Назидания — это не менторско-высокомерная и снисходительная, а рационально-эмоциональная форма культурного опыта. Они содержат в себе совокупность разума и эмоций, их воспроизведение в воспитании индивидуумов и общества с помощью общих возвышенных ценностей. Этим объясняется наличие теологических, философских, мистических, литературных типов назиданий, каждый из которых имеет собственное видение, формулировки, конкретные задачи и цели.
Мусульманская культура в кораническом аяте «призывай к Господу твоему с помощью мудрости и доброго совета» увидела идеальный прототип назиданий, которые в дальнейшем нашли отражение в идее, гласящей: «совет есть воин из воинов Бога. Он подобен глине на стене — если затвердеет, то укрепит стену, если нет — то оставит след». «Мусульманская культура вырабатывала разные критерии, правила и назидания, такие как: «назидание людям предпочтительнее делами, а не словами», «у кого в душе назидатель, того Бог хранитель», «назидание столь же трудно, сколь труден путь старика в гору». Само назидание становится занятием, привлекательным для всех слоев общества: халифов, ученых, политиков, мужчин, женщин, старых и молодых. Это захватывающее занятие имеет своим истоком в превознесении ценности слова, его значения и последствий для морального духа общин. Отсюда — практическая мудрость, которая
237
гласит: «Не разочаруется тот, кто советуется», «Совет — ключ удачи», «Самомнение — путь заблуждения». Подобная оценка места и роли совета и назидания нашло свое отражение в похвале одного литератора в адрес визиря: «В его лице — тысяча глаз, в его рту — тысячи языков, в его груди — тысяча сердец». Эти тысячи выражают разнообразие видения, ощущения и интуиции, их единство в мудрости и добром слове.
Мусульманская культура поднимала значение совета и назидания до уровня пророческой сунны. Отсюда — хадис, гласящий, что «вера — это назидание во имя Бога, во имя Писания, во имя пророка для правителей общины и для масс». Назидание во имя Бога — это описание присущих Ему качеств, подчинение Ему внутренне и внешне. Назидание во имя Писания — это чтение и понимание его, защита его от нападок противников и обучение всех истинному его смыслу. Назидание во имя пророка — это воплощение в жизнь его Сунны практическими делами и моральными поступками. Назидание для правителей — это помощь им в выполнении того, что они призваны совершить, предупреждение их о тех, кто вредит интересам общины. Назидание для масс — это благосклонное отношение к ним, уважение к старшим и милосердие к младшим, а также помощь тем, кто в помощи нуждается.
Конкретизация этого общего подхода к назиданию нашла отражение в специализациях самой культуры. Они отражали, с одной стороны, характерные особенности разных дисциплин и направлений, с другой стороны — общие тенденции культуры, возвышающие значение целей назидания. Ведь назидание — это эмоциональная ткань разума самой культуры. Отсюда — его ценность для морального и эмоционального воспитания, правил хорошего тона. Оно содержит в себе воспитание принадлежности к своей культуре и разумных поступков. Не случайно его проникновение в разного вида знания и действия. Оно олицетворяет собой единство разума и эмоций как одну из важнейших парадигм мусульманской культуры. Поэтому оно имеет место в Коране, хадисах, им пользовались халифы, мутакаллимы, факихи, философы, судьи, политики, литераторы, поэты, историки.
Мусульманское назидание представляет собой выражение души и тела культуры в их попытках определения ценности возвышенных принципов. Оно включает единство физики и метафизики в «вечной формуле», каковой является история и природа, а вечное в ней — интуиция, дух и метафизика самой культуры. Отсюда — факт присвоения шиизмом и суфизмом назидания путем его персонификации в имаме
238
и шейхе с помощью выработки определенных правил поведения, призванных утверждать и воспроизводить сознательную причастность последователей к их духовным опорам. Шиизм, например, акцентировал в назидании принцип преемственности имамов как воплощения «вечной мудрости» ибо назидание само по себе есть воплощенный выбор мудрости. Истинный имам, как и шейх, воплощение выбора вечной мудрости, или божественного света. Крайняя шиитская секта хаттабитов, например, видела в имаме назидание Бога. Сам имам, в данном случае, есть ничто иное, как олицетворение мусульманского Абсолюта, в котором некоторые шииты — экстремисты видели мерило истины, добра, красоты, а в своих противниках они видели воплощение заблуждения, зла, уродства (как хариситов). Когда кисаниты (шиитская секта) говорят, что у них нет имама, что они ждут только мертвых, они подразумевают под этим ожидание «спасителей». В действительности их грядущие спасители есть образцы тех, кто не умирает во времени и не живет в пространстве. Этот парадокс дал шиизму возможность обосновать единство явного и сокрытого, говорящего и молчащего (у карматов), отсутствия и возвращения (у нумейритов). Имам персонифицирует в себе живое воплощение вечного назидания порядка и справедливости в их многообразии. Таким образом, доказательства и знамения превращаются в «доказательство времени» и «владыку времени». Это обусловливает ограниченность числа имамов во всех без исключениях сектах шиизма и неограниченность возможностей их «возвращения». Шиизм воплощает в себе невидимую мудрость, а именно — мысль, что все начинается с одного и «кончается» бесконечностью. Исмаилизм и имамизм, как самые крупные шиитские направления, являются наиболее обоснованным тому доказательством.
Шестому имаму ас-Садыку приписывается такой ответ на вопрос о том, кто будет седьмым имамом: «Я есмь суббота суббот, солнце времен и свет месяцев». Это значит, что седьмой имам воплощает бесконечный цикл постоянства и изменения. Цикл имамитов «заканчивается» в двенадцатом имаме. Последний — он же ожидаемый, последний — постоянно существующий, так как он воплощает в себе бесконечную возможность божественного назидания через персонификацию самого назидания в перманентное доказательство, превращающееся в возвышенный авторитет, нашедший свое отражение в именах и прозвищах самих имамов, подражающих 99-ти прекрасным именам Бога.
Суфизм пришел к тому же результату через воплощение назиданий в Путь, как единства постоянного и переменного, Стадии и
239
Состоянии (макам — халь), Истины и Пути (тарикат — хакикат), учителя и ученика (шейха и мюрида). Суфии разделялись в разработке и уточнении универсальных суфийских систем назидания для мюридов. У каждого шейха имеется собственное назидание мюридам в знании и действии. Можно сказать, что суфизм сам по себе является назиданием. Ибн-Араби (ум. В 638 г. Х.), например, видел в назидании «вечное Божественное Суждение». Если без назидания люди жили бы слепыми, то благодаря ему существуют и здравствуют люди, народы, государства и цивилизации. Такое осознание ценности назидания нашло свое отражение в ста девяти назиданиях «Мекканских откровений», охватывающих все стороны жизни человека в его стремлении к совершенству.
Такую же форму правил поведения вырабатывала мусульманская цивилизация для исполнения религиозных обрядов, этикета. Она детально и объемно разработала тончайшие движения тела и души не только по отношению к таким обязанностям мусульманина как молитва, пост, паломничество и закят, но и по отношению к его питанию, сну, умыванию, беседе, и т. п. Различные направления мысли и дисциплины, исходя из профессиональных традиций и интересов, искусно оттачивали эти правила, придавая им новые смыслы. Все это в совокупности привело к созданию некой системы одновременно и консервативной, и восприимчивой к изменению. Эта способность к самовоспроизведению является следствием содержания в ней единства материального и духовного, чувственного и рационального, полезного и морального начал.
На основании данных разработанных правил поведения человека мусульманская культура выработала разные варианты социальной этики. Ею был охвачен весь комплекс внешнего и внутреннего поведения человека дабы упорядочить компоненты человеческого бытия в мусульманском его понимании. Культура не обошла вниманием ни одну часть человеческого тела, ни одно движение души. Она заменила плоть и кровь мусульманина на культурную плоть и кровь, представив ему различные варианты реального и должного, явного и сокрытого, массового и элитарного во всех плоскостях существования. Культура определила параметры принадлежности человека к исламу в категориях «мусульманин» и «верующий (правоверный)». Каждая из этих категорий имеет внешнюю и внутреннюю, общую и особенную характеристики. Мусульманин являет собой необходимый минимум принадлежности к общине. Нечто подобное встречается во всем, что относится к телу и душе, во всех отраслях догматики, этики,
240
политики, из-за субстанциональности порядка в подходах культуры. Мусульманская культура — это культура порядка. Он основан на соразмерном единстве рационального (разум) и передаваемого (вера), накопленном в опыте мусульманской общины. Отсюда невозможность ее расчленения.
Мусульманская культура в процессе развития вырабатывала пропорции, эквивалентные основным компонентам собственного существования. Результатом этого явилось преодоление «духа противоречивости» между религиозной и светской жизнью, наукой и верой, индивидуумом и общиной, человеком и Богом, государством и обществом. Она превратила идеальный прообраз этих бинарностей в источник и критерии собственного поиска. Завершением этого упорядочивания духа стало образование культурной целостности.
Культурный монолит ислама означает не стандартизацию культуры, а скорее, разумные пропорции основных ее компонентов. Ведь самым существенным в мусульманской культуре является дух порядка. Порядок есть умеренность, основанная на справедливости. Это превращает справедливость в призму, в которой преломились социально-политические и этические ценности общины.
Приоритет идеи справедливости и порядка во всех теоретических и практических науках мусульманской цивилизации отражает прежде всего осознание самой культурной ценности пропорции. Ведь справедливость и порядок — это прежде всего пропорция. Это не просто необходимое и осознанное количество существования вещей, но и способ их взаимодействия и влияния. Она возникает и развивается соразмерно с тем, каким образом раскрывается соотношение физического и метафизического в культуре.
Многообразие форм мусульманской культуры и единая принадлежность к ней выражает, прежде всего, поиск разумной пропорции идеального порядка. Результатом этого поиска явилось создание собственных универсальных парадигм, господства духа пропорции и порядка, вследствие чего во всем утвердились основополагающие бинарности, способствовавшие построению «механизма» реализации умеренности (справедливости) и организации (порядка). В методологии познания мусульманская культура утвердила бинарность разумного и передаваемого, в образе жизни — бинарность религиозного и светского, в способе отношения с Кораном — бинарность объяснения и интерпретации, эзотерического и экзотерического, в фикхе — бинарность фундаментального источника и свободного поиска, свободного усердия и общего согласия признанных факихов. Эти и многие
241
другие бинарности способствовали созданию уникальной системы знания и действия мусульманского культурного духа.
Превращение основополагающих бинарностей мусульманской культуры в субстанциональные элементы творчества культурного духа представляет собой результат специфического решения исламом соотношения физического и метафизического в социально-историческом бытии индивидуума, общества и государства. Дело в том, что не каждая бинарность и парадигма или система бинарностей и парадигм способна творить чистый культурный дух. Под ним здесь подразумевается дух, который преодолевает и способен постоянно преодолевать этническое «начало», переплетая их в системе возвышенных принципов последовательного мировоззрения.
Основополагающие бинарности мусульманского духа исторически формировались как составляющая часть монотеистической системы, которая в свою очередь привела к созданию культурного монолита ислама. Через систему основополагающих бинарностей мусульманский культурный монолит постоянно корректировал дух умеренности в догматике, знании и действии, что привело к динамике единства и многообразия. Многообразие (в том числе, разногласие и противоборство), в силу присущего ему синхронного действия бинарностей, способствовало обоснованию идеальной пропорции наилучшего порядка.
Постижение культурной субстанциальности пропорции для идеального порядка приводит с необходимостью к возвышению знания, к единству средств и цели в знании и действии. Отражение этого единства мы находим в многообразии творческих усилий мусульманской цивилизации, ведь самобытное творчество это то, которое производится в критериях собственной культуры.
Таким образом, единство, стоящее за многообразием творчества различных направлений и дисциплин, вытекает из утвердившейся в самой мусульманской культуре системы умеренных пропорций. Другими словами, культура перерабатывает в своем движении элементы бунтарства и организованности, свободы и скованности, революционности и консерватизма как естественных и необходимых пропорций творчества — в поэзии, музыке, изобразительном искусстве и архитектуре. В поэзии мы находим типичные образцы светской жизни со всеми ее элементами, как у Абу Нуваса, благочестия и аскетизма, как у Абу ал-Атахийа , рыцарства и героизма, как у ал- Мутанабби, мудрости и скепсиса, как у ал-Маарри (ум. 449 г. Х.), или совмещение всего этого, как у Омара Хайяма.
242
В сказках «Тысячи и одной ночи» мы обнаруживаем единство противоположных проявлений жизни в ее исламско-культурном измерении.
В изобразительном искусстве отражается та же самая модель поиска идеального тождества физического и метафизического. Это особенно отчетливо видно в той роли, которую играют в нем точка, линия, буква. Точка и линия представляют собой начало и конец, конечное и бесконечное. Отсюда господство абстракции в мусульманской живописи.
Из вышесказанного следует, что претворение основных парадигм ислама в мусульманское бытие привело к образованию культурной целостности с характерной для нее свободой творческого поиска. Упорядочивание ее внешнего и внутреннего бытия показывает наличие пропорций, соответствующих имеющимся в этом бытии основным культурным парадигмам. Это привело к становлению творческого культурного духа, который создал подобный себе реальный и должный образец общины. Мусульманская община в ее должном варианте — «община середины». Эта серединность проявляется в стремлении к умеренности. Если «община середины» внешне представляет собой попытку преодоления крайностей в противоборстве с иудаизмом и христианством, то по-существу она преодолевает все типы крайностей по отношению к самой себе и Богу.
Мусульманское видение общины призвано было объединить всех во имя возвышенного принципа. Противостояние иудаизма и христианства считалось отходом от Истины и Истинного. Бог с точки зрения ислама есть Бог, Его посланники есть Его посланники, а не иудеи, не христиане, к кому бы они себя не причисляли. Следовательно, нет превосходства у одного над другим, точно так же как и нет разницы между ними. Не может быть превосходства у кого бы то ни было по принадлежности к религии и роду над другим иначе, как по степени его благочестия. Это и есть тот принцип, который ислам заложил в своем практическом монотеизме.
Таким образом мусульманская культура пришла к осознанию и обоснованию духовного единства религиозных общин. Наиболее полное воплощение этого подхода можно найти у Ибн-Араби и Абд- ал- Карима ал-Джили (ум. 832 г. Х.). Постижение культурной ценности духовного единства общины отражает прежде всего ее внутреннюю открытость. Она обусловлена в основном монотеистической системой ислама. С тех пор как объектом исследования стала нерелигиозная община, мусульманская культура искала в ней то, что
243
является разумным с точки зрения ее собственных критериев разума и морали. Когда ал-Бируни (ум. 440 г. Х.) суммировал собственные наблюдения о жизни и знаниях индийской культуры во всех ее областях, он искал в ней то, что является приемлемым или противным для разума. Отсюда и название его труда — «Удостоверение индийских идей как приемлемых, так и неприемлемых для разума». Он представил достижения индийской цивилизации в философии, религии и естествознании как крупнейшие достижения человечества, критикуя в ней то, что неприемлемо для разума. Разум, который возведен ал-Бируни в ранг высочайшего критерия оценки, является несомненно мусульманским культурным разумом. Дело в том, что культурный разум — это не чистый логический разум, а совокупность теоретического и практического опыта самой культуры. Следовательно, открытость опыту других культур предполагает культурную оценку их достижений. Разумеется, этот осознанный подход вырабатывался в течение многих веков развития исламского самосознания. Если опыт его светского отношения к другим цивилизациям — к выработке подхода, в котором критерием их оценки является наличие или отсутствие в них науки вообще и философии — в частности.
Мусульманская культура выработала в этом контексте пять основных подходов в оценке наций и народов. Первый — географический, второй характеризует особенности творчества, третий — определяет тип менталитета, четвертый — мировоззренческий, пятый — научно-философский. В первый она включила два типа. Один основан на разделении мира на семь регионов, в которых выделялось влияние географического фактора на формирование разнообразных национальных характеров, духа наций и их отражение в цвете кожи и языке. Другой основан на разделении мира на четыре стороны света: Восток, Запад, Север и Юг. Нации в нем разделяются по характеру и образу жизни. Что касается второго основного подхода, критерием оценки в котором является характеристика особенностей творчества, то он исходит из того, какой вклад внесла нация в общечеловеческую цивилизацию. Например, Ибн-Мукаффа (ум. 142 г. Х.) выделил четыре основных нации: арабская — люди ораторства и красноречия, персидская — люди этикета и политики, римская — люди архитектуры и геометрии, индийская — люди разума и колдовства. Ал-Джахиз разделял эту классификацию, добавив к четырем нациям пятую — китайскую (люди ручного ремесла и искусства), а римскую разделил на латинскую (люди высокого ремесла) и греческую (люди науки).
244
Другую классификацию ввел ат-Таухиди. Он выделил шесть наций: персы — люди политики и этикета, римляне — люди науки и мудрости, индусы — люди спекулятивного мышления и колдовства, тюрки — люди храбрости и воинственности, африканцы — люди терпения, труда и развелечения, арабы — люди верности, красноречия и ораторства. Третий подход разделяет нации по менталитету и основывается на признании двух его типов. Для первого характерно определение субстанциональных свойств вещей, суждение по критериям самости и истины и использование духовных ценностей. К нему принадлежат арабы и индусы. Для другого типа характерно определение природы вещей, суждение по критериям качества и количества и использование материальных ценностей. К этому типу принадлежат персы и римляне. Четвертый подход, критерием которого является мировоззрение, как у аш-Шахрастани, исходит из того, что каждая община по своему решает проблемы метафизики, социального и морального бытия. И, следовательно, есть религиозные и нерелигиозные общины. Что касается пятого подхода, то он нашел свое классическое отражение у Ибн Саида ал-Андалуси (ум. 462 г. Х.) в его труде «Разряды народов». Он исходил из того, что нации по своему человеческому началу едины, но различаются между собой в трех позициях, а именно: морали, облике и языке. Наиболее важными народами в истории, по мнению ал-Андалуси, были персы, халдеи (среди них — сирийцы, вавилоняне, евреи и арабы), греки (римляне, франки, джалалики, саклабы, русские, булгары), копты (древние египтяне, суданцы, эфиопы и нубийцы), турки (кимаки, хазары), индусы, китайцы. Все эти народы различались друг от друга степенью овладения науками и философией — в частности. Ученых наций, по мнению ал-Андалуси, было восемь: индусы, персы, халдеи, евреи, греки, римляне, египтяне и арабы. Другие нации не являются учеными, ибо не увлекались философией. Китайцы, например, являются величественным по количеству людей и занимаемых территорий, но их умение носит характер ремесла. Они до блеска оттачивают художественные и производственные навыки. Тюрки также представляют собой огромный народ, распространенный по всей Азии, однако для них характерно оттачивание физических данных и военного искусства. Причиной того, что нельзя причислять эти народы к ученым народам, является то, что они не используют свои мыслительные способности ради обретения мудрости и не обременяют себя изучением философии. Ал- Андалуси строил свой общий вывод о том, является ли данный народ ученым (культурным), или нет, в зависимости от соответствия трем
245
требованиям. Первое — необходимость постижения уровня говорящей души (теоретический разум) Второе — аскетизм и преодоление гневливой души. Третье — существенное место философии и естественных наук в самовоспитании и обучении.
Все это показывает, что общий ход развития исторического представления о народе (общине) все более сближается и в конечном счете идентифицируется с культурными элементами миропонимания, отвечающим основным принципам монотеизма. Дело в том, что исламский монотеизм в историческом и социальном смысле подразумевает также и единство человеческого рода. Единый Бог — истина, единая по сути, многообразная по воплощению. Многообразие есть благо, если оно подчинено добру и общему благу. Эта идея вытекает из принципа Корана, который гласит: «Мы создали вас разными народами, дабы бы познакомились между собой. Наиболее почитаем у Бога среди вас тот, кто наиболее благочестив». Другими словами, у многообразия своя естественная и историческая логика — как данное, а у возвышенного ее типа своя сверхъестественная и идеальная логика — как должное. Переплетение этих двух типов логики в исламском мировоззрении (т. е. в системе культурных парадигм) привело к выработке адекватного подхода к пониманию религиозных и светских общин.
Мусульманская культура допустила возможность гармоничного сосуществования двух подходов и оценок к себе и к другим, в которых нет места высокомерию и диктату. Это отчетливо видно на примере вышеизложенной классификации цивилизованных наций того времени. В этих подходах и оценках отсутствуют какие-либо иррациональные элементы. Скорее наоборот, в них подчеркивается, особенно у ал-Андалуси, что «неученость» отдельных народов является результатом слабости и неразвитости говорящей души (теоретического разума) и господства в них гневливой души. При этом подчеркивается способность всех народов преодолеть данный «естественный» недостаток — для этого им надо подняться до «сверхъестественного» уровня.
Этот гуманный пафос мусульманской культуры определил ее открытость, признание ею многообразия как блага. Когда она отождествляла одну нацию с каким-либо качеством, как, например, греков — с мудростью, персов — с политикой, китайцев — с ремеслом, тюрков — с храбростью, индусов — с разумом и колдовством, арабов — с красноречием, она пыталась оценить их по достоинству. Другими
246
словами, она пыталась показать многообразие их достоинств, тем самым, обосновывая ценность многообразия для человеческой истории.
Естественным поэтому является вывод ат-Таухиди о том, что у каждой нации имеются как добродетели, так и пороки, прекрасное и безобразное, совершенство и недостатки. Этот вывод отражает готовность мусульманской культуры допустить многообразие народов в ней самой, многообразие их качеств и достоинств. Открытость мусульманской культуры равнозначна осознанию ценности достоинств и добродетелей народов. Так она выработала и реализовала признание многообразия культур как блага и равноценности культур как всеобщего достояния.
Признавая многообразие в самой себе, мусульманская культура, тем самым, допускала его возможность вне себя. Следовательно, она допускает возможность общечеловеческой цивилизации с разными культурами. Истинная культура — это та, которая способна оценивать «других» в критериях разума и морали, та, в которой господствуют, как писал ал-Андалуси, добродетели теоретического и практического разума, а не сила гневной и животной души. Последние могут строить собственные «политические города и системы», подобно тому, что мы наблюдаем у муравьев. Однако это не цивилизации морального разума, который единственно выражает сущность рода человеческого как такового.
 |
8.2 «Рассеяние» в газелях Хафиза: поэтическая гносеология* (Н. Ю. Чалисова)[1] |

|
247
Тема статьи принадлежит к более широкой теме исследования образных конвенций классической персидской поэзии. Они уже достаточно давно попали в поле зрения специалистов, изучающих персидский поэтический канон, который регламентирует не только форму стиха (метрика аруза, система рифмовки, фигуры украшения), но и репертуар фондовых «идей» и «терминов поэтов» (maʻānī, iṣṭilāḥāt al-šuʻarā). Воссоздание традиционной поэтической картины мира как развивающегося целого и изучение динамики ее составных частей — прежде всего задача литературоведов. Однако не менее интересна более широкая, «культурологическая» перспектива, позволяющая увидеть конвенциональную образность как особое вычлененное смысловое пространство, некую совокупность когнитивных моделей, закрепленных в каноне и предписанных поэтам для создания авторских образов.
Каждая когнитивная модель, соединяющая некие базовые концепты в поэтическую идею (maʻnā), представала на протяжении веков в многочисленных авторских реализациях, заключающих в себе опыт поэтической гносеологии определенного аспекта мира, созданного творческим воображением поэтов и укорененного в литературной традиции.
Изучение поэтической образности в очерченной перспективе может пополнить наши представления о стратегиях организации смыслового пространства, а также о когнитивных интуициях, специфичных для культуры средневекового мусульманского Ирана и зачастую не проговоренных в философских сочинениях.
К числу универсальных в рамках классического канона моделей выстраивания поэтического смысла принадлежит со- и противопоставление состояний «рассыпаности» и «собранности» объекта описания.
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
248
Персидская поэзия содержит богатый материал, касающийся указанной оппозиции. С одной стороны, эта оппозиция уходит корнями в парадигматику староиранской культуры, которая хранится в культурно-языковой памяти иранцев. С другой стороны, она связана с представлениями о множестве и «приведении к единству», выработанными в лоне арабо-мусульманской интеллектуальной традиции.
Она представлена уже в самом арабском и персидском обозначении двух разделов «прекрасного слова»: naṯr, букв. «рассыпание», сочинение в прозе, и naẓm, букв. «приведение в порядок, нанизывание», стихотворство, т. е. упорядочивание или нанизывание перлов «рассыпанных» речей на нить метра и рифмы, подобное изготовлению жемчужного ожерелья. Та же оппозиция действует «внутри» системы жанровых форм поэзии, например — при описании типов газели. Газель именуется «рассыпанной» (parīšān, parākanda), когда в одном из ее бейтов воспевается красота друга, в другом дано описание весеннего сада, одни бейты посвящены назиданию, а другие — описанию вина. Соответственно, меняет маски и лирический персонаж, говоря то голосом влюбленного, то — умудренного наставника, то — участника пирушки. В «собранной» или «связной» (musalsal) газели, наоборот, все бейты нанизаны на нить одной темы (любовь, вино, пейзаж и т. д.), а лирические переживания принадлежат одному персонажу, хотя использованные поэтические идеи могут быть сколь угодно разнообразны.
Переходя к разговору о поэтических образах указанного класса, отметим прежде всего их необычайную распространенность в корпусе классической поэзии. Концепты parīšānī «рассыпанность, рассеяние» и parīšān («рассыпанный», «рассеянный», также синонимичные parākanda, āšufta) принадлежат к числу ключевых для поэтической системы в целом. Они присутствуют непосредственно или в составе композитов в большинстве лирических текстов. В образах «рассыпанности» поэты описывают некое особое состояние мыслей, чувств, слов, дел, судьбы человека, общины, государства, мира. Концепт parīšānī представляет большие трудности для перевода, поскольку ни один из русских аналогов не передает в совокупности специфичных для него компонентов значения. Переводы настолько различаются, что, просматривая издания персидской классики на русском языке, parīšānī часто невозможно даже опознать.
Лексема parīšānī имеет широкий круг словарных значений[1]:
[1] См. [Диххуда, сл. ст. Parīšānī], URL: http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-2c1fa47214d644d2b8c7fd9592c5ff07-fa.html.
249
а) физическое состояние вещей, соответствует арабскому tafriqa: разбросанность, рассеяние, разобщение; беспорядочность;
б) психическое состояние человека, соответствует арабскому ixtilāṭ, iḍṭirāb: беспокойство, волнение, замешательство, тревога, расстройство; разлад в душе, бессвязная речь; parīšānī-yi ḥavās «расстройство чувств» при этом толкуется как nā-jamʻī va tafriqa-i ḥavās, parākandagī-yi fikr «несобранность и разобщение чувств, разбросанность мысли»;
в) социальная характеристика человека: бедность, нищета; несчастье, злосчастье; беспорядок в жизни.
За примерами употребления образов «рассыпанного» можно обратиться к стихам любого классического персидского поэта. В задачу данной статьи входит анализ типовых поэтических идей, включающих концепт parīšānī, в персидской газели; в качестве материала выбран Диван Шамс ад-Дина Мухаммада Хафиза (ум. 1389), газели которого по праву считаются высшим достижением жанра (как уже сказано, и сами его газели прозваны в традиции «бессвязными» — parīšān). Цель статьи — соотнести представленные у Хафиза образы «рассеяния» с ситуациями «основного сюжета»[1] газели и наметить горизонт подразумеваемых оппозиций «рассеяния» (соединение, покой, счастье).
Тематическим ядром газелей Хафиза, при всей их политематичности, все-таки остается любовное чувство, и главные действующие лица в ней — это поэт-влюбленный (ʻāšiq) или, метонимически, его сердце (dil), возлюбленный друг (maʻšūq) и Любовь (‘išq)[2], нередко
[1] «Основной сюжет» газели — обобщенный лирический сюжет (basic fiction), с которым соотносятся образные «события» конкретной газели, канонизированная в литературной традиции совокупность взаимообусловленных ситуаций, тем и мотивов; основной пружиной развития поэтических событий в метасюжете газели является стремление влюбленного к встрече и единению с возлюбленным, см. подробнее [Хафиз 2012: 57—60]. Представление о наличии метасюжета существовало в самой поэтической традиции, о чем свидетельствует его последовательное изложение, например, в произведениях поэта Фаттахи (ум. 1448). В его поэме «Правила для влюбленных» (Dastūr-i ʻuššāq) или «Красота и Сердце» (Ḥusn va Dil), а также в краткой прозаической версии, рассказывается о перипетиях любви юноши по имени Сердце (Dil) к девушке по имени Красота (Ḥusn). История любви разыгрывается с участием таких второстепенных «акторов» газели, как Страж (ḥājib) и Соперник (raqīb), а также персонифицированных концептов (naẓar «Созерцание») и феноменов красоты (muža «Ресница», zulf «Локон» и т. д.).
[2] Поэтическое представление любви связано с теоретической разработкой темы, которая велась как в арабской, так и персидской традиции по трем направлениям: в светских книгах описывалась «естественная» любовь, влекущая
мужчину к женщине (ср. «Ожерелье голубки» Ибн Хазма), в философских сочинениях обсуждалась «интеллектуальная» любовь, движущая сила, влекущая каждую сотворенную вещь ввысь, на следующую ступень бытия (ср. «Трактат о любви» Ибн Сины), а в трактатах философов-мистиков преимущественно рассматривалась «божественная» любовь как стремление души человека, разлученной с предвечным Возлюбленным и заточенной в темницу плоти, к единению с Ним. Такие сочинения, как «События» (Саваних) Ахмада Газали, «Жасмин влюбленных» (Абхар ал-ʻашикин) Рузбихана Бакли или «Геммы мудростей» (Фусус ал-хикам) Ибн ‘Араби, оказали непосредственное влияние на формирование семантики мотивов любовно-мистической газели; известно, например, что ‘Ираки лично посещал лекции зятя Ибн ʻАраби, Садр ад-Дина Кунави, по «Геммам мудростей» и написал свои Лама‘ат, вдохновленный идеями «единства бытия».
250
персонифицированная и диктующая влюбленному правила поведения. В образах, принадлежащих этой теме, концепту parīšānī отведено важное место, поскольку он используется в описаниях как аспектов красоты любимого, так и состояния любящего.
Согласно метасюжету, которому следует и Хафиз, влюбленный жаждет удостоиться встречи и узреть возлюбленного. Любовь возникает в его сердце под воздействием красоты, которую Бог манифестировал в этом мире «становления и гибели», наделив ею свои создания. Прелесть тех, кто призван свидетельствовать о божественной красоте, принципиально неописуема и невыразима словом, при этом поэт-влюбленный нуждается в ее познании и описании. Соответственно, чем лучше и изобретательней описана красота объекта любви, тем более мотивированным предстает поведение безутешного и обезумевшего влюбленного. Описания феноменов красоты не просто «украшают» текст газели или иного лирического фрагмента, но являются в функциональном отношении главной «причиной» всех поэтических событий. Газель — это чаще всего стихи, написанные в ситуации разлуки, красота Друга скрыта от взора влюбленного по определению, ее нельзя увидеть, а можно лишь помыслить, используя силу воображения (xayāl). Более того, поскольку конвенция не допускала прямого привнесения в газель личного эмоционального опыта, но предписывала поэтам выражать его в парадигме идеальной любви, то и красота Друга концептуализировалась как идеальная, райская, принадлежащая тому миру, что стоит над материальным (ʻalam al-mulk) и именуется миром чистых форм (‘alam al-miṯāl) или, иначе, миром воображения (‘alam al-xayāl). Проникновение с помощью воображения в райский мир идеальной красоты, являющийся вратами к высшим ступеням бытия, и является целью поэта, ведущего речь об атрибутах красоты.
251
Красота возлюбленного друга в ее непостижимой «самодостаточности» пропорциональна страданиям, которые она причиняет влюбленным. Драматический контрапункт между райской, благой красотой и причиняемыми ею разрушениями в мире феноменального составляет одну из семантических доминант газельной образности. Райский аспект красоты воплощен в сияющем лике, а к числу ее наиболее опасных для влюбленного аспектов принадлежат скрывающие лик локоны, которые пребывают в состоянии parīšānī — разметанности, беспорядочного движения и, пленяя сердца, заставляют их трепетать.
Любовные мотивы жажды лицезрения объекта страсти и мысленного созерцания его красоты получили основательную разработку в мистической суфийской газели, а лирические «термины поэтов» (isṭilāḥāt al-šūʻarā) получили дополнительные, символические истолкования в «терминах суфизма» (isṭilāḥāt al-ṣūfiyya). В частности, локоны, о которых далее пойдет речь, считались «указанием» на множественность феноменального мира. Так, Шабистари (ум. 1320) в своем трактате «Цветник тайны» писал:
Каждая вещь, видимая воочию в [этом] мире,
Подобна отражению солнца того мира.
Мир подобен локону, пушку, родинке и брови,
Ведь каждая вещь на своем месте прекрасна.
Порой [бывает] проявление Красоты, а порой — Могущества,
Лик и локон суть примеры (miṯāl) тех смыслов.
Атрибуты Всевышней Истины — милость (luṭf) и гнев (qahr),
В лике и локоне кумиров — доля от тех двух[1].
Возвращаясь к Хафизу, отметим, что среди традиционных, да и современных комментаторов его Дивана есть сторонники однозначно лирического и приверженцы только мистического модуса понимания. Сама эта проблема находится за рамками статьи, здесь стоит лишь заметить, что Хафиз обращал особое внимание на ресурсы создания «полимерного» поэтического смысла, многозначность принадлежит к характерным чертам его поэтики, и он, безусловно, использовал специальные суфийские коннотации слов в своей поэтической игре.
Практически в каждой газели Дивана Хафиза один-два бейта отведены воспеванию феноменов красоты друга. Во многих случаях речь
[1] Шабистари 1880, с. 42 перс. текста, бб. 719—722.
252
ведется о локонах, с непременным обыгрыванием их беспокойного движения. Такие описания можно подразделить на несколько классов.
1. В ряде контекстов parīšān только упоминается как постоянный и общеизвестный атрибут локона:
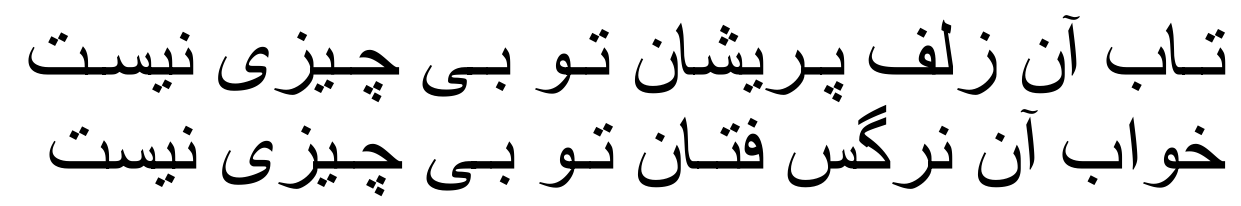
75:1[1]
Сон твоих нарциссов-смутьянов — неспроста,
Извив твоих беспокойных (parīšān) локонов — неспроста!
Здесь в описании кудрей возлюбленного, готовящегося к охоте на сердца, соединены два канонических свойства локонов — извив и беспокойство или «разметанность»: локоны изгибаются и приходят в беспорядочное движение (причиной чему служит дуновение ветерка) не просто так, а чтобы поймать как можно больше сердец. Подразумеваемая оппозиция «беспокойным локонам» — локоны в состоянии покоя.
359:2
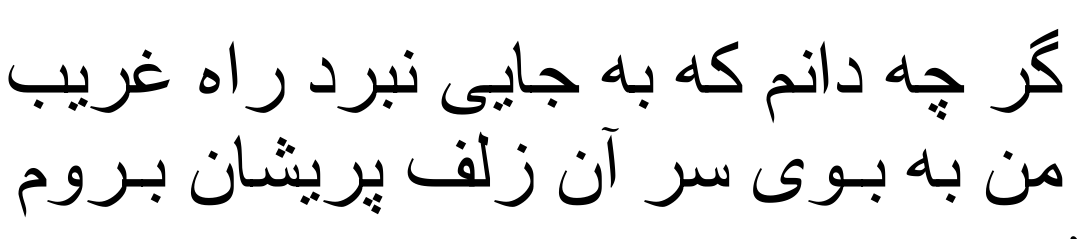
Хоть и знаю, что чужестранец не найдет дороги до места,
Все равно я иду в надежде на кончик того беспокойного
(parīšān) локона.
Лирический персонаж описывает себя как «чужого», еще не допущенного в круг «своих», не принятого в число истинных влюбленных, но уповающего на то, что «кончик беспокойного локона» снизойдет до его сердца.
70:8
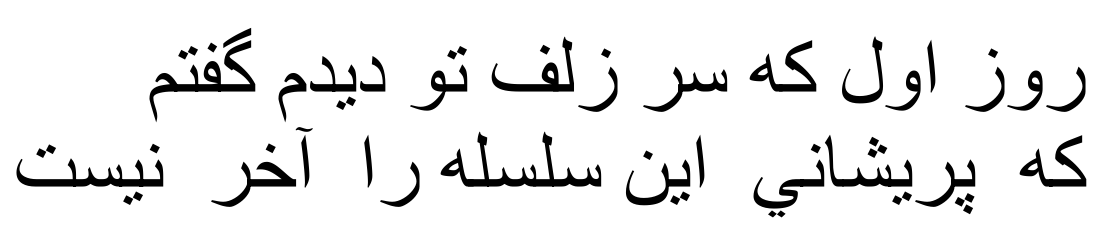
В тот Первый день, когда я увидел кончик твоего локона, я сказал,
Что не будет конца метаниям (parīšānī) этой цепи.
[1] Здесь и далее даны отсылки к изданию [Хафиз, Рахбар 1995], через двоеточие приведены номер газели и номер бейта.
253
Газель, которой принадлежит этот бейт[1], написана в ответ на газель Са‘ди «Есть ли такой, у кого в душе нет стремления к единению с тобой» (kī-st ān k-aš sar-i payvand-i tu dar xāṭir nīst)[2].
В бейте 8 сила любви лирического персонажа описана в терминах суфиев. «В тот первый день» — намек на первый день Творения, когда предвечная влюбленность и предвечное пьянство были вложены в сердце лирического персонажа. «Цепь» — стандартная метафора локона, также — череда, непрерывная традиция преемственности (в частности — в орденском суфизме). «Метания» — parīšānī, зд. также «запутанность» цепи, спутанность цепочек локонов, а также, во втором смысле — смятение череды приходящих на смену друг другу поколений влюбленных и — шире — бесконечная множественность феноменального мира. Бейт построен в горизонте суфийской оппозиции «единого», предшествовавшего дню творения, и множественного, рассыпанного тварного мира.
2. Более многочисленны в Диване контексты, в которых обыгрывается многозначность parīšān, за счет которой этот атрибут предстает как соединяющий физическое состояние локона и духовное состояние влюбленного:
273:2
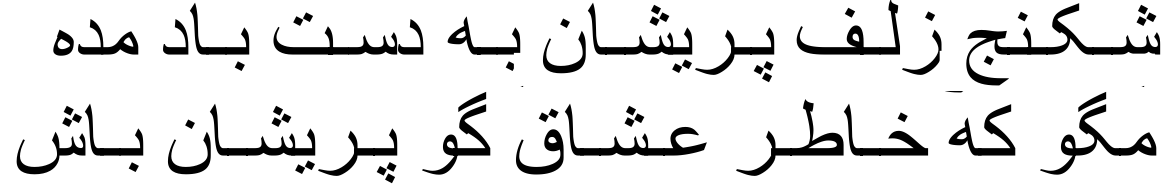
Не отдавай завитки разметанных (parīšān) локонов в руки ветра,
Не говори — пусть будут огорченными (parīšān) сердца влюбленных.
276:2
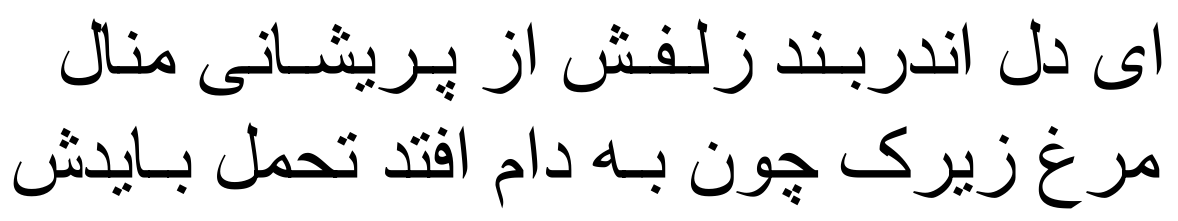
О сердце, в плену его локонов не стенай из-за смятения (parīšānī),
Коли попала в силки премудрая птица — ей нужно терпеть!
59:8
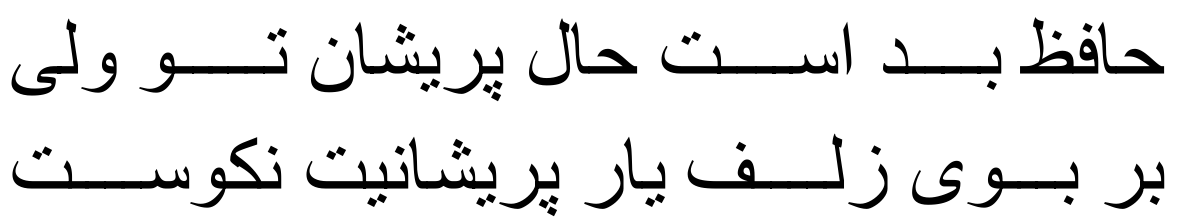
О Хафиз, плохо твое смятенное состояние (ḥāl-i parīšān), однако
В надежде на локон друга — смятение (parīšānī) тебе во благо!
«Смятенное состояние» — ḥāl-i parīšān, душевное состояние потерявшего разум влюбленного. «В надежде на локон» — bar būy-i zulf, букв. «пред ароматом локона»; значение «в надежде …» для bar
[1] Подробный комментарий к газели см. в [Хафиз 2012: 443—446].
[2] См. [Са‘ди, Куллиййат 1996: 458, газель № 115].
254
būy-i … отмечено в [Диххуда, сл. ст. Būy, рубрика Bar būy] и проиллюстрировано двумя примерами из Хафиза.
В комментарии Суди идея бейта передана так: тягостное состояние смятения из-за воспоминаний о локоне друга во благо тебе, Хафиз, ибо ты сам уподобляешься локону, а подобное стремится к подобному, и разлука закончится встречей[1].
3. Еще один тип контекстов, связывающих локон друга и состояние влюбленного — бейты, в которых parīšān стоит в оппозиции к majmūʻ «соединенный, собранный».
12:8
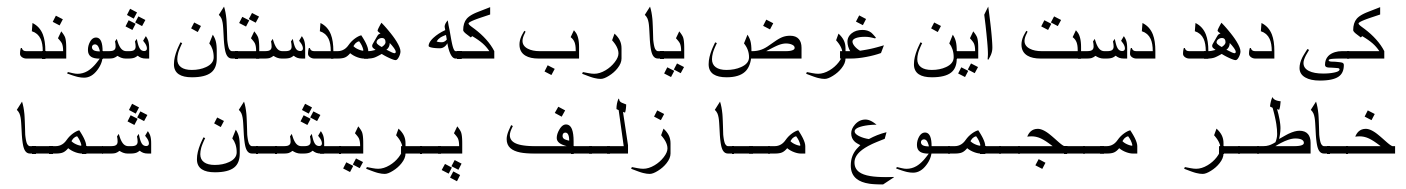
О Боже, случится ли такое, что достигнут согласия
Моя сосредоточенная душа (xāṭir-i majmūʻ) и Ваши рассыпанные
локоны (zulf-i parīšān)?
Газель написана Хафизом по поводу разлуки с покровителем, предстающим в образе прекрасного возлюбленного друга.
«Сосредоточенная душа» (xāṭir-i majmūʻ) — душа, «собранная воедино», полностью предавшаяся любви и потому оставившая метания. Влюбленность в газели обычно изображается как состояние смятения (parīšānī), а не спокойствия, хорошо разработан мотив cхожести души или сердца влюбленного и локонов возлюбленного по признаку смятения. Представление «мятущейся души» как сосредоточенной на любви или «соединенной» любовью — это новация Хафиза, но для нашего разбора важна сама выстроенная оппозиция: «рассыпанные», т. е. находящиеся в хаотическом движении, кудри и душа, «соединенная» чувством любви и тем самым обретшая сосредоточение и покой.
319:5
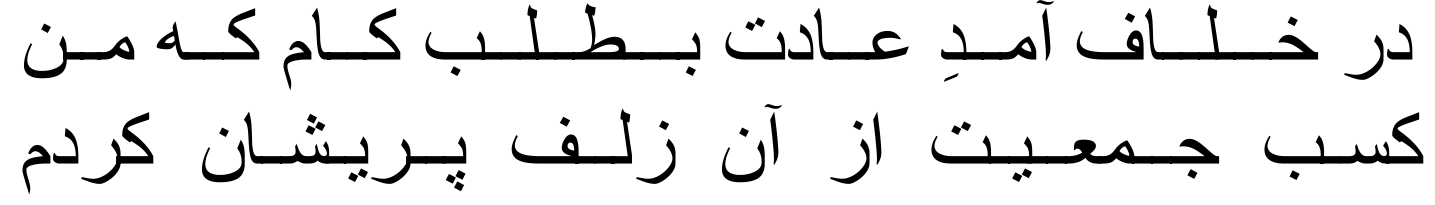
Ищи желанное, [следуя] наперекор обыкновению,
Ведь я обрел сосредоточение (jamʻiyyat) от того мятущегося
(parīšān) локона.
[1] См. [Суди: 385].
255
347:4
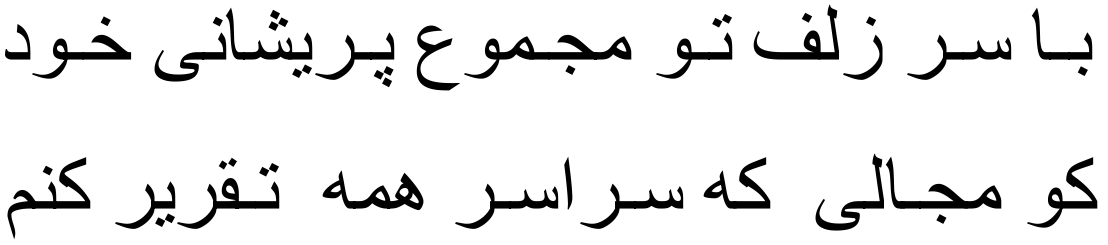
Cвое cредоточие смятения (majmūʻ-i parīšānī) пред кончиками
твоих локонов
Разве мне под силу изъяснить с начала до конца?
Средоточие смятения — majmūʻ-i parīšānī, т. е. (1) вся совокупность смятения и (2) «соединение рассыпанного», т. е. восстановление сосредоточенности. В образе представлена оппозиция «сосредоточенного» и «рассыпанного» как двух состояний влюбленного: полное сосредоточение на объекте любви и полное смятение чувств. Смысл образа: 1) мое смятение настолько превосходит «смятение» самих локонов, что я не смогу даже описать его для них в полной мере; 2) мое преодоление смятения и сосредоточение/успокоение на истинной любви я не смогу объяснить беспокойным локонам.
473:12
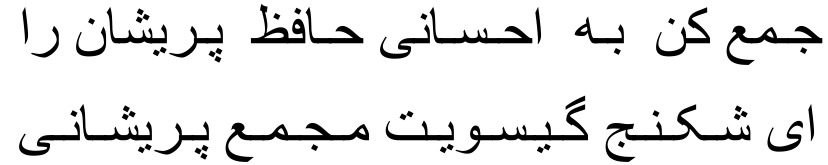
Исцели милостью (jamʻ kun) смятенного (parīšān) Хафиза,
О, извивы твоих локонов — целокупность смятения
(majmaʻ-i parīšānī)!
Согласно толкованию Х. Х. Рахбара, смысл бейта таков: «О друг, твои локоны — место скопления смятения сердец или совокупность смятенных сердец влюбленных, даруй смятенному Хафизу при помощи какого-нибудь доброго дела состояние сосредоточения и сердечного покоя!»[1]
474:6
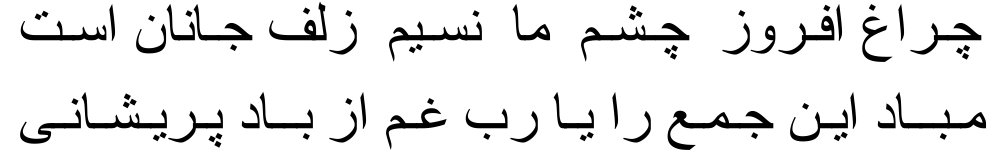
Дуновение от локонов друга зажигает светильник наших глаз,
О Боже, да не будет этой совокупности [сердец] (jamʻ) горя
от ветра рассеяния (parīšānī)!
256
Смысл бейта: дуновение от волос друга, в отличие от других ветров, гасящих светильники, зажигает светильник наших взоров (обостряет наше зрение), О Боже, пусть локоны друга, которые являются местом сосредоточения сердец влюбленных, не будут разметаны холодным ветром разделения и разлуки![2]
166:5
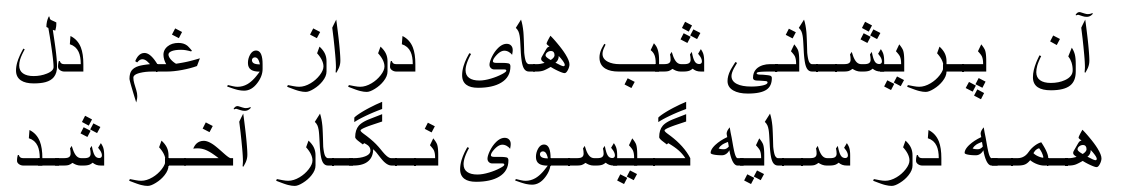
Это смятение в долгие ночи и печаль сердца —
Все пришло к концу под сенью кос прекрасного друга!
Смысл бейта: смятение сердца окончилось, т. е. оно обрело сосредоточение (намек на jamʻ), оказавшись в «разметанных» локонах друга.
«Рассеяние» представлено у Хафиза и в поэтических идеях, не связанных непосредственно с описаниями волос. Лирическим персонажем, от лица которого слагается газель, преимущественно бывает поэт-влюбленный; он изливает в стихах боль неразделенной любви и разлуки с другом.
212:8

В тот час, когда Хафиз писал эти рассыпанные стихи,
Птица его мысли уже попала в силок страсти.
«Рассыпанные стихи» — naẓm-i parīšān, намек одновременно на состояние «смятения», в котором влюбленный поэт слагает стихи, и на поэтическую рефлексию относительно своей творческой манеры — именно Хафиза упрекали за то, что он пишет в основном «рассыпанные» газели с разнотемными бейтами[3]. Здесь второй член оппозиции — упорядоченность, нанизанность бейтов на нить одной темы и одного лирического голоса.
Конвенциональным собеседником поэта-влюбленного, приносящим весть (аромат, благоухание локонов) друга, является утренний ветер.
[1] См. [Хафиз, Рахбар 1995: 646].
[2] См. [Хафиз, Рахбар 1995: 648].
[3] По легенде, покровитель Хафиза Шах Шуджаʻ однажды упрекнул поэта за его манеру писать «рассыпанные газели». В ответ Хафиз указал на то, что они рассыпались по всему Ирану, а «собранные» строки соперников остаются «собранными» в пределах Шираза.
257
88:3
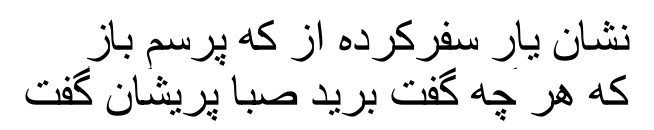
Кого спрошу о следах уехавшего друга?
Ведь все, что рассказал ветер-вестник, он рассказал «рассыпанно».
«Ветер-вестник» — это персонаж, наделенный способностью не только передавать вести, но и проникать туда, куда остальным доступ закрыт, поэтому он — единственный, кто может что-то знать о местопребывании друга. «Рассказал рассыпанно» — parīšān guft, т. е. рассказал сбивчиво, в переносном смысле также — «наговорил чепухи, бессмыслицы». Здесь наш концепт характеризует «дискурс ветерка», который говорит сбивчиво, так как несет весть о «беспорядочных локонах» друга; подразумеваемая оппозиция для «говорить неорганизованно» — «упорядочивать речь», нанизывать слова на нить смысла.
Целый ряд примеров демонстрирует использование атрибута parīšān в описаниях злой судьбы, связанной с несчастной любовью (и тогда — метонимически — обусловленной беспокойными локонами друга) или постигшей лирического персонажа от других причин.
23:4
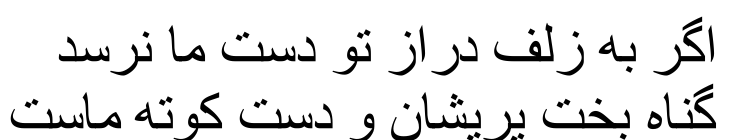
Если до твоего длинного локона не достает наша рука,
Виной тому — наша расстроенная (parīšān) судьба да короткие руки.
«Расстроенная судьба» — baxt-i parīšān, т. е. несчастливая судьба, злосчастье; определение parīšān, привычное для разметанных локонов, конечно, содержит намек на причину несчастий влюбленного (его сердце — в плену локонов друга), но подразумеваемой оппозицией для baxt-i parīšān как судьбы «расстроенной, находящейся в беспорядке», является уже не «соединенная», а «приведенная в порядок», счастливая судьба, без невзгод и несчастий – baxt-i nīk.
227:7
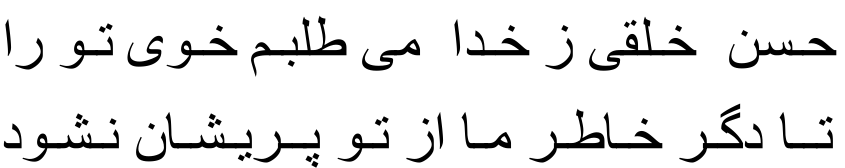
Я молю Бога [придать] твоему характеру благонравие,
Чтобы наши помыслы (xāṭir) не приходили из-за тебя в смятение
(parīšān našavad).
258
Здесь персонаж обращается к адресату газели (другу, под маской которого может быть скрыт покровитель поэта) с наставлением: прояви доброту к влюбленному в тебя и избавь его от тревоги и беспокойства (обыгран смысл композита parīšān-xāṭir «обеспокоенный, встревоженный»).
134:1
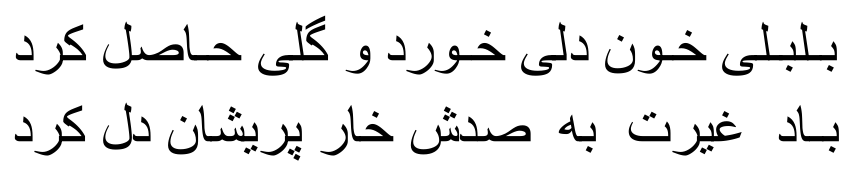
Соловей страдал — и обрел розу,
Ветер ревности сотней шипов превратил его в горемыку
(parīšān-dil kard).
Бейт — зачин газели-элегии, написанной поэтом на смерть сына. «Страдал» — xūn-i dil-ī xvard, букв. «выпил кровь сердца». «Ревность» — ġayrat, ревность Бога. Кушайри так определяет концепт ġayrat: «Обычай обращения Истинного, велик Он и славен, со своими друзьями таков, что, когда они заняты чем-то кроме Него или занимают сердце чем-то, кроме Него, он приводит это в расстройство для них, до тех пор, пока они не начнут поклоняться ему искренне»[1].
«Превратил в горемыку» — parīšān-dil kard, букв. «сделал его [наделенным] расстроенным сердцем», сделал его несчастным. Описывая свою скорбь из-за кончины сына, поэт прибегает к сложному образу, содержащему аллюзию к кораническому рассказу об Ибрагиме и приказе принести в жертву сына: соловей-отец со многими трудами вырастил сына, подобного весенней розе, любя его всем сердцем; осенний ветер ревности Бога шипами (порывами) разорвал в клочья его сердце, обрек его на несчастье.
470:3
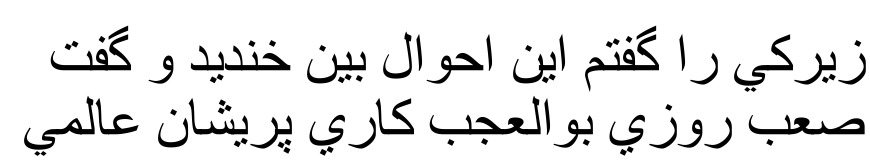
Я сказал искушенному мужу: «Смотри, что делается!»,
он усмехнулся и сказал:
«Тяжкие дни, странные дела, расстроенный (parīšān) мир!»
В контексте газели бейт может быть прочитан как жалоба влюбленного на разлуку. При этом использованный мотив принадлежит теме философской рефлексии — поэтических размышлений о мире и судьбе человека в нем. Атрибут parīšān служит здесь определением состояния
[1] Цит. по [Хуррамшахи: 551].
259
мира, полного бедствий и невзгод, мира, находящегося, в зороастрийских терминах, в состоянии смешения и нарушенной гармонии[1].
Многочисленные намеки на parīšānī как нарушение гармонии (при том, что само слово не упоминается, а лишь «загадывается») представлены в Диване Хафиза также в образах, противопоставляющих осень весне и старость — молодости, а намеки на parīšānī как потерю единства — в образах окружности и точки, циркуля и точки, однако их разбор — тема дальнейшего исследования[2].
В заключение вернемся к вопросу о культурных парадигмах, в горизонте которых могли возникнуть и получить распространение приведенные выше поэтические идеи[3]. Само описание состояния мира как «рассыпанного» или «смешанного» получило распространение в иранской культуре задолго до прихода ислама, в зороастрийскую эпоху.
Согласно Авесте, история мира делится на несколько эр. Эра совершенного Творения сменяется эрой «Смешения» (Гумезишн), на протяжении которой мироздание теряет полноту блага и становится несовершенным, поскольку к благу и добру Ахуры примешивается зло, привнесенное вторжением Ангра-Маинью. Злой дух и его воинство (девы) нанесли ущерб всему миру, а также породили все нравственные пороки и духовное зло, причиняя страдание людям и навлекая на них состояние «смешения». Общее предназначение людей и всех благих божеств состоит в победе над злом Ангры и восстановлении мира в его первоначальном совершенстве. По достижении этой цели „
[1] Именно такое значение концепта стало остро востребованным много позже, в гражданской лирике на рубеже XIX—XX вв. Поэт Шейбани (1825—1890) писал:
Друг в смятении и локоны в смятении,
Город в смятении и шах в смятении.
Поскольку дела времени все перепутались,
Люди иногда совершают мятежные поступки.
Все дела люди делали по принуждению, —
Вот и стали все сердца смятенными из-за принуждения!
Если трон не пришел в колебание, почему
Шах, сидящий на троне, оказался в смятении?..
(Пер. Р. Г. Левковской [Литература Востока
в новое время, М., 1975. С. 216]).
[2] Даннная статья является первой частью работы «Оппозиция “рассыпанное — собранное” в персидской поэтической картине мира».
[3]16 Проблема соотношения хафизовских образов «рассеяния» с образами, предложенными в стихах его предшественников, остается за рамками данной статьи.
260
наступит эра «Разделения», отделения добра от зла. Зло будет уничтожено окончательно, поэтому последняя эра будет длиться вечно. Ахура-Мазда, язата (благие божества), мужчины и женщины заживут в мире и спокойствии. В эру «Разделения» происходит возобновление эры «Творения»: «все язата и люди будут вместе... повсеместно будет, как весной в саду, в котором всевозможные деревья и цветы... и это все будет творением Ормазда» (Дадестани-Диниг. Ривайат XLVIII, 99, 100, 107)[1].
Таким образом, в иранской парадигме «смешение» в мире и в человеке как плохое, «рассыпанное» состояние противопоставлено приведению в порядок, отделению зла и восстановлению идеального райского состояния — вечной весны мира без холода осени и зимы и молодости человека без болезней, старости и смерти.
В мусульманской истории творения мироздание предстает как разворачивающееся из точки абсолютного единства («капли божественных чернил») во множественность феноменального мира. «Понимание способа связи первоначала и мира, единства и множественности […] составило основное содержание онтологии. Человек занимает “промежуточное” положение между первоначалом и миром и в этом смысле соединяет их [Смирнов 2013: 67]». В мусульманской эсхатологии также есть раздел о «новом творении», «пересотворении тел всех людей после конца времен» и грядущей жизни праведников в раю. Однако в поэтической образности, которая формировалась в большой степени под влиянием идей мусульманской эзотерики — суфизма, получили повсеместное распространение идеи о пути человека в жизни как пути искателя истины, конечная цель которого — не услады рая, а как раз «приведение себя к единству», состоянию обретения «непосредственного присутствия Истины» и полному растворению или исчезновению собственного «я» в Единственном, в Боге. Таким образом, множественность, «рассыпанность» и здесь — состояние «плохое», человек преодолевает его, стремясь к единению с Единым.
Материалом для данной статьи послужили только бейты Хафиза, однако в завершение приведу перевод газели Саиба Табризи[2], написавшего несчетное число стихов и представившего каждый из фондовых образов во всей полноте его возможных реализаций. Конечно
[2] Саиб Табризи (1601—1677), прославленный представитель «индийского стиля» в поэзии, провел наиболее активные творческие годы в Исфахане, при дворе шаха Аббаса II (1648—1666).
261
же, он отдал дань «рассыпанности», развивая, в частности, идеи, предложенные Хафизом. У него есть газели, в которых слово parīšān использовано как радиф, т. е. стоит на конце каждого бейта после рифмы (имеются и газели с радифом jamʻ «объединение»). Вот одна газель-parīšān[1], посвященная переживаниям героя в ожидании вести о неком благополучном или, наоборот, печальном исходе «противоборства со злодеями» (возможно — соперниками в любви). Она демонстрирует, что при помощи этого атрибута можно описать буквально все, происходящее с человеком в мире. Чтобы сделать понятными авторские образы, приходится в каждом из семи бейтов переводить parīšān разными словами:
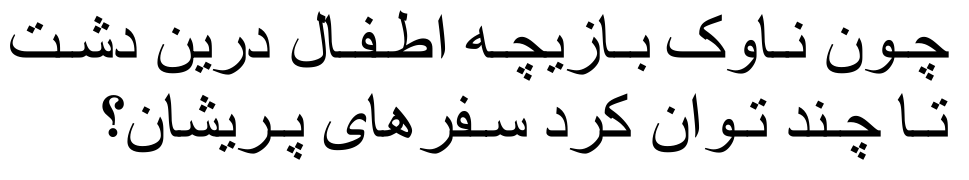
Бурный поток чувств — вот что такое блуждающие взоры,
Зерно тревоги — вот что такое бессвязные вести.
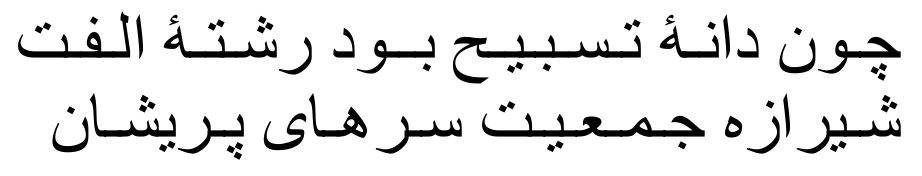
Как для бусин в четках, бывает нить дружбы
Тесьмой для объединения рассеянных голов.
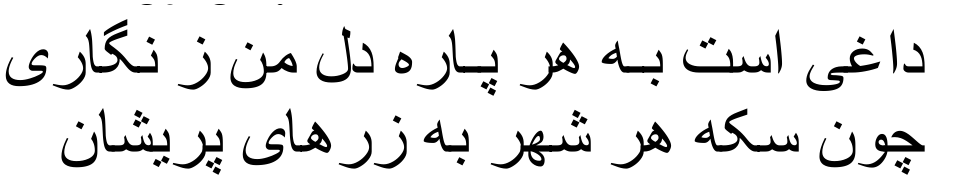
Клеймо в каждом лоскуте — таково мое сердце из-за некоего красавца,
Оно — как монета во всех городах, из-за рассыпавшегося золота [слез]

Из образа кончика твоего локона — мое состояние духа,
Смятеннее твоего локона — беспорядочные вести.
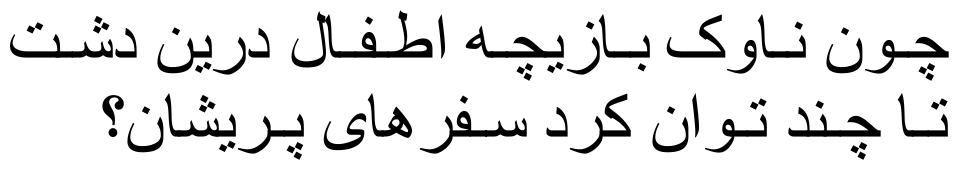
Подобно игрушечной детской стреле, в этой степи
Доколе можно совершать бесцельные путешествия?
262
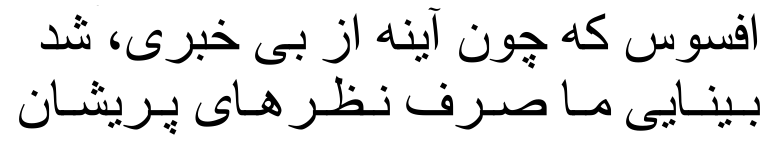
Жаль, что из-за отсутствия вестей превратилась, словно зеркало,
Наша прозорливость — в расход блуждающих взглядов.
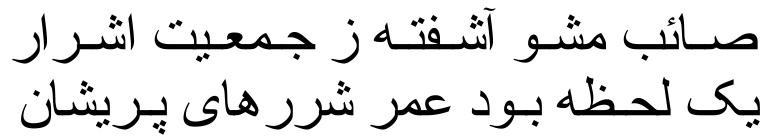
Саʻиб, не приходи в смятение из-за объединения злодеев,
Один миг длится жизнь взметнувшихся искр.
Анализ использования поэтического концепта parīšānī в Диване Хафиза как элемента традиционной поэтической картины мира позволяет сделать ряд наблюдений, как литературоведческого, так и культурологического характера. Концепт parīšānī оказывается устойчивым и универсальным выразителем смыслов как утерянного единства, так и «нарушенной гармонии» мыслях, словах и делах, замешательства в мире, судьбе человека, его разуме, сердце и речи.
В поэтических образах, основанных на концепте «рассеянного», проявляет себя ирано-арабский (и зороастрийско-исламский) литературный и культурный синтез (это проявлено даже на лексическом уровне, ведь парным оппозиционным термином для персидского parīšān регулярно оказывается арабский majmūʻ). Поэтическая картина мира в этом фрагменте не полностью совпадает с религиозной картиной мира. В смысловом пространстве бейта «рассыпанное» может соотноситься с соединением или единством, но также — и с восстановлением порядка, гармонии. Прекрасной иллюстрацией ирано-арабского синтеза в этой области служит материал, приведенный в статье М. Л. Рейснер[2]. Важный для меня и доказанный коллегой тезис состоит в том, что тема наурузиййа, т. е. описание весны как напоминания о сотворении Ахурой совершенного мира, в иранских касыдах могла выступать постоянным субститутом темы таухид, т. е. восхваления единства Божия.
«Фиксация» поэтов мусульманского Ирана на образности, связанной с «рассеянием», продемонстрированная в данном случае лишь стихами Хафиза, может свидетельствовать, в частности, о том, что иранская культура травматически переживает последствия арабского завоевания, установление эры ислама и переход от одного способа функционирования к другому.
[1] См. [Dorj-3], Диван Саʻиба; газели, ч. 9, № 19.
263
Литература
Бойс 1988 — Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / Пер. с англ. и примеч. И. М. Стеблин-Каменского. М., 1988.
Диххуда — ʻAlī Akbar Dihxudā. Luġat-nāma (čāp-i avval az dawra-i jadīd, jild-i 1-14. Tihrān, 1372/1993. URL: http://www.loghatnaameh.org.
Рейснер 2010 — Рейснер М. Л. «Утверждение единобожия» (таухид) в персидской классической литературе: от религиозного концепта к поэтической теме» // Вестник Московского Университета. № 4. 2010. С. 3—16. (Сер. 13. Востоковедение.)
Са‘ди, Куллиййат 1996 — Kulliyyāt-i Saʻdī. Muṭābiq-i nusxa-i taṣḥīḥ-šuda-i Miḥammad ʻAlī Furūġī. Tihrān, 1375.
Смирнов 2013 — История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А. В. Смирнова. М., 2013.
Суди — Muḥammad Sūdī Busnavī. Šarḥ-i sūdī bar ḥāfiẓ. Tarjuma-i duktur ʻIṣmat-zāda. Tihrān.
Хафиз 2012 — Пригарина Н. И., Чалисова Н. Ю., Русанов М. А. Хафиз. Газели в филологическом переводе. Ч. 1. М., 2012.
Хафиз, Рахбар 1995 — Dīvān-i ġazaliyyāt-i mawlānā Šams al-Dīn Muḥammad xāja Ḥāfiẓ-i Šīrāzī. Ba kūšiš-i duktur Xalīl Xaṭīb Rahbar. Tihrān, 1373.
Хуррамшахи год — Bahā al-ḏīn Xurramšāhī. Ḥāfiẓ-nāma. Šarḥ-i alfāẓ, aʻlam-i mafahīm-i kilīdī va abyāt-i dušvār-i ḥāfiẓ. Bazš-i avval va duvvum. Tihrān, 1378.
Шабистари 1880 — Saʻd ud-Din Mahmud Shabistari. Gulshan-i raz: the Mystic Rose Garden / The Persian text, with an English transl. and notes, chiefly from the comment. of Muhammad bin Yahya Lahiji, by E. H. Whinfield, M. A. London.
Dorj-3 — Dorj-3 CD. Electronic Library of Persian Poetry and Prose. Mehr Argham Rayaneh Co. Tehran [2007].
 |
8.3 Ранняя арабо-мусульманская историческая мысль и иудео-христианская традиция[1]* (В. А. Кузнецов) |

|
264
Формирование мусульманской историграфической традиции, происходившее на основе взаимодействия традиций более ранних, осуществлялось, с одной стороны, в рамках широкого процесса формирования общей ближневосточной арабо-мусульманской культуры, а с другой — в рамках процесса становления мусульманской государственности и связанных с ним политических перипетий.
Традиционное исламоведение и арабистика (отчасти, испытывая очарование собственно мусульманского историописания, отчасти из-за специфики профессионального образования) на протяжении очень долгого времени рассматривали мусульманские завоевания и образование халифата как некий Рубикон, перейдя который ближневосточные общества едва ли не полностью и одномоментно порвали с традиционным эллинистическим культурным наследием, и обрели его снова лишь несколько веков спустя, сознательно обратившись к переводам на арабский греческих памятников.
Однако на протяжении уже некоторого времени это мнение подвергается вполне обоснованной критике, и несостоятельность его была показана в целом ряде работ1. В самом деле, даже обычная логика подсказывает, что ни о каком внезапном разрыве традиций речи быть не могло — численность завоевателей была слишком мала, да и не было тогда еще никакой специфической мусульманской культуры, которую эти завоеватели бы могли с собой принести. Более
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
См. об этом: Cheddadi A. Les arabes et l’appropriation de l’histoire. Arles, Sindbad, 2004; Khalidi T. Arabic Historical Thought in the Classical Period, Cambridge University Press, 1994; Noth A. The Early Arabic Historical Tradition. A Source Critical Study. Princeton, New Jersey: The Darwin Press, 1994; Donner F. M. Narratives of Islamic Origins. The Beginnings of Islamic Historical Writing. Princeton, New Jersey: The Darwin Press, 1998 etc.
265
того — по большому счету, несмотря на новую религию и арабский язык, как показывают исследования, сами аравитяне вовсе не были чужды позднеэллинистической культуре, аккумулировавшей в себе античное наследие и иудео-христианскую традицию.
Так, Глен Уоррен Бауэрсок в «Hellenism in Late Antiquity» показал всю глубину укорененности эллинизма не только среди элит, но и среди широких масс сирийских обывателей в момент мусульманского завоевания, в том числе — и среди арабских племен, переселившихся на сирийские земли[1].
Вместе с тем раскопки, проводившиеся в 1970-е гг. ‘Абд ар-Рахманом ал-Ансари в городище Кариат ал-фав в Южной Аравии, дали представление о жизни киндитского государства, ранее известного только по нарративным источникам. Одна из обнаруженных в ходе этих раскопок фресок изображает коронацию горожанина Заки (судя по имени, араба) — церемониал, очевидно, греческого происхождения — εὐεργεσία (благодеятельство). Неподалеку от этой фрески были обнаружены свидетельства распространения культа греческо-египетского бога Гарпократа (одна из ипостасей Гора)[2].
Все это — частные свидетельства того, что в доисламский период эллинистическая культурная традиция создавала матрицу, через которую оказывалось возможным единение ближневосточных культурных традиций, включая иудео-христианские и доисламские арабские.
В дальнейшем — в период правления Омейядов и арабских завоеваний — именно вписанность арабской культуры эпохи Джахилийи в общий ближневосточный ареал облегчила взаимодействие завоевателей с завоеванным населением. При этом можно выделить несколько главных доминант, определивших характер развития Дар ал-ислам в конце VII в. и, особенно, в первой половине VIII в. Во-первых, это поиск и отстаивание собственной идентичности завоевателей на завоеванных территориях. Во-вторых, шедший с этим параллельно поиск универсальной идентичности, которая бы могла объединить если не все завоеванные земли, то все покоренные элиты в рамках единого культурно-политического пространства. Наконец, в-третьих, осуществлявшийся с определенного момента поиск моделей управления (своеобразного good governance — «хорошего управления»).
[1]Bowersock G. W. Hellenism in Late Antiquity. University of Michigan Press. 1990. P. 198.
[2] Ibid. P. 73.
266
В развитии этих трех процессов, проявлявшихся как в политической, так и (последние два) в культурной сфере, «исторический аргумент», пространства исторического сознания и социальной памяти занимали едва ли не центральное место, несмотря даже на то, что сама идея «истории» как особого направления человеческой деятельности (литературного или научного жанра[1]) в собственно арабо-мусульманской культуре еще не существовала[2].
Обращение к иудео-христианской традиции в политическом пространстве
Политическая модель Омейядов, несколько аморфная при Суфйанидах и чуть более выраженная при Марванидах, может быть охарактеризована как ксенократическая монархия, эволюционировавшая в сторону автократии и базировавшаяся на сочетании этно-племенных традиций и религиозной идеологии.
Конечно, нельзя доверять аббасидским историкам, описывавшим Омейядов как арабских царей, пренебрегавших религиозными обязанностями — в конце концов, они ими пренебрегали не в большей степени, чем сами Аббасиды. Тем не менее, как в образе жизни, так и в административной системе, омейядские правители широчайшим образом использовали арабские племенные традиции, сочетая их с традициями местными. Так, например Патриция Кроун в своей некогда нашумевшей работе «Slaves on horses: the evolution of the Islamic polity», анализируя систему управления в государстве Суфйанидов, отмечает, что ее принципиальным отличием от кочевых империй (напр. Монгольской) было широкое использование местных органов власти в условиях, когда у завоевателей уже была сформирована собственная идентичность, но отсутствовали представления о государственности. В то время как монгольская аристократия сама выполняла административные функции, арабское племя представляло собой инструмент непрямого управления, которое можно сравнить с системой, принятой в британской империи в XIX в. Обе они характеризовались сочетанием культурной толерантности
[1] Понятие «жанр» в этой статье используется вполне условно, как некий вид литературы, но не в строгом литературоведческом смысле.
[2] См. по этому поводу: Кузнецов В. А. Жизнь до рождения: история в средневековой арабо-мусульманской системе знаний // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2012. С. 184—211.
267
с экономической эксплуатацией. Однако арабское государство было племенным даже на уровне метрополии, и потому в то время как британцы использовали собственную администрацию для управления автохтонным населением, Суфйаниды действовали ровно обратным образом, используя местную администрацию для управления племенами завоевателей.
Для того чтобы осуществлять непрямое управление, необходимо было модифицировать племенную структуру, поскольку мелкие племенные группы (роды), действовавшие в условиях пустыни, оказывались неэффективными в новых условиях, а племена и племенные конфедерации были, напротив, слишком велики и неустойчивы. Новые объединения появились еще в 638 г. в Куфе, разделенной тогда на «семерки», а в 670 г. все гарнизонные города империи были уже разделены на кварталы по «пятеркам». Это деление, в основном совпадавшее с племенным, было одновременно и административным (использовалось при выплате пенсий и взимании налогов), и военным. Одновременно оно обеспечивало формирование новой региональной военно-политической элиты — ашраф, или ру’ус ал- каба’ил (главы племен), представлявшей собой некую переходную форму между доисламскими вождями и появившимися позднее чиновниками[1]. Ашраф формировали такие хорошо известные арабам институты как маджалис (советы старейшин) или вуфуд (делегации племен).
Кроме того, Суфйаниды педантично подчеркивали свою приверженность арабским ценностям самой стилистикой своего правления как на имперском, так и на региональном уровне — демонстративно простое обращение с подданными, любовь к пустыне, и т. д.
При этом на первых порах власть практически не использовала религиозные основания[2].
Для концептуализации анализа политических практик Суфйанидов (и вообще ранних средневековых арабо-мусульманских государств) довольно удобной представляется использование методологического
[1]Crone P. Slaves on horses: the evolution of the Islamic polity. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. P. 29—33.
[2] Нельзя утверждать, что этих оснований не существовало вовсе (в официальной титулатуре использовалось понятие «халифат-алла» и т. п.), однако они мало использовались. На немногочисленных политических документах этой эпохи иногда упоминается Аллах, но Мухаммад не упоминается ни разу. См.: Crone P. God’s caliph: religious authority in first centuries of islam. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 6—7, 24—25.
268
подхода, предложенного Александром Кожевом в «Понятии власти» (1942)[1].
Анализируя основания, на которых покоится легитимность власти, философ выделяет четыре ее типа. Эти типы — власть Судьи (справедливости), Господина над рабом (победителя, человека, способного принимать решения, в политическом смысле — в первую очередь, военного диктатора), Вождя, предлагающего новый проект (пророка, революционера) и, наконец, власть Отца (традиции, авторитета). Первые три типа были описаны соответственно Платоном, Гегелем и Аристотелем, истоки же четвертого, вероятно, стоит искать в религиозной мысли, хотя А. Кожев этого не указывает. Каждый тип власти, кроме Судьи, имеет свою временную направленность: Господин — настоящее, Вождь — будущее, Отец — прошлое. Идея же справедливости (Судья) обращена в вечность, и в этом отношении противостоит остальным трем.
Если рассматривать государство Суфйанидов в категориях методологии А. Кожева, то их власть была, главным образом, властью Вождя, поскольку арабские племена объединялись вокруг халифа, движимые желанием продолжить завоевания и участвовать в распределении завоеванных богатств[2]. Это также обращенная к настоящему власть Господина, причем не только для покоренных народов, которые ее воспринимали опосредованно — через местных ‘умара’ и ’ашраф, но и для арабской элиты, которая не смогла ее оспорить ни при первой, ни при второй гражданских войнах[3]. Гораздо слабее в этой политической системе элементы власти Отца (прошлое) и Судьи (вечность) — первая, по сути, еще не сформировалась, вторая же, хотя
[1]Кожев А. Понятие власти. М.: Праксис, 2007.
[2] Чейз Робинсон, вторя Патриции Кроун, характеризует суфйанидское управление как «laissez-faire патримониализм», разумея под ним, что Суфйаниды управляли мало и опосредованно (Robinson Ch. F. ‘Abd al-Malik. Oxford: Oneworld, 2005. P. 63). Фактически единственной гарантией сохранения их власти служила постоянная экспансия империи, позволявшая обеспечивать существование арабских племен (через выплаты пенсий, установленные еще ‘Умаром ибн ал-Хаттабом), практически не вмешиваясь в систему управления.
[3] Эти политические кризисы можно рассматривать в трех различных парадигмах. Первая и наиболее распространенная — религиозно-политическая, которая была принята средневековыми историографами. Вторая — также достаточно очевидная — социально-политическая, в рамках которой гражданские войны рассматриваются как борьба за распределение материальных и властных ресурсов. Наконец, основу для третьей парадигмы составляет анализ межплеменных отношений в Халифате. См. подробнее: Crone P. Slaves on horses… P. 30—36.
269
и существовала, но распространялась только на арабские племена, да и среди них не была бесспорной, свидетельством чему выступает вторая гражданская война[1]. Очень важно подчеркнуть, что слабость власти Отца и Судьи у Суфйанидов объясняется не слабостью династии, а ее молодостью, незрелостью политической системы, вынужденной использовать элементы систем, ей предшествовавших, примерно так же, как мусульманские завоеватели использовали римские колонны при постройке мечетей.
Таким образом, в политическом отношении обращение к какой-либо традиции — эллинистической, иудео-христианской, собственно исламской — было, в общем-то, бессмысленным и ненужным центральной власти. Вместе с тем, все они продолжали существовать на своем уровне по инерции, в принципе, не выходя за рамки более
[1] Впрочем, нельзя отрицать, что омейядские халифы были одновременно и верховными религиозными судьями — эта их обязанность обосновывалась кораническим текстом (38:25). При этом правительственные вердикты обретали силу источника права, свидетельством чему является существование хадисов о решениях Омейядов. В некоторой степени мусульманская юриспруденция, в том виде, в каком она существовала в ту эпоху, была халифской, поскольку использование иных источников права было затруднительно (большинство еще не оформилось, а в Коране не было конкретных юридических указаний), даже мединские правоведы обращались к авторитету халифа. На основании этого Е. Тиан и Дж. Шахт приходят к выводу, что раннее мусульманское право было, по сути, светским, поскольку решения правителей основывались на «внутреннем убеждении» и обычном праве. Эту точку зрения оспаривает П. Кроун, указывая на богоданность халифской власти и существование означенных хадисов. См.: Tyan E. Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam. Vol. 1. P., 1938—1943. P. 164.; Schacht J. Classicisme, traditionalisme et ankylose dans la loi religieuse de l’Islam // Classicisme et decline culturel dans l’histoire de l’islam / R. Brunschvig, G. E. von Grunebaum (eds). P., 1957. P. 17; Crone P. Slaves on horses… P. 44—54.
Последняя точка зрения представляется спорной. Даже если сами правители пытались представить себя как высших религиозных авторитетов, это еще не означает, что обществом они воспринимались именно так. Фикх еще не был оформлен, как и корпорации правоведов и богословов — фактически, у халифов не было инструментов для осуществления религиозного правосудия. Что касается ссылок на хадис, то, как указывает сама П. Кроун, его содержание стало рассматриваться именно как хадис в более позднюю эпоху (если он вообще не был выдуман), и соответственно характеризует современное ему восприятие власти.
Наконец, следует отметить, что образ правителя-судьи характерен вообще для ближневосточной традиции, в том числе и для общества джахилийи — как коранические айаты, так и омейядская практика могли трактоваться (и трактовались почти неисламизированным большинством населения) не в исламской, а в арабской (или в другой этно-культурной) традиции.
270
раннего их функционирования — разбросанные, они не составляли никакого единства.
Ситуация начала меняться в конце VII в. со спадом завоевательной активности и приходом к власти в Дамаске ‘Абд ал-Малика. Его широкомасштабные реформы, которые были призваны превратить «арабскую завоевательную политию»[1] в империю, несколько изменили положение дел, укрепив религиозную власть халифа, или власть Отца и Судьи, и заложив основы для использования иудео-христианской традиции в исламском историко-политическом дискурсе.
Начиная с ‘Абд ал-Малика Омейяды, продолжая позиционировать себя как правителей «милостью Божией», гораздо шире, чем их предшественники, используют религиозный концепт. Так, ал-Балазури приводит такие слова знаменитого наместника Ирака ал-Хаджжаджа: «Инна халифату-лла фи ардихи акрам ‘алейхи мин расулихи ‘алейхим» (Халиф Аллаха на земле Его любезнее Ему, чем пророк)[2], а в другом месте называет халифа «тенью Бога на земле»[3]. А знаменитый поэт ал-Ахтал в оде по случаю победы ‘Абд ал-Малика над аз-Зубайром (692 г.) называет своего патрона «Халифом Господа (= заместитель Господа. — В. К.), через которого люди молятся о дожде»[4]. В письме Валида II к гарнизонным городам, которое приводится у ат-Табари, говорится о том, что власть халифа — непосредственно от Аллаха, а не от Мухаммада[5]. Впрочем, нельзя утверждать, что отношение к Мухаммаду оставалось при Марванидах столь же прохладным, сколь оно было при Суфйанидах, однако обращение к его авторитету пока что играло второстепенную роль в политической идеологии[6].
Целью этого обращения было не выстраивание некой оригинальной концепции мусульманского государства, а создание паритета между христианством и исламом — там был Христос, здесь — Мухаммад.
Характерны в этом отношении два примера. Один из них общеизвестен — это Купол скалы, возведенный в Иерусалиме как раз в это время. И само строительство колоссальной мечети в «городе трех ре
[1]Robinson Ch. F. ‘Abd al-Malik… P. 81.
[2] Ал-Балазури, Китаб джумал мин ансаб ал-ашраф. Т. VI. Миср: Ма‘хад ал-махтутат би-джами‘а ад-дувал ал-‘арабийа, [б. г.]. С. 295.
[3] Цит. по: Robinson Ch. F. ‘Abd al-Malik… P. 91.
[4] Там же. P. 82.
[5] Ат-Табари, Та’рих ат-Табари. Т. 4. Бейрут, 1995. С. 224.
[6] В это время имя Мухаммада появляется на монетах, могильных камнях и в официальных документах, по крайней мере, египетских. См.: Crone P. God’s caliph… P. 25—26.
271
лигий», и упоминание в надписях на ее аркаде обоих имен были призваны упрочить осознание глубинной связи, существовавшей между исламом и христианством.
Другой — менее известный — пример — это фрески Кусайр ‘Амра, обнаруженные на развалинах дворцового комплекса на востоке Иордании, и относящиеся к тому же периоду[1]. Наиболее важная для настоящего исследования фреска располагается в правом крыле. На ней изображено шесть мужских фигур, согласно арабским и греческим (sic!) надписям изображающих римского Цезаря, персидского правителя Хосрова, последнего вестготского короля Испании Родерика и эфиопского негуса. Оставшиеся две фигуры принято соотносить с императором Китая и хазарским каганом. Остальная часть фрески посвящена сценам охоты и придворным развлечениям, в которых часто присутствуют женские (в том числе и обнаженные) персонажи. Греческие надписи позволяют идентифицировать аллегории Поэзии, Философии и Истории. «Шесть королей» протягивают руки к фигуре, изображенной в правом углу от них. Там мы видим восседающую на богато украшенном сидении женщину. С одной стороны от нее — прислужница, протягивающая ей, вероятно, веер, с другой — пожилой мужчина с палкой и в разукрашенной калансуве[2] на голове. Между женщиной и стариком — двое детей, один в простой калансуве, другой — в какой-то головной накидке или платке. Подпись под изображением гласит: «Победа Сары».
Гарс Фауден считает, что речь идет об арабо-мусульманской интерпретации Быт. 21:10: «…и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком», которую он обнаружил в латинском манускрипте VII в. Pentateuque d’Ashburnham[3]. Художник переносит акцент с жалобы на победу, с Авраама на Сару. Христианские авторы на протяжении многих лет и ранее называли арабов сарацинами, считая, что те стыдятся своего истинного происхождения от рабыни, на место которой ставят
[1] См. о них: Creswell K. A. S. Early Muslim Architecture. Vol. I. Oxford, 1969. P. 390—415. Grabar O. La Formation de l’art islamique. P., 1987. P. 68—71. Стародуб Т. Х. Исламский мир. Художественная культура VII—XVIII веков. Архитектура, изображение, орнамент, каллиграфия. М.: Вост. лит-ра, 2010. С. 68—70.
[2] Высокий головной убор, распространенный среди высокопоставленных сасанидских и омейядских чиновников.
[3]Fowden G. Empire to Commonwealth. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993. P. 152.
272
«мачеху» — Сару. При этом известно, что точно так же, как арабы стали возводить свое происхождение к Исмаилу, иранцы свое стали возводить к Исааку. Таким образом, с точки зрения Фаудена, эта фреска легитимизирует арабов в качестве потомков — через Исмаила — законной жены Авраама, и одновременно подчеркивает их близкое родство с иранцами, наследующими Исааку. Наконец, она предрекает победу Сары — то есть арабов — над шестью королями. Это не только военная победа, но и ключ к политической легитимизации и культурному синтезу.
Отметим, что образ Сары, и в самом деле, и ранее был чрезвычайно важен для ближневосточного христианства. Так, в Сирии Церковь называли «Домом Сары», даже в римской церкви V в. Santa Maria Maggiore есть мозаика, где Сара символизирует победу. Наконец, Сара — прообраз Богоматери и покровительница Византии во всей примитивной христианской ближневосточной литературе[1].
Таким образом, описанная фреска демонстрирует попытку «собирания» всех ближневосточных культур, вошедших в новое политическое и религиозное пространство, посредством использования изначально иудео-христианского исторического мифа.
Характерно при этом и другое — собирание осуществляется посредством установления генеалогического родства народов Халифата, что соотносится с арабской доисламской традицией и миропониманием в большей степени, чем с другими, поскольку роль генеалогии в племенном обществе аравитян оставалась гораздо более значимой, чем у соседних народов.
В целом же, подобное использование религиозного концепта Омейядами очень показательно. С одной стороны, пренебрежение авторитетом Пророка превращало ислам в некую монотеистическую религию, не имевшую ярко выраженных специфических черт, которая вполне могла бы стать «зеркалом» христианства. С другой стороны, эта трактовка позволяла с легкостью использовать в политических целях византийскую религиозно-политическую традицию, согласно которой «император, как пчелиная матка, получает власть по своему естественному происхождению, а значит, от Бога. Защитник власти — единственный, кто создан без господина, единственный абсолютно свободный, поскольку все остальные в большей или меньшей степени являются пленниками, он зависит на этой земле только от самого себя и правит на ней как абсолютный монарх, откуда и происходит его
[1]Cheddadi A. Op. cit. P. 28.
273
титул, — автократор»[1]. Впрочем, обращение к византийской административной традиции проявлялось не только в идеологической сфере, но и в сфере государственного строительства, куда активно внедрялись греческие элементы (такие как почтовое ведомство).
Таким образом, при поздних Омейядах «…власть над всеми вещами и во всех сферах, будь то религиозная (напр. определение догмы), политическая (назначение сборщиков податей), юридическая (установление наказаний за преступления) или военная (ведение кампаний), принадлежала “Халифу Господа”»[2], что, однако, совершенно не означало полного уничтожения этно-племенного элемента в политическом дискурсе. По-прежнему арабские племена получали свои пенсии, армия формировалась, хотя и по новому принципу, но также в основном из арабов, а любая оппозиция носила не только религиозный, но и трайбалистский характер. Показательно, что в уже цитировавшемся стихотворении ал-Ахтала десять бейтов посвящено восхвалению Бану Умаййа[3].
В целом же политическая структура государства Омейядов на всех уровнях представляла собой симбиоз этнического и религиозного, да иначе и быть не могло с учетом неразвитости этико-правовой базы исламского вероучения в тот период, с одной стороны, и постоянного давления традиций покоренного населения, с другой. Во второй половине своего девяностолетнего правления династия пыталась создать автократическую систему, в которой бы халиф обладал бесспорной легитимностью всех четырех типов власти. Этот проект оказался не вполне осуществимым, поскольку постоянное маневрирование между этно-племенным и религиозным, желание быть одновременно и лидерами арабской племенной конфедерации, и «халифами Господа» при сильной аморфности государственного аппарата не могло не привести в результате к социальному, этно-культурному и религиозному взрыву, каковым и стала «Аббасидская революция».
Становление нового, религиозно-имперского, мировоззрения проявлялось в попытках освоения эллинистической политической и религиозной культур. Создание «Жизнеописания Пророка», типологически схожего с христианской агиографией (см. далее), в той же
[1]Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 102.
[2]Robinson Ch. F. ‘Abd al-Malik… P. 87.
[3] Ibid. P. 82.
274
степени, что и строительство Купола скалы и учреждение византийских административных ведомств, знаменовало стремление подвести под ислам и ближневосточное христианство «общий знаменатель», который бы позволил развивать далее местные культурно-политические традиции на исламской платформе, однако не противопоставленной христианской, а скорее дополняющей ее. В свете сказанного выше эту попытку универсализации религии и власти надо рассматривать не как, хотя и продуманную, но выбранную произвольно политическую стратегию режима, но, в большей мере, как неизбежное проявление объективно существовавшего кризиса мировоззрения. Аргументом в пользу такого подхода служит тот факт, что освоение эллинистических культурных традиций затронуло все арабское интеллектуальное сообщество, невзирая на его отношение к правящему дому.
Обращает на себя внимание и тот факт, что противники Омейядов — старые элиты Мекки и Медины, Алиды и Аббасиды, рьяно использовавшие в своей борьбе исторические предания (как из-за собственной политической слабости в первое время (иного оружия не было), так и из-за слабости омейядской власти Отца), отказывались обращаться к иудео-христианской традиции. Если официальная идеология стремилась к универсализации ислама (путем «избавления» от Пророка), то оппозиционная, напротив, обращалась, главным образом, к проповеди Мухаммада и эпохе праведных халифов.
В результате мусульманская и иудео-христианская составляющие исторической памяти этого периода, использовавшиеся соответственно оппозицией и правящими элитами, оказывались более политически ангажированными, чем ее арабская (доисламская племенная) составляющая, в той или иной степени востребованная всеми политическими силами.
Существенным отличием развивавшегося после 750 г. «аббасидского» ислама от ислама «омейядского» была его подчеркнутая оригинальность, по сравнению с другими религиями: новые правители совершенно не стремились к «общему знаменателю» авраамистических верований, что подтверждается и структурой политической оппозиции этого периода — почти всегда религиозной, специфически исламской, но использовавшей элементы доисламских, главным образом, иранских верований. Вместе с переносом политической активности на Восток «собирание» истории в рамках политического дискурса стало осуществляться, главным образом посредством интеграции иранских и исламских традиций, притом что последние к этому
275
моменту уже в полной мере испытали иудео-христианское влияние. Кроме того, конфессионализация политического пространства вела к тому, что элиты халифата пытались переосмыслить древние ближневосточные (в том числе иудео-христианские и эллинистические) религиозно-философские традиции в исламской парадигме, чтобы затем использовать их, в том числе и в идеолого-политической деятельности. С этим связано широкое переводческое движение в начале IX в., появление (в зачатке) трех основных видов философствования (любомудрия) — калама (богословия), фалсафы (перипатетической философии) и суфизма.
Иудео-христианская традиция
в историописании VIII—IX вв.
К моменту появления ислама в ближневосточном регионе существовали уже в тесном взаимодействии несколько историографических традиций. Доминирующими среди них были иудейская, христианско-эллинистическая и персидская. В определенном смысле будущее арабо-исламское историописание синтезировало и развивало принципы отношения к прошлому, выработанные в лоне этих трех культур. Так, основной принцип историзма Мухаммада[1], выраженный в кораническом тексте, — взгляд на прошлое как на теофанию (Богоявление), был взглядом, по существу своему, иудейским — преобладающий мотив как еврейской Библии, так и пророческих айатов Корана — это мотив взаимоотношений Бога и человека. Однако если еврейская историческая память уже во времена Мухаммада полностью удовлетворялась священной историей и практически не пыталась выразить себя в каких-либо иных формах историописания[2], то для мусульманской уммы проповеди Мухаммада оказалось недостаточно: довольно скоро там появились и исторические биографии (агиографии), генезис которых А. А. Шеддади связывает с влиянием
[1] Под историзмом Мухаммада понимаются представления о течении и целеполагании истории, выраженные в проповеди Пророка.
[2] См. об этом: Йерушалми Й. Х. Захор: еврейская история и еврейская память. М.: Иерусалим: Мосты культуры: Гешарим, 2004/5764. С. 1—58. Вообще, средневековым еврейским интеллектуалам было свойственно презрительное отношение к историописанию – так, Маймонид, до тонкостей знавший мусульманскую философию, считал чтение профанных исторических книг «пустой тратой времени». Там же. С. 37. См. также: Baron S. W. History and Jewish Historians. Philadelphia, 1964.
276
позднего эллинизма[1], и династийная хронистика, в рамках которой получило развитие персидское культурное наследие.
По крайней мере, часть легенд, общих для Библии и Корана, на которые ссылался Пророк в своей проповеди, были не только известны арабам, но и считались вполне достоверными, правда интерпретация их была, по всей видимости, необычной для его аудитории. Совершенно неясно также, как эти более или менее известные и достоверные рассказы соотносились с родо-племенной коллективной памятью арабов: вполне может быть (хотя прямых доказательств и нет), что они рассматривались как некий вневременной (или удаленный в абстрактное «когда-то») миф[2], а заслугой Мухаммада была, среди прочего, их историзация.
Что касается тех форм знания о прошлом, что получили развитие в эпоху праведных халифов и ранних Омейядов, то они (по крайней мере, в той своей части, которая вошла в более позднюю мусульманскую историографию) формировались, в основном, в арабском этническом субстрате, и если составить приблизительный список ранних исламских знатоков прошлого[3] (специалистов по генеалогиям, знатоков хадисов, древнеаравийских преданий и т. д.), то среди них окажутся практически одни арабы[4], самой очевидной причиной чего была языковая неарабизированность завоеванных народов. С другой же стороны, уже ранние арабские знатоки прошлого усваивают древние ближневосточные тексты (прежде всего, библейские) и оперируют ими в своей деятельности. Так, например, согласно известной легенде,
[1]Cheddadi A. Les arabes et l’appropriation de l’histoire... P. 18—20.
[2] До некоторой степени такая трансформация ветхозаветной истории имела место в еврейской коллективной памяти (Йерушалми Й. Х. Указ. соч. С. 41—58). Учитывая специфику религиозной ситуации в Аравии и низкий уровень развития письменности, экстраполяция кажется правдоподобной.
[3] Стоит поостеречься использовать слово «историк» относительно этого самого раннего периода — не все знания о прошлом будут рассматриваться позднейшими авторами как история (та’рих).
[4] Можно назвать двенадцать наиболее известных знатоков прошлого этого периода: Вахб ибн Мунаббих (ум. 732), Абан ибн ‘Усман ибн ‘Аффан (ум. 713—733), ‘Урва ибн Зубайр (ум. 712), ‘Абдалла ибн Аби Бакр ибн Хазм (ум. 742—752), Мухаммад ибн Шихаб аз-Зухри (ум. 741), Мухаммад ал-Калби (ум. 763), ‘Асим ибн Катада (ум. 737), Муса ибн ‘Укба (ум. 758), Ибн Исхак (ум. 761), Абу Михнаф (ум. 774), Ибн ал-Хакам (ум. 764), Ибн ал-Мукаффа‘ (ум. 760). Кажется, из них только Вахб ибн Мунаббих и Ибн ал-Мукаффа‘ были не арабского, а персидского происхождения.
277
приводимой, в частности, Ибн ‘Абд ал-Хакамом в его «Завоевании Египта…», Пророк, толкуя некий сон Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса (ум. 683—697) — сына завоевателя Египта, в будущем наместника Египта и основоположника египетской исторической школы — сказал: «Ты живешь, читая два Писания — Тору и Коран!», и предсказание это сбылось[1]. Эта история, в которую для большей достоверности были привнесены мотивы толкования снов и пророчества, и подчеркнута связь героя с Мухаммадом, тем не менее, судя по другим источникам, правдива в том, что касается информации о высокой образованности ‘Абдаллаха. Так, ат-Табари, приводя выверенный иснад[2], упоминает несколько рассказов ‘Абдаллаха о Сотворении и деяниях Мусы, свидетельствующих, что Ибн ‘Амр ибн ал-‘Ас был знаком с Пятикнижием[3]. О его больших познаниях упоминают также Ибн Ханбал в «Муснаде» и Ибн Са‘д в «Табакат»[4].
Впрочем, пример ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса не уникален. По свидетельствам позднейших авторов с неарабскими историческими преданиями были знакомы также, к примеру, Абу ‘Убайд (возм. ум. 719/720), отчимом которого был иудей, ‘Абдаллах ибн Хубайра (660/661—743/744), передававший сведения об истории доисламского Египта, и, разумеется, Вахб ибн Мунаббих, чей рассказ о деяниях пророков (кысас ал-анбийа’), содержащийся в недошедших до нас ал- Мубтада’, стал базовым текстом для всех последующих авторов.
Стало быть, мусульманская историография, создававшаяся, по крайней мере, на первых порах, — именно арабами, и развивавшая арабские словесные традиции, в то же время с самых ранних пор воспринимала и иные, главным образом, иудео-христианские сюжеты и проблематику, причем воспринимала вполне определенным образом. Сравнивая кораническую и библейскую версии истории, она дополняла рассказ Мухаммада, заполняла очевидные лакуны, причем именно такое отношение к древним неисламским текстам явно воспринималось чрезвычайно позитивно. В этом принципиальное отличие раннего историописания от более поздней традиции, распространившейся приблизительно с конца Х в., когда обращение к текстам древних авторов (не только к священным текстам иудеев и христиан,
[1] Ибн ‘Абд ал-Хакам, ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Абд ал-Хакам. Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса. М.: Наука, 1985. С. 271.
[2] Иснад — цепочка передатчиков известия (хабар).
[3]Ат-Табари. Та’рих… Т. 1. С. 53, 157, 239.
[4]Бойко К. А. Арабская историческая литература в Египте VII—IX вв. М.: Наука, 1983. С. 32.
278
но и к тому же Вахбу, и именно из-за его благосклонности к библейскому повествованию) равно как и положительная оценка героев-
немусульман станут считаться неприемлемыми для историка[1].
Собирание воедино исторической памяти народов, проживавших на территории Дар ал-ислам, осуществлялось как при Омейядах, так и при ранних Аббасидах. Фактически, оно было завершено только в начале Х в.[2] Однако внутри этого периода оно прошло через два этапа — через деконструкцию (тоже — своеобразное «рассыпание») тех комплексных исторических картин мира, что существовали в доисламскую эпоху в каждой из взаимодействовавших культур, и через «собирание» их элементов в рамках единой сконструированной истории. При этом сама возможность такого «собирания» обуславливалась той специфической открытой исторической схемой, что была предложена в проповеди пророка Мухаммада.
В самом деле, принципиальное отличие исламской исторической парадигмы от иудейской и христианской состояло в форме теофании и, в конечном счете, вообще в понимании роли истории в восприятии Божественного Откровения. Богоявление в еврейской Библии проявляется в регулярно заключающихся бого-человеческих договорах, которые либо исполняются обеими сторонами, либо нет. Христианская теофания состоит в идее сущностной целостности Ветхого Завета — «детоводителя ко Христу», превращающей историю в монолог Бога, последовательно себя раскрывающего человечеству через систему прообразов[3].
В обоих случаях содержащаяся в Писании история необходима и достаточна для понимания Божественного замысла (в той степени, в какой его суждено понять человеку). История еврейского народа объясняет судьбу народа и определяет необходимость конкретного
[1] Об этом пишут и ибн ал-Асир, и ибн ал-Джаузи, и ас-Сахави: as-Sahawi, al-I‘lan bi-t-tawbih li-man damma ahl at-tawrih // Rosenthal F. A history of muslim Historiography / Engl. transl. by F. Rosenthal. Leiden: E. J. Brill, 1968. P. 336—337; Ибн ал-Джаузи, ал-Мунтазам фи та’рих ал-мулук ва-л-умам. Т. I. Бейрут: Дар-ал-китаб ал-‘илмийа, 1992. С. 117—119; Ибн ал-Асир, ал-Камил фи-т-та’рих. Т. I. Бейрут: Дар садир, [б. г.]. С. 2.
[2] См. об этом: Кузнецов В. А. Написать мир: структуризация прошлого в ранней арабо-мусульманской историографии // Диалог со временем. Вып. 21. М., 2007. С. 52—85.
[3] Справедливости ради можно отметить, что и в истории ислама ветхозаветные сюжеты и персоналии иногда рассматривались как прообразы событий и героев исламского времени. Так, история Моисея и фараона широко использовалась в антиомейядской шиитской пропаганде.
279
поведения в настоящем. История человечества определяет смысл миссии Христа и его великой жертвы. Все иные, не вошедшие в Писание и в Предание, рассказы о прошлом, таким образом, оказываются лишенными какого-либо сакрального смысла.
Однако в исламе не так. Богоявление в Коране — это регулярно посылаемые к человечеству пророки, чьи слова либо принимаются людьми, либо искажаются и забываются. Как и в случае с иудаизмом, речь идет о некоторой последовательности однотипных действий, которые могут быть определены именно как диалог Бога и Человека (в отличие от христианства, где Ветхий Завет — это фактически монолог Бога). Но диалог этот строится иначе, чем в иудаизме.
Во-первых, он не линеен и открыт для дополнений.
Во-вторых, знание его вовсе необязательно для веры.
В самом деле, если в иудаизме диалог строится как последовательное развертывание единой темы завета, то в случае с исламом речь фактически должна идти не об одном диалоге, а о потенциально бесконечном множестве однотипных диалогов. Посланники посылались к каждому народу (Коран, 16:36), и каждый раз их ждала одна и та же судьба. При этом знание о древних пророках хотя и помогало Мухаммаду в объяснении его миссии, но все же вовсе не является обязательным для понимания Божественного замысла — в общем-то, одного пророчества Мухаммада вполне достаточно.
Таким образом, исламская парадигма истории, прежде всего, орнаментальна: она выстраивается на тех же принципах, что и любой арабский декоративный орнамент, то есть посредством повторения и интерпретации одних и тех же простейших элементов. Это позволяет ее бесконечно дополнять все новыми эпизодами, вовлекая в пространство исторического бытия бесчисленное множество народов. Необязательность же истории для понимания веры фактически уравнивает значимость прошлого каждого из народов.
Орнаментальный характер исторической парадигмы, как мне представляется, является следствием специфически исламского миропонимания, во многом строящегося на сопряжении идей «рассыпанности» и «собранности» — прошлое человечества, в принципе, рассыпанное на бесконечное множество отдельных эпизодов, собирается не посредством единой сюжетной линии, как в случае с иудео-христианской традицией, но только посредством общего базового принципа, формы первичного элемента, общей идеи.
Возвращаясь к проблеме «рассыпанности» исторического знания в эпоху Омейядов и роли иудео-христианской традиции в развитии
280
раннего арабо-мусульманского историописания, нужно обратиться к проблеме формирования отдельных типов исторических сочинений, или жанрообразования.
Самые ранние исторические жанры — это сира и магази, существовавшие до определенного момента в неразрывном единстве, генеалогии — ансаб, кысас ал-анбийа — рассказы о пророках, а также фада’ил — рассказы о «преимуществах» той или иной страны. Кроме того, речь, конечно, может идти о хадисной литературе и, например, шиитских усул (ед. ч. — асл). Однако исключительно религиозная принадлежность этой литературы, по сути своей неисторической (не потому что она не рассказывала о прошлом (рассказывала, конечно!), но потому что смысл ее состоял во вневременной значимости ее содержания), заставляет нас отказаться от ее дальнейшего рассмотрения.
Что же касается других жанров — на этот раз чисто исторических, то, как это ни странно, каждый из них развивался таким образом, что в его рамках, точнее сказать, посредством его формировался определенный тип исторической идентичности, и в соответствии с этим — в каждом из них обращение к иудео-христианской традиции отличалось собственной спецификой. Общемусульманская идентичность — сира и магази. Ближневосточная идентичность — кысас ал- анбийа. Региональные идентичности — фада’ил и переводы местных историй, например, «Царские жития» ‘Абдаллаха ибн ал-Мукаффа‘ (ум. 760)[1]. Арабская идентичность — ахбар и ансаб, которые, впрочем, практически не испытали инокультурных влияний.
Начнем с фада’ил. По всей видимости, фада’ил и близкое к ним локальное историописание раньше всего начало развиваться в Египте (хотя строго говоря, и в доисламское время у арабов существовали фада’ил, только посвящавшиеся не той или иной стране или местности, а племенам[2]). Первенство Египта объясняется, с одной стороны, обособленностью этого региона, а с другой, — ранними тесными арабско-коптскими контактами. Вместе с тем, египетская история,
[1] «Царские жития» (ар. «Сийар ал-мулюк») — перевод среднеперсидского сочинения, посвященного Сасанидским шахам.
[2]Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. М.: «Вост. лит-ра» РАН, 2004. С. 57—60; Микульский Д. В. Арабо-мусульманская культура в сочинении ал-Мас‘уди «Золотые копи и россыпи самоцветов». М.: «Вост. лит-ра» РАН, 2006. С. 52, 61.
281
только появившись, аккумулирует в себе и местные, и арабские, главным образом, йеменские предания[1].
Появление первых элементов фада’ил в Египте было связано с фигурой уже упоминавшегося ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса. Помимо прочих его заслуг, ‘Абдаллах считается еще и автором «египтоцентризма», обозначающегося сегодня по-арабски как фир‘аунийа — «фараонизм». В одном из рассказов, ему приписываемых, рассказывается, очевидно, коптского происхождения, история о том, что, когда Аллах сотворил Адама, он явил ему мир, и тот увидел среди морей и гор, равнин и рек Египет — равнинную землю с рекой, которая питается от рая и на которую нисходит Божья благодать[2]. Другой знаменитый мухаддис, факих ал-Лайс ибн Са‘д (713—791), в своем дошедшем до нас лишь в пересказах сочинении Та’рих («История»), также основываясь на коптском предании, описывает Нил, текущий медом, и называет его одной из четырех райских рек, которые Аллах устроил на Земле[3].
В Египте же, отчасти в рамках литературы фада’ил, отчасти в рамках генеалогий-ансаб и племенных преданий, очень рано возникает идея генеалогического родства коптов и арабов, что позволило включить коптскую историю в историю арабскую.
Обращались к авраамистическим легендам и авторы йеменских фада’ил. В этом с самого начала во многом изолированном регионе описания достоинств страны тесно смыкались с местными доисламскими преданиями, генеалогической литературой и общей авраамистической мифологией. Самый видный представитель местной традиции — упоминавшийся уже Вахб ибн Мунаббих — не только суммировал и записал химйаритские предания, но и вообще первым попытался рассказать мировую историю, основываясь как на устных источниках, так и на мусульманском и иудео-христианских Писаниях. Впрочем, обращает на себя внимание тот факт, что если одни авто
[1] Так, Йазид ибн Абу Хабиб (672/673—745/746), введший в Египте широкое преподавание хадисов и права, рассказывает легенду о строительстве Александрии легендарным южноаравийским царем Шаддадом ибн ‘Адом. Бойко К. А. Указ. соч. С. 63.
[2]Ибн ‘Абд ал-Хакам А. Указ. соч. С. 168—169.
[3]Maspero et Wiet. La géographie de l’Egypte // Maspero J. et Wiet G. Matériaux pour servir à la géographie de l’Egypte // Mémoires publiés par les membres de l’Institut Francais d’Archéologie Orientale du Caire. Sous la direction de M. P. Lacau. Vol. 36. Premiere serie. Le Caire, 1914. P. 216.
282
ры высоко оценивали его образованность, то другие считали, что он «рассказывал побасенки»[1].
Следующим по возрастающей значимости влияния иудео-христианской традиции на историописание можно считать жанр сиры.
По мусульманской традиции основоположником жанра магази-сира считается Абан ибн Усман ибн ‘Аффан — собиратель хадисов, но вел ли он сам записи неизвестно. Термин же сира был введен Мухаммадом ибн Шихабом аз-Зухри, который четко структурировал свод сведений о жизни и деяниях Пророка[2]. В течение последующего столетия круг лиц, чьи биографии оказываются достойными того, чтобы их написать, значительно расширяется: сначала появляются сиры сподвижников Мухаммада и первых поколений мусульман, а уже в IX в. ал-Джахиз (ум. 869), которого, кстати, потомки будут называть историком, поставит себе задачей описать все социальные группы.
Важнейшим текстом этого жанра, хотя и вобравшим в себя не всю информацию касательно деятельности Мухаммада (ее сбор и систематизация заканчиваются, в основном, только к середине IX в.[3]), однако составившим основу для всех будущих авторов, касавшихся этой темы, становится «Жизнеописание Пророка» Ибн Исхака (ум. 767) и Ибн Хишама (ум. 828 или 833)[4]. К моменту написания уже первой версии этого труда в живых не осталось ни одного человека, непосредственно знавшего Посланника, вся его жизнь (в особенности ее первый — мекканский — этап) успела обрасти легендами, но если в работе Ибн Исхака еще, судя по всему, оставались некоторые сообщения, которые могли бы быть восприняты читателем неоднозначно, то сочинение Ибн Хишама от таких элементов уже полностью избавлено, правда они сохранены у ат-Табари, ссылающегося непосредственно
[1]Al-Duri A. A. The Rise of History among the Arabs. Princeton, Princeton University Press, 1983. P. 122—135.
[2]Al-Duri A. A. Op. cit. P. 27, 110; Микульский Д. В. «Золотые копи…» ал-Масуди и их место в арабо-мусульманской словесности // Ал-Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов. М., 2002. С. 24—25.
[3]Большаков О. Г. История Халифата. М.: «Вост. лит-ра» РАН, 2000. Т. I. С. 62.
[4] На первый взгляд кажется странным, что главным источником по жизни Мухаммада становится именно работа Ибн Исхака — по мнению многих, «слабого» передатчика хадисов и даже «лжеца». Вполне возможно, что причиной этому послужил выделяемый А. Б. Куделиным беллетристический элемент сочинения. Сира была занимательна для чтения, что, разумеется, способствовало ее популярности.
283
на Ибн Исхака[1]. В Сире отчетливо видно, как фигура Мухаммада становится центром притяжения, основным мерилом всей истории общины — она приобретает черты святости, божественности и озаряет своим божественным свечением окружающую действительность — людей, общество, государство.
А. Шеддади в уже упоминавшейся нами монографии “Les arabes et l’appropriation de l’histoire”, скрупулезно выделил черты сходства между «Жизнеописанием Пророка» Ибн Исхака/Ибн Хишама и позднеантичными биографическими сочинениями (bioi), прежде всего, Евангелиями[2], а затем показал принципиальную новизну интерпретации жанра bioi в Сире. (Стоит отметить, что на биографическую литературу в целом, очевидно, оказала влияние и персидская традиция, начиная с переводных «Царских житий» Ибн ал-Мукаффа‘[3]).
Если же говорить о влияниях bioi, то они прослеживаются в нескольких элементах:
1. Центральным элементом повествования является фигура главного героя. Все остальные персонажи, все события, упоминаемые места и т. д. обретают значимость прямо пропорциональную их роли в судьбе героя.
2. Структура повествования повторяет структуру, типичную для bioi. После пролога, посвященного предкам героя, рассказ строится хронологически, начинаясь с его рождения, за ним следует информация о его детстве, полученном образовании и воспитании, потом о его свершениях и, наконец, о смерти. Как и в bioi, эта линия периодически прерывается тематическими вставками, посвященными второстепенным действующим лицам или же лишь косвенно связанными с главным героем.
3. Основные элементы текста — те же, что и у bioi: клятвы, речи, притчи, анекдоты, пословицы, истории о чудесах, личные свидетельства. Есть, впрочем, и элементы специфически арабские, для bioi нехарактерные — иснады и длинные поэтические цитаты.
Таким образом, если в фада’ил восприятие иудео-христианской традиции было лишь косвенным — там речь, по сути дела, шла
[1]Крымский А. Е. История мусульманства. М.; Жуковский, 2003. С. 146.
[2]Cheddadi A. Op. сit. P. 187—227.
[3] О персидском влиянии см. напр. Arkoun M. Ethique et histoire d’apres les Tajarib al-Umam // Atti del Terzo congresso di studi arabi e islamici. Napoli: Instituto Universitario Orientale, 1967. P. 90—91.
284
не о ней самой, а о локальной исторической памяти отдельных народов, к ней принадлежавших, то в сире оно переходит на новый уровень — это прямое восприятие отдельных форм иудео-христианского историописания.
Наконец, в третьем из выделенных нами жанров — в кисас ал-анбийа’, речь может идти уже и о прямом восприятии иудео-христианских сюжетов.
Собственно говоря, начало этому жанру, в каком-то смысле, было положено еще Мухаммадом в так называемых «пророческих айатах» Корана. Эти стихи Писания, оказались одним из тех столпов, которые заложили основу (или позволили сохранить?) общую ближневосточную идентичность[1]. Однако в Коране доисламская история нигде не излагается связно — Мухаммад обращается к ней, что называется, «по поводу», когда ему надо аргументировать ту или иную мысль. В описываемый же период происходит определенная ее структуризация — обращаясь к иудейским и христианским Писаниям, мусульманские авторы выделяют и систематизируют интересные, на их взгляд, эпизоды.
Основоположником кисас ал-анбийа считается не раз уже помянутый Вахб ибн Мунаббих. Судя по сохранившимся цитатам из Мубтада’, можно предположить, что автор начал свое повествование с ветхозаветной истории, затем перешел к пророкам, упоминаемым в Коране, а после — к таким праведникам, как Лукман и семеро спящих отроков.
Существует мнение, что для мусульманских историографов весь доисламский этап мировой истории представлял собой некое единое, по большому счету, ничего не значащее пространство, которое им как-то приходилось заполнять. С одной стороны, это действительно так: поздние авторы считали обращение к этому периоду делом более или менее бесполезным[2]. С другой же стороны, доисламская эпоха имела огромное значение: лишенная четкой хронологии, жестких методов верификации сообщений, самого календаря, она не только предоставляла
[1] Другими основами были монотеизм, космология и эсхатология. В самом деле, для простых жителей, например, Сирии в момент ее завоевания ислам нес в нее мало нового: крайнее единобожие, какой-то проповедник из пустыни, называющий себя новым пророком, новые святыни, примитивный ритуал… А в остальном — все то же самое: Бог, Сотворение, Страшный суд, ангелы, авраамистическая картина прошлого… Не более, чем очередная секта.
[2]Ас-Сахави. ал-И‘лан би-т-таубих ли ман замма-т-та’рих. Бейрут, 1979. С. 48.
285
возможность для межкультурного взаимодействия, но также оставляла достаточно места для сферы чудесного и для включения в ореол истории прошлого немусульманских народов, что станет особенно актуальным с развитием географической литературы.
На следующем этапе развития арабо-мусульманского историописания (начиная со второй половины IX в.), когда оформлялась общая схема развития человечества, которая нашла выражение в хрониках всемирной истории, отдельно разрабатывавшиеся темы, сюжеты прошлого вдруг стали складываться в единую картину мировой истории, причем картину настолько хорошо прорисованную, настолько логичную и полную, что потомки, в большинстве своем, будут ее воспроизводить почти полностью, критикуя лишь отдельные — довольно редкие — элементы. Кисас ал-анбийа занимали в этой схеме, если не центральное, то чрезвычайно важное место, становясь стержнем. Вокруг которого выстраивалась вся доисламская история человечества.
Сопоставим в этой связи три наиболее ранние всемирноисторические хроники — Китаб ал-ма‘ариф Ибн Кутайбы, Китаб ал-ахбар ат-тивал ад-Динавари и Китаб ат-та’рих ал-Йакуби.
Философская и историческая мысль Ибн Кутайбы, как и вообще культура халифата IX в., синтезировала в себе наследие джахилийи (филология, история), раннего ислама (комплекс «арабских» наук), персидские традиции общественных отношений и административного знания, иудео-христианскую религиозную философию и эллинистический рационализм. Это видно по источникам, на которые он опирался. В их числе книги Ибн ал-Мукаффа‘ («Калила и Димна», «Китаб ал-адаб ал-кабир», «Сийар ал-мулук»), Аристотеля и псевдо-Аристотеля, чьи сочинения были переведены на арабский в начале IX в. под названиями «Китаб ал-хайаван» (возможно, тут были и заимствования из ал-Джахиза) и «Китаб ал-филаха», в основе которой лежала Геопоника Кассиана Басса (ум. ок. 550), а также ал-Джахиза (Книга о скупых).
Но самое любопытное, что помимо всего этого едва ли не важнейшим источником по доисламской истории для него были Тора и Евангелие — и это несмотря на тот факт, что сам историк был вернейшим слугой жестко настроенного в отношении зимми режима ал-Мутаваккиля, в правление которого занимал пост главного судьи Динавара. «Сказал Абу Мухаммад: я прочитал в первой из книг (асфар) Торы, что первым, что сотворил Всевышний Аллах было небо и Земля. Была Земля безвидна и пуста, и была тьма над пучиной, и дух
286
Аллаха носился над водой…»[1] — так начинается описание Творения в Китаб ал-ма‘ариф.
Далее, проявляя свойственный факихам педантизм, Ибн Кутайба скрупулезно приводит различные известные ему версии того или иного исторического события, в равной степени ссылаясь на Вахба и Библию[2]. Фактически его труд — первая дошедшая до нас попытка сопоставления источников по доисламской истории, правда сделанная без какой либо критики.
История Творения и пророков занимает в общем объеме книги Ибн Кутайбы всего приблизительно 6,8% текста, и еще около 6% занимает история доисламских царей (почти простой перечень), причем сведения о них хронологически и сюжетно увязываются с историей пророков.
Относительно последней автор обещает в предисловии рассказать о «начале Творения и истории пророков (кисас ал-анбийа)… об их временах и выдающихся качествах, их возрастах и детях, о разветвлениях их потомства, об их ниспосланиях в восточных и западных землях, на побережьях морей, в пустынях и горах, покуда не достигну времени Христа и эпохи после него»[3]
И действительно, автор педантично сообщает читателям о Творении и мироустройстве (1%), Адаме (0,49%), Шисе (0,08%), Идрисе (0,09%), Нухе (0,5%), его детях (0,16%), Хаме (0,08%), Иафете (ок. 0,01%), Саме (0,19%), Худе (0,08%), Салихе (0,16%), Ибрахиме (0,55%), Исмаиле (0,16%), Исхаке (0,55%), Исаве (0,08%), Йакубе (0,3%), Йусуфе (0,08%), Шу‘айбе, Бал‘аме и Хадре (0,1%), Аййубе (0,06%), Мусе и Харуне (0,21%), Ишмоил (ок. 0,01%), Талут (0,08%), Дауд и Сулайман (0,16%), цари Санджариб и Бухтансар (0,31%), Даниил (0,17%), Ша‘йа (0,14%), Хазкил (0,01%), Илйас (0,12%), Закариа (0,06%), ‘Иса и Йахйа (0,16%), Лукман (0,08%), Спящие отроки (0,03%), Зу-л-Кифл (0,02%), Джурджис (ок. 0,01%), Двурогий (0,02%).
Все упоминаемые здесь пророки встречаются в Коране и почти все — в Библии или христианских текстах (как Спящие отроки). Рассказывая о наиболее значимых из них автор неизменно опирается на библейский текст, едва ли не в той же мере, что и на коранический.
[1]Ибн Кутайба. ал-Ма‘ариф. Каир: Дар ал-ма‘ариф, [б. г.] С. 9. Ср. с Быт. 1:1—2.
[2] Там же. С. 9—12.
[3] Там же. С. 3.
287
Однако лапидарность сообщений о большинстве пророков показывает, что сообщения о них нужны Ибн Кутайбе исключительно для выстраивания общей хронологии доисламской истории — не случайно вслед за главкой о количестве пророков следует раздел о проблеме хронологии как таковой.
Одновременно видно, какие персоналии интересуют Ибн Кутайбу в наибольшей степени — это Адам, Нух, Ибрахим и Исхак — совокупно им уделена практически треть всех кисас ал-анбийа.
Гораздо меньшую известность, чем Китаб ал-Ма‘ариф получила примерно тогда же написанная Китаб ал-ахбар ат-тивал ад-Динавари, об авторе которой мы практически ничего не знаем. Несмотря на то что сочинение было известно потомкам, ад-Динавари никогда не называли историком, может быть, потому, что, как считает Ф. Розенталь, желая написать литературное произведение, он опускал иснады и вольно обращался с выбором источников. А может, дело в том, что он больше прославился другими трудами, по крайней мере, почти столь же вольное отношение к традиционным методам объективизации исследования не помешало считаться историком ал-Йа‘куби (см. далее).
Сама структура труда ад-Динавари создает некоторые трудности для вычисления того объема, который занимает в ней история пророков. Автор включил в свое сочинение синхронизированное изложение библейской, персидской и йеменской истории, затем, практически обойдя стороной Мухаммада, перешел к истории раннего ислама, в которой основное внимание уделял событиям, происходившим на персидской территории, а в конце кратко изложил правления халифов, располагая информацию по принципу династийной хроники. В первых же частях сочинения, посвященных доисламской истории, текст никак не рубрицируется.
В целом внимание автора сосредоточено на иранской и (в меньшей степени) на арабской истории, обращение же к кисас ал-анбийа, кажется, ему необходимо главным образом для выстраивания общей канвы повествования вокруг фигур пророков и их генеалогий, позволяющих вводить в текст рассказы о все новых царях и странах.
В отличие от Ибн Кутайбы ад-Динавари избегает прямых цитат из Торы, а приводящиеся им сообщения вполне универсальны как для иудео-христианской, так и для исламской традиции[1].
[1]Ад-Динавари. Абу Ханифа Ахмад бин Дауд. Китаб ахбар ат-тивал. Лейден: Матби‘а Бриль, 1888.
288
Наконец, Китаб ат-та’рих ал-Йа‘куби. Из всех трех означенных хроник — эта не только самая большая по объему (более 1100 страниц), но и наиболее проработанная в методологическом отношении. Сочинение начинается с рассказа о первородном грехе[1], который приводится в соответствии с христианской традицией. После этого автор говорит о пророках — Нухе, Ибрахиме, Мусе, Да’уде, Сулаймане, о семитских посланниках Аллаха, чьи имена, по мнению Д. Сурделя, были заимствованы из сирийского апокрифа «Пещера сокровищ», переведенного на арабский язык в VIII в.[2], и, наконец, об ‘Исе, жизнь и деяния которого (разумеется, за исключением распятия) описываются с опорой на текст Евангелий.
Следующая часть работы посвящена истории разных народов: сирийцев, вавилонян и индийцев, греков, римлян и византийцев, персов, китайцев и египтян, берберов, йеменцев, арабов в доисламскую пору и народов, живших на территориях Сирии и Асуана. Любопытно, что, в отличие, например, от ат-Табари или ал-Мас‘уди, не говоря уж о Ибн Кутайбе или ад-Динавари, автор здесь следует довольно строгой схеме: для каждого народа он приводит список правителей, рассказывает о его религии и технических достижениях. Автор пытается связать историю отдельных народов с историей пророков. Показательны как параллелизм изложения, так и стремление осветить наиболее значимые достижения каждого из описываемых народов — в конечном счете, создается впечатление, что, согласно авторской концепции, доисламская история представляла собой совокупность историй развития разных народов, каждому из которых суждено внести свою лепту в цивилизацию ислама. В изложении историй разных народов автор демонстрирует, что самый интересный аспект общественного развития для него — культура. Так, например, говоря о календарях римлян и персов, он обращается к астрономии, а при рассказе об арабах отдельные разделы посвящает хакимам и поэтам[3], также он прилагает списки ученых (в первую очередь, факихов) к правлениям различных халифов, в особенности до ал-Ма’муна.
Что касается разделов, посвященных доисламской истории, то в целом они занимают около трети всей хроники, однако известиям о пророках посвящено не более 6% сочинения. Интересно, что
[1]Ал-Йа‘куби. Та’рих. Т. I—II. Бейрут, [б. г.]. Вероятно, в работе было еще и предисловие, однако оно не сохранилось.
[2]Sourdel D. Les civilisations passées vues par deux historiens musulmans // Revue des études islamiques. Vol. LV—LVII. P., 1987—1989. P. 312.
[3]Ал-Йа‘куби. Указ. соч. Т. 1. С. 299—300, 304—313.
289
не только сам список упоминаемых персоналий у ал-Йа‘куби несколько отличается от списка Ибн Кутайбы (не говоря уж о лапидарном ад-Динавари), но и наибольший интерес у него вызывают совершенно иные герои. Так, 4,5% всего произведения он посвящает рождению Исма‘ила, которое помещает (sic!) не в кисас ал-анбийа, а в раздел, посвященный происхождению арабов. Он уделяет некоторое внимание Нуху и Ибрахиму (прибл. по 0,3%), гораздо меньшее внимание — Адаму (0,2%) и Исхаку (0,15%), зато Ибрахиму — 0,4%, Мусе 0,7%, Дауду — 0,48, Сулайману 0,4%, Исе — 1,1%.
При том, что основная функция сообщений о пророках в тексте ал-Йа‘куби, по всей видимости, ровно такая же, как у Ибн Кутайбы и ад-Динавари — функция «собирания» прошлого в единый хронологический ряд, перенос акцентов обращает на себя внимание. Вероятнее всего, он связан с принципиально иной идеологией сочинения ал-Йа‘куби, отличающей его как от суннитской истории Ибн Кутайбы, так и от ираноориентированного творения ад-Динавари. Шиит ал-Йа‘куби не составляет сборник известий или сообщений, как его предшественники, а пишет хронику (та’рих — хронология в начальном значении), пытаясь связать воедино рассыпанный ранее мир. Главным способом связывания для него остается генеалогия — отсюда столь большое внимание к описанию рождения Исма‘ила, позволяющему включить арабское прошлое в глобальный контекст истории Творения. Шиитское же мировоззрение автора заставляет его с особым тщанием описать историю Мусы и ‘Исы.
Обращает на себя внимание и отношение историка к источникам. В первой части своего труда ал-Йа‘куби всегда, как только может, старается пользоваться первоисточниками (включая Тору и Евангелия), причем относится к ним критически: так, он показывает, что большинство сведений об истории персов носит легендарный, неправдоподобный характер[1]. Говоря об исламской истории, он подчеркивает, что основывает работу на источниках, которые «уже передавались прошлыми авторитетными учеными, передатчиками преданий (руват), биографами, ахбарийун и хронологами», и что он обнаружил, что «они не сходятся в хадисах и ахбар и в датировках»[2]. В результате, историк пытается найти компромиссы между разнящимися данными[3].
[1] «Персы приписывают своим царям многие деяния, подобные которым не совершались ранее…» — Ал-Йа‘куби. Указ. соч. Т. 1. С. 158.
[2]Ал-Йа‘куби. Указ. соч. Т. 2. С. 5.
[3] Там же. См. также: ad-Duri. Op. cit. P. 65.
290
В целом же, если сравнить то, каким образом описываются деяния пророков в рассматриваемых источниках, с иудео-христианской традицией, то бросается в глаза принципиальное различие в отношении к материалу. В самом деле, библейское повествование целиком и полностью сюжетно — это всегда, в первую очередь, narratio — рассказ о некоторых событиях, героями которого становятся те или иные персоналии. Однако для мусульманских хронистов рассказ сам по себе ничего не значит — он им неинтересен, их внимание целиком и полностью сосредоточено на герое, на самом пророке, статичная фигура которого становится для них той константой, вокруг которой только и может собираться история. Соответственно, главным для историков становится каждый раз не рассказ о деяниях того или иного пророка, но рассказ о нем самом — о его предках и потомках, о продолжительности его жизни, о его словах, сказанных в той или иной ситуации, о тех или иных его деяниях.
Эта сосредоточенность на персоналиях (в ущерб сюжетности), как мне представляется, есть следствие двух причин. Во-первых, арабской генеалогической традиции (отчасти аналогичной той, что мы обнаруживаем и в самом библейском тексте), которая заставляла выстраивать прошлое не вокруг тех или иных значимых событий, но вокруг тех или иных героев. А во-вторых, той описанной выше парадигмы исторического видения, которая была предложена Мухаммадом и которая превращала пророческую миссию (всегда развивавшуюся по одной и той же схеме) в основной элемент прошлого, в ту самую константу.
Выводы
Суммируя вышесказанное, можно сделать заключение, что иудео-христианская традиция широко использовалась в ранней арабо-мусульманской исторической мысли и оказала на нее глубокое влияние, что обнаруживается как в собственно историописании, так и в историко-политическом дискурсе, в особенности, времен Марванидов.
В рамках последнего обращение к иудео-христианской традиции было мотивировано необходимостью «собирания» халифата и легитимизации власти халифа (власти Отца), выстраивания определенной системы управления, формирования универсальной идентичности, которая бы могла, объединяя элиты завоевателей и завоеванных, позволить и тем, и другим сохранить собственную самость. Основу для всего этого, как представлялось, давала именно исламски переосмысленная иудео-христианская историческая традиция.
291
Уменьшение ее политической роли в эпоху ранних Аббасидов объясняется, главным образом, смещением центров политической жизни на Восток и переосмыслением исторических оснований власти халифа, которые стали рассматриваться исключительно в рамках специфической исламской мысли.
Одновременно с этим обнаруживается влияние иудео-христианской традиции на собственно арабо-мусульманское историописание, причем влияние это прослеживается как на уровне форм исторического повествования, так и на уровне его содержания.
На уровне форм, главным образом, речь идет о формировании жанра сиры, наследовавшего позднеэллинистическому bioi и получившему развитие как раз в эпоху поздних Омейядов.
На уровне содержания прослеживается ее воздействие как на локальное историописание, так и на всемирно-историческую хронику.
В локальном историописании (жанр фада’ил) восприятие местных исторических преданий (напр., в Египте) позволило сформировать местные идентичности и, посредством генеалогий, связать воедино прошлое арабов и коренного населения (напр. коптов или южных аравитян).
Во всемирноисторической хронистике жанр кисас ал-анбийа стал системообразующим элементом описания доисламской истории человечества, что, в конечном счете, создало основы для формирования общей ближневосточной идентичности.
Наконец, если рассматривать проблематику исследования через призму антиномии рассыпанного и собранного, то в рамках всемирноисторической хронистики именно иудео-христианская традиция создавала тот необходимый для исламской парадигмы исторического видения базовый элемент, который и позволял собрать воедино изначально рассыпанное прошлое.
 |

|
292
Во второй половине августа 2011 г. мне довелось побывать в Дамаске. Вопреки моим собственным ожиданиям, равно как и ожиданиям большинства коллег, с которыми мне выпала на долю та поездка, обстановка в сирийской столице тогда оказалась еще совершенно нормальной. Одним из проявлений обыкновенности происходившего вокруг была обильная книжная торговля, которой Дамаск славится исконно. Среди предлагавшихся книгопродавцами сочинений мое внимание привлекло одно, не только сугубо сирийское, но и истинно дамасское, — А‘йан Димашк фи-л-карн ас-салиса ‘ашар ва нисф ал-карн ар-раби‘а ‘ашар мин ал-хиджра1. Приобретя это сочинение и полистав его, я обнаружил, что оно включает в себя биографии видных мужей, живших с 1786/87 г. по христианскому летоисчислению до 1931/32 г. по христианскому летоисчислению, а напечатано было совсем недавно, в 1994 г., дамасским издательским домом Дар ал- баша’ир. Имеющееся у меня издание обнимает 465 страниц, текст на которых напечатан на основе компьютерной верстки, как это принято в большинстве современных изданий практически всех стран мира.
Позже, ознакомившись с предисловием, которое написал некто устаз ‘Изз ад-Дин ал-Бадави ан-Наджжар, я узнал, что в приобретенной мною книге под одним переплетом собраны два биографических сочинения, принадлежащих шейху Мухамммаду Джамилу аш-Шатти (1882—1959), видному дамасскому факиху, выходцу из знатной семьи, искони проживающей в Дамаске, в квартале ал-Камариййа (локализо
[1]* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00414.
1 А‘йан Димашк фи-л-карн ас-салиса‘ашар ва нисф ал-карн ар-раби‘а‘ашар. Мин 1201—1350 х. Та’лиф ал-‘аллама аш-шайх Мухаммад Джамил аш-Шатти рахимах Аллах. Дамаск. Дар ал-баша’ир, 1414 х — 1994 м. (далее АД).
293
вать этот квартал мне пока не удалось). Тамошняя главная улица уже много десятилетий называется в честь семейства аш-Шатти.
Как отмечает автор предисловия, шейх Мухаммад Джамил аш-Шатти с юных лет стал предаваться литературному творчеству. Достаточно сказать, что уже в возрасте двадцати двух лет он опубликовал свой первый стихотворный сборник (диван аш-ши‘р). Однако еще ранее автор рассматриваемого сочинения увлекся биографическим жанром. По всей видимости, не только потому, что любил литературу, но и потому, что любил историю родного города, воплощавшуюся для него в житиях видных своих сограждан. Интересно, что первое биографическое сочинение аш-Шатти было составлено им в семнадцатилетнем возрасте и посвящено истории ближайших соседей его собственной семьи, также старинному дамасскому дому (усадьбы обоих семейств соседствуют), ал-Фарфур. Сочинение это носит название ад-Дийа’ ал-мауфур фи тараджим бани-л-фарфур. Несколько десятков лет оно существовало в ограниченном количестве рукописей, а впоследствии, уже после кончины Мухаммада Джамила аш- Шатти, было опубликовано тогдашним главой семейства ал-Фарфур, шейхом Мухамадом Салихом. Интересно, что шейх Мухаммад Салих ал-Фарфур, в свою очередь, составил историю семейства аш-Шатти[1].
Что же до шейха Мухаммада Джамила аш-Шатти, то в зрелые свои годы он занимал пост ханбалитского муфтия Дамаска, служил имамом в знаменитой Мечети Омейядов и отправлял должность хатиба в расположенном по соседству с Мечетью Омейядов медресе ал-Бадира’иййа. После его кончины школа, расположенная в родном квартале шейха аш-Шатти, была названа его именем[2].
Материалы же для главного своего биографического сочинения Мухаммад Джамил аш-Шатти стал собирать в возрасте двадцати трех лет. Первоначально он предполагал включить в этот труд жизнеописания всех выдающихся людей тринадцатого века хиджры, где бы они ни родились и ни жили. Им было собрано более тысячи биографий. Однако впоследствии решил сузить задачу и ограничиться житиями лишь видных дамаскинцев. Таким образом, шейх аш-Шатти следовал примеру крупнейшего дамасского историка Абу-л-Касима ‘Али б. ал- Хасана
[1] Мукаддимат ат-таб‘а ас-салиса би калам ал-устаз ‘Изз ад-Дин ал-Бадави ан-Наджжар // АД. С. дал — ха’.
[2] Там же. С. ха’.
294
Ибн ‘Асакира (ум. 1176 г.)[1]. При отборе жизнеописаний шейх аш- Шатти отдавал предпочтение житиям не своих непосредственных современников, но биографиям мужей предшествующего поколения. Собирая материалы о своих героях, если так можно выразиться, шейх аш-Шатти обращался с посланиями к их родственникам, от коих и получал биографические материалы. После он переделывал эти сообщения, сохраняя имена тех, от кого их получил; особо отмечал, если делал какие-либо сокращения. Интересно, что порой подобные сокращенные пассажи составлялись рифмованной прозой (садж‘). По мнению автора предисловия, устаза ‘Изз ад-Дина ал-Бадави ан-Наджжара, такой способ составления сочинения был одним из проявлений исконности (традиционности, асала) в манере работы автора-составителя. Другим весьма хорошо известным в арабской историографии традиционным методом сбора материала были устные расспросы лиц, знакомых с «героем» того или иного жития, в том числе и его родственников[2].
Сам шейх аш-Шатти в предисловии, предпосланном главному из его биографических сочинений, подчеркивает и традиционный характер своего труда, и его связь с сочинениями дамасских историков-предшественников. Мотивом, побудившим его к осуществлению своего собственного биографического сборника, он называет любовь к родным местам, характерную для сынов рода человеческого. Жизнеописания, подчеркивает аш-Шатти, составлялись им в соответствии с исконно устоявшимися основами. После же, на завершающем этапе работы, биографии были переписаны набело[3].
В собрание, по свидетельству самого автора, было включено около трехсот биографий знаменитых улемов, адибов, эмиров и именитых мужей (ал-а‘йан). Большинство их являются уроженцами Дамаска, Каира, Наблуса (Набулуса) и Хомса (Химса). Мало среди «героев» житий, собранных аш-Шатти, как он отмечает, уроженцев Йемена, Хиджаза, Ирака, Халаба, Хамы и Восточного Триполи. Думается, что подобная «география» свидетельствует о том, что духовная элита Дамаска в указанный период формировалась, помимо собственных
[1] Абу-л-Касим ‘Али б. Абу Мухаммад ал-Хасан Ибн ‘Асакир — крупнейший дамасский историк, автор-составитель ряда сочинений, важнейшим из которых является многотомная Та’рих мадинат Димашк («История города Дамаска»). Происходил из влиятельного в XI—XIII вв. в Дамаске семейства Бану ‘Асакир, из которого вышли многие видные шафиитские улемы. Ibn ‘Asakir // Encyclopaedia of Islam. Leiden: Е. J. Brill. CD ROM Edition.
[2] Мукаддимат ат-таб‘а ас-салиса би калам ал-устаз ‘Изз ад-Дин ал-Бадави ан-Наджжар // АД. С. ха’ — вав.
[3] [Предисловие автора] // АД. С. 10.
295
уроженцев, лицами, происходившими из довольно ограниченного круга городов арабского мира[1].
Труд, о котором идет речь, носит название Рауд ал-башар фи ай‘ан Димашк фи-л-карн ас-салиса‘ашар. Жития расположены здесь в алфавитном порядке их личных имен. Сочинение было впервые опубликовано при жизни автора в 1948 г. Оно-то и составляет первую часть приобретенного мною издания[2].
Вторая же его часть представляет собой другое биографическое сочинение аш-Шатти, называемое Хилйат ал-башар фи а‘йан Димашк ли-н-нисф ал-аввал ли-л-карн ар-раби‘а ‘ашар[3]. Название, возможно, дано не самим автором, а редакторами. Сочинение охватывает временной промежуток с 1883—1884 по 1931—1932 гг. В этом труде жития располагаются в соответствии с годами смерти «героев» жизнеописаний — приводится некий год по хиджре и упоминаются скончавшиеся на его протяжении мужи.
Таким образом, перед нами два весьма тесно связанных между собою сочинения, которые составлялись в Новейшее время, когда уже сложились основные жанры современной арабской литературы, однако написанные в соответствии с исконными, то есть средневековыми, традициями арабского сочинительства.
В связи этим мне представилось весьма интересным рассмотреть, какова же структура включенных в рассматриваемое издание житий, то есть выяснить, о чем и каким образом автор-составитель пишет в биографиях своих «героев».
Для решения этой задачи я наугад отобрал из Рауд ал-башар… (поcкольку это главнейшее из двух биографических сочинений шейха аш-Шатти) десять жизнеописаний:
1. Ибрахим ар-Рухайбани (1728/28—1818/19) — объем 18,5 строки[4];
2. Булбул ал-Ва‘из (ум. 1845) — объем 4,0 строки[5];
3. Хамид ан-Набулуси (1730/31—1779/80) — объем 19,0 строк[6];
4. Хасан-афанди ал-Устувани (ум. 1821/22) — объем 30,5 строки[7];
[1] Там же. С. 11.
[2] АД. С.10—302.
[3] Там же. С. 303—432.
[4] Там же. С.13.
[5] Там же. С. 74.
[6] Там же. С. 78—79.
[7] Там же. С. 86—87.
296
5. Рушди-паша аш-Ширвани (ум. 1874/75) — объем 21,5 строки[1];
6. Хамза-афанди ал-‘Аджалани (ум. 1813) — объем 9,5 строки[2];
7. Салих-афанди ал-Устувани (1804/5—1877/78) — объем 7,5 строки[3];
8. ‘Омар-афанди ал-Малики (1812/13—1879/80) — объем 5,0 строк[4];
9. Ганнам ан-Наджди (ум. 1821/22) — объем в 18,5 строки[5];
10. Мухаммад ал-Джаухадар (ум. 1879/80) — объем 14,5 стро-
ки[6];
Проведенный анализ показал, что информация, содержащаяся в жизнеописаниях, сгруппирована в соответствии с рядом содержательно-тематических рубрик, повторяющихся во всех или же некоторых из этих жизнеописаний.
В десяти отобранных житиях мною было выделено семнадцать рубрик:
I. Ссылка на источник жития;
II. Представление «героя» жития, то есть его полное мусуль-
манское имя и титулатура;
III. Информация о рождении «героя» жития;
IV. Сведения об отце «героя» жития;
V. Сведения об образовании «героя» жития;
VI. Характеристика нравственных качеств «героя» жития;
VII. Жизненные итоги, обретенные «героем» биографии;
VIII. Некоторые обстоятельства, связанные с жизнью «героя»
биографии (женитьба, смерть близких);
IX. Путешествия, предпринятые «героем» жития;
X. Ремесла, которыми владел «герой» жития и связанный
с ними образ жизни;
XI. Должности, которые занимал «герой» жития;
XII. Преподавательская деятельность «героя» жития;
XIII. Сочинения «героя» жития и его стихи;
XIV. Сведения о кончине «героя» жития;
XV. Место погребения «героя» жития;
XVI. Стихи и другие тексты, посвященные «герою» жития;
XVII. Авторские ремарки. Представление о характере этих рубрик дает Таблица 1, а в Таблице 2 более четко показана частотность употребления рубрик в исследуемых биографиях АД.
[1] Там же. С. 125—126.
[2] Там же. С. 96.
[3] АД. С. 145.
[4] Там же. С. 220.
[5] Там же. С. 223—224.
[6] Там же. С. 240.
297
Таблица 1. Содержание рубрик, составляющих жизнеописания АД
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
1 |
Ccылка на источник жития |
I |
ар-Рухайбани |
13 |
Сказал ал-устаз ал-Байтар в «Истории» своей… |
|
2 |
Ccылка на источник жития |
I |
Булбул ал-Ва‘из |
74 |
Поместил жизнеописание его в «Истории» своей ученый ал-Байтар… |
|
3 |
Ссылка на источник |
I |
Халид ан-Набулуси |
78 |
Поместил жизнеописание его господин (ас-саййид) Камал ад-Дин ал-Газзи в Табакат ал-ханабила (Разряды (Поколения) ханбалитов», которые были составлены как добавление (зайл) к Табакат ал-‘Алими… |
|
8 |
Ссылка на источник |
I |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Сообщил на об [обстоятельствах жития его] сын его добродетельный Мустафа-афанди… |
|
9 |
Ссылка на источник |
I |
Ганнам ан-Наджди |
223 |
Составил жизнеописание его ал-устаз дядя Мурад-афанди, [поместив его] в черновой вариант Табакат ал-ханабила. Сказал он … |
|
10 |
Ссылка на источник |
I |
Мухаммад ал-Джаухари |
240 |
Составил житие его ал-Байтар, [включив в это житие] примерно то же, что было приведено выше. |
|
1 |
Представление «героя» жития |
II |
Ибрахим ар-Рухайбани |
13 |
Он — Ибрахим б. Мустафа Абу-с-Салах ар-Рухайбани, потом — ал-Харрани, потом — ад-Димашики аш-Шафи‘и, хатиб, имам и мударрис в соборной мечети ад-Дикак на площади ал-Хаса в Дамаске. |
|
2 |
Представление «героя» жития |
II |
Булбул ал-Ва‘из |
74 |
Это шейх Булбул-афанди, сын шейха ‘Ашира-афанди. …Действенный ученый, совершенный праведник, исполненный смирения, словно обретший способность поклоняться Божеству по природе [своей]. Являл он в проповедях своих такой подход, что действовало [это] на сердца [людские]. |
298
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
3 |
Представление «героя» жития |
II |
Хамид ан-Набулуси |
78 |
Это Хамид б. Мустафа б. ‘Абд ал-Хакк, по происхождению из ал-Лудда[1], прославленный в Набулусе (Наблусе)[2], родившийся и умерший в Дамаске. [Он] — шейх праведный, благословенный, богобоязненный… …Был он праведным мужем, с сиятельной сединой, ясным ликом, радостным. Любили его люди. Пребывал таковым до кончины. |
|
4 |
Представление «героя» жития |
II |
Хасан ал-Устувани |
86 |
Он — Хасан б. Ахмад б. ‘Абд ар-Рахман ал-Устувани ал-Ханафи ад-Димашки … совершенный, праведный, превосходный адиб, искусный стихотворец. |
|
5 |
Представление «героя» жития |
II |
Рушди-паша аш-Ширвани |
125 |
Мухаммад Рушди б. Исма‘ил аш-Ширвани ат-Дагистани… Вали Дамаска Сирийского и один из виднейших улемов. |
|
6 |
Представление «героя» жития |
II |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Ас-саййид Хамза б. ас-саййид ‘Али б. ас-саййид Исма‘ил б. ас-саййид Хасан б. ас-саййид Хамза б. ас-саййид Хасан, известный, подобно предкам его, как ал-‘Аджалани; ал-Хусайни ал-Ханафи ад-Димашки … … Благородный саййид, родовитый и знатный, праведный улем, единственный в своем роде, главенствующий отважный старейшина (садр). |
|
7 |
Представление «героя» жития |
II |
Салих ал-Устувани |
145 |
Шейх, проживший много лет, улем, факих, благочестивый, совершенный, богобоязненный, праведный… Салих б. Са‘ид б. ‘Али, известный, подобной предкам его, как ал-Устувани ад-Димашки ал-Ханафи. |
[1] Ал-Лудд (Лудд) — арабское название древнего палестинского города Лидда. Sharon M. Ludd // EI. CD ROM Edition.
[2] Набулус (Наблус) — древний город в Палестине. Buhl F. [Bosworth C. E.], Nabulus // EI/ CD ROM Edition.
299
|
8 |
Представление «героя» жития |
II |
‘Омар ал-Малики |
220 |
И вот, он — ‘Омар б. Ибрахим ал-Ханафи ад-Димашки, знаменитый как ал-Малики … искусный улем, знаток хадисов, факих …, уникальный грамматист. |
|
9 |
Представление «героя» жития |
II |
Ганнам ан-Наджди |
223 |
Это шейх Ганнам б. Мухаммад б. Ганнам аз-Зубайри по происхождению, ан-Наджди по рождению, ад-Димашки жительством. Глубокий улем, совершенный праведник, знаток хадисов, факих, знаток наследственного права, знаток арифметики. |
|
10 |
Представление «героя» жития |
II |
Мухаммад ал- Джаухада-ри |
240 |
…шейх, имам, великий ученый-исследователь, знаток хадисов, факих, грамматист; один из сирийских шейхов, что принес пользу как избранным (ал-хасса), так и простонародью. Он — Мухаммад б. Сулайман ал-Ханафи ад-Димашки, знаменитый как ал-Джаухадар. |
|
1 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Ибрахим ар-Рухайбани |
13 |
Родился в 1140 (1727/28) году. |
|
3 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Хамид ан-Набулуси |
78 |
Он сам рассказал мне, что родился в Дамаске в 1143 (1730/31) году и вырос здесь. |
|
4 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Хасан ал-Устувани |
86 |
Родился в Дамаске на лоне родителя своего. |
300
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
5 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Рушди-паша аш-Ширвани |
125 |
Родился [муж], чье жизнеописание приводится, в колыбели добродетели и совершенства; перемещался он по созвездиям возвышенных и счастливых обстоятельств. |
|
6 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Родился в доме отца своего, доме славы и главенства. |
|
7 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Салих ал-Устувани |
145 |
Родился в Дамаске в 1219 (1805/05) году. |
|
8 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Родился в Дамаске в 1227 (1812/13) году. |
|
10 |
Информация о рождении «героя» жития |
III |
Мухаммад ал-Джаухада-ри |
240 |
Родился в Дамаске и вырос там. |
|
5 |
Сведения об отце «героя» жития |
IV |
Рушди-паша |
125 |
Был отец его из мужей науки и пути (ат-тарика) в Амасйе[1]. Над могилой его — мавзолей и мечеть. Умер в 1275 (1858/59) году. |
|
6 |
Сведения об отце «героя» жития |
IV |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Отец его, ‘Али-афанди, был в Дамаске накиб ал-ашраф[2] и одним из старейшин этого города. Скончался в 1183 (1769/70) году. |
|
8 |
Сведения об отце «героя» жития |
IV |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Родитель его, Ибрахим-афанди, был из известных праведников. Скончался он после 1250 (1834/35) года. |
[1] Амасйа (Амасья) — древний город в Северной Анатолии, ныне — административный центр одноименного вилайета. Taeschner Fr. Amasya // Encyclopaedia of Islam (далее — EI). CD ROM Edition.
[2] Накиб ал-ашраф («смотритель [над] благородными») — должность, возникшая при Аббасидах; попечитель и судья, ведавший делами лиц, считавшимися потомками пророка Мухаммада. Havemann A. Nakib al-ashraf // EI. CD ROM Edition.
301
|
1 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Ибрахим ар-Рухайбни |
13 |
Учился у великий улемов в Дамаске. Поездка в Дамаск и обучение в ал-Азхаре. Перечисление наставников. |
|
3 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Хамид ан-Набулуси |
78 |
Обучался читать Коран. Изучал фикх. Перечисление наставников, у которых учился и тому, и другому. |
|
4 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Хасан ал-Устувани |
86 |
Учился (дословно: «брал») у ученых мужей века своего. |
|
6 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Стал [муж], чье житие приводится, жития учиться. Читал он с [голоса] некоторых дамасских улемов и шейхов. |
|
7 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Салих ал-Устувани |
145 |
Учился у дамасских улемов. Перечисление учителей. |
|
8 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Устремился [муж], чье житие к знанию. Учился у сообщества видных ученых (судур) Дамаска. |
|
9 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Ганнам ан-Наджди |
283 |
Перечисление лиц, у которых учился «герой» жития. |
|
10 |
Сведения об образовании «героя» жития |
V |
Мухаммад ал-Джаухадар |
240 |
Перечисление дамасских улемов, у которых учился «герой» жития. |
|
|
|||||
302
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
1 |
Характеристика нравственных качеств «героя» жития |
VI |
Ибрахим ар-Рухайбани |
13 |
Был склонен к уединению, богомолен. В конце жизни обуял его ал-джазб[1]. |
|
3 |
Характеристика нравственных качеств «героя» жития |
VI |
Хамид ан-Набулуси |
49 |
Ел он приобретенное рукой своей. |
|
5 |
Жизненные итоги, обретенные «героем» биографии |
VII |
Рушди-паша |
126 |
В итоге же был он из виднейших вазиров и благочестивых улемов; знатоком многих наук и словесных искусств (адаб), редкостным [мужем] времени своего, наивысшим среди ровесников своих. Да покроет его Аллах милостью и благосклонностью своими. |
|
6 |
Жизненные итоги, обретенные «героем» биографии |
VII |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Стало дело великим, а доля — благородной; присоединился он к старшинам, с которыми считаются. |
|
8 |
Жизненные итоги, обретенные «героем» биографии |
VII |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Приобрела судьба его благородный характер, и луна его воссияла. Сделался он [одним] из видных дамасских праведников и тамошних уважаемых, знаменитых мужей. |
[1] Ал-Джазб (дословно, «привлечение») — исходящая от Божества пассивная форма избранничества в суфизме. Хисматуллин А. А. Суфизм. СПб.: Азбука-классика: Петербургское востоковедение, 2008. С. 125.
303
|
10 |
Жизненные итоги, обретенные «героем» биографии |
VII |
Мухаммад ал-Джаухада-ри |
240 |
Достиг значительных итогов в фикхе, изучении хадисов, грамматике и прочем. Преуспел он во всех отраслях знания. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Некоторые обстоятель-ства, связанные с жизнью «героя» (женитьба, смерть близких) |
VIII |
Хамид ан-Набулуси |
79 |
Потом женился на дочери шейха нашего ал-Бадра ал-Марджани, постоянно пребывал при нем и служил некоторое время тарикату ал-халватиййа[1]. |
|
7 |
Некоторые обстоятель-ства, связанные с жизнью «героя» (женитьба, смерть близких) |
VIII |
Салих ал-Устувани |
145 |
Незадолго до кончины своей поражен он был [смертью] благочестивого сына своего, Рагиба-афанди, о житии которого говорилось выше, и явил он терпение. |
|
4 |
Путешествия, предпринятые «героем» жития |
IX |
Хасан ал-Устувани |
86 |
Когда совершил ал-маула Халил-афанди ал-Муради, муфтий Дамаска, в 1205 (1790/91) году путешествие в Халаб, сопровождал его [муж], чье жизнеописание приводится наравне с другими. Было оказано им великое уважение от муфтия Халаба Хасана-афанди ал-Кавакиби и прочих улемов и знатных мужей. |
[1] Ал-Халватиййа (хаватиййа) — суфийское братство, сложившееся в XIV в. В Иране. De Jong F. Khalwatiyya // EI CD ROM Edition.
304
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
3 |
Ремесла, которыми владел «герой» биографии и связанный с ними образ жизни. |
Х |
Хамид ан-Набулуси |
78—79 |
Освоил он переплетное ремесло. |
|
2 |
Должности, которые занимал «герой» жития. |
XI |
Булбул ал-Ва‘из |
74 |
Проповедник (ал-ва‘из) в Мечети Омейядов в Дамаске. |
|
3 |
Должности, которые занимал «герой» жития. |
XI |
Хамид ан-Набулуси |
78;79 |
… шейх Поварской молельни (ас-Саджжада ат-Таббахиййа) в Дамаске, после шейха нашего ал-Бадра Хасана б. Мухаммада ал-Марджани, известного как ат-Таббах (Повар). В пятницу, в джумада ас-санийа 1193 года (июнь—июль 1779), позвал шейх Бадр ал-Марджани шайх ал-ислама отца моего и сообщество дамасских улемов в свою западную худжру ханаки ас-Самисатиййа и устроил после пятничной молитвы халакат аз-зикр — по их обычаю. Привел к присяге [мужа], чье житие приводится, поставил его своим халифой и взял присутствовавших в свидетели. Это было за год до смерти шейха ал-Бадра — он умер первого раджаба 1194 года (3 июля 1780), не оставив сыновей. |
305
|
5 |
Должности, которые занимал «герой» жития |
XI |
Рушди-паша |
125—126 |
Прибыл в Дамаск в 1276 (1859/60) году в качестве муфтия от Османского государства в связи со злополучным случаем с христианами[1], сопровождая смотрителя внешних дел, знаменитого Фу’ада-пашу[2] — тот был ему другом. Написал [Фу’ад-паша] в ал-Астану (Стамбул. — Д. М.) представление о Рушди-паше с прошением о его повышении. Не удовлетворил шейх ал-ислам прошения. Вернувшись в Стамбул, ходатайствовал [Фу’ад-паша] перед султаном[3]. Была выказана высочайшая воля о назначении Рушди-паши вали Сирии, а также о пожаловании ему должности вазира. Много лет оправлял Рушди-паша должность эту наилучшим образом. Возлюбили его все, в особенности улемы — осыпал он их многими милостями. Потом был он смещен с этой должности и уехал в ал-Астану. После ведал он несколькими государственными учреждениями. Затем пожалован был ему пост Великого Садра[4] Османского государства. Отправлял [Рушди-паша должность эту] подобающим образом — недолгое время. После пожалован он был вали ал-Хиджаза — также на недолгое время. Образовал в Мекке библиотеку, известную по его имени. |
[1] Имеется в виду погром христиан, произошедший в Дамаске в июле 1860 г. Луцкий В. Б. Новая история Арабских стран. 2-е изд. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1966. С. 119.
[2] Фу’ад-паша (1815—1869) — крупный османский государственный деятель; занимал посты министра иностранных дел и великого визиря (премьер-министра). Davidson R. H. Fu’ad Pasha // EI. CD ROM Edition.
[3] Скорее всего, имеется в виду османский султан ‘Абд ал-Маджид (1839—1861).
[4] Великий Садр — титул великого визиря (премьер-министра) в Османском государстве. Sadr // EI. CD ROM Edition.
306
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
6 |
Должности, которые занимал «герой» жития |
XI |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Сделался он муфтием Дамаска после того, как в 1218 (1803/04) году Ахмад-паша ал-Джаззар[1] убил [прежних] тамошних муфтиев ал-Муради и ал-Махасини. |
|
10 |
Должности, которые занимал «герой» жития |
XI |
Мухаммад ал-Джаухадар |
240 |
В 1278 (1861/62) году стал отправлять должность ан-нийаба[2] в Махаллат ал-Баб ал-Кубра в Дамаске. Продолжал преподавать. Некоторые уроки проводил в здании суда. Потом, в силу необходимости, был переведен в Махкамат ас-Сунаниййа. В 1290 (1873/74) году муфтий Махмуд-афанди ал-Хамзави перевел [мужа], чье житие приводится, в Махкамат ал-Баб. Пребывал он там, занимаясь преподаванием и верша суд, пока не скончался. |
|
7 |
Преподава-тельская деятельность «героя» жития |
XII |
Салих ал-Уствани |
145 |
Училось у него сообщество [питомцев] и получило пользу от него. |
|
9 |
Преподава-тельская деятельность «героя» жития |
XII |
Ганнам ан-Наджди |
223 |
Получили от него ученики обильную пользу. |
|
10 |
Преподава- тельская деятельность «героя» жития |
XII |
Мухаммад ал-Джаухадар |
240 |
Посвятил себя преподаванию. Стали люди учиться у него — поколение за поколением. Перечисление учеников «героя» жития. |
[1] Имеется в виду знаменитый наместник Акки Ахмад ал-Джаззар-паша (ум. 1804). Луцкий В. Б. Новая история Арабских стран. 2-е изд. М.: Наука (глав. ред. вост. лит-ры), 1966. С. 30, 31, 39, 56, 58—62.
[2] Ан-Нийаба — должность судебного представителя, заместителя судьи (ал-кади) в какой-либо местности. Gibb H. A. R. Naib // EI. CD ROM Edition.
307
|
4 |
Cочинения «героя» жития и его стихи |
XIII |
Хасан ал-Уствани |
86—87 |
Сочинял он стихи и прозу. Собрал диван стихов своих, в котором — великолепные образцы поэзии. И из стихов [мужа], чье житие приводится: Цитирование стихов «героя» биографии: 5 стихотворных отрывков (2 байта; 2 байта; 4 байта; 4 байта; 9 байтов). |
|
8 |
Сочинения «героя» жития и его стихи |
XIII |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Сочинял он трактаты по ал-фара’ид[1] и по арифметике. Писал комментарии по грамматике и по тому подобному. |
|
1 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Ибрахим ар-Рухайбани |
14 |
Скончался он в пятницу 16 шаввала 1234 года (8 августа 1819). |
|
2 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Булбул ал-Ва‘из |
74 |
Скончался он, да помилует его Аллах, 15 ал-мухаррама 1261 года (24 января 1845). |
|
4 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Хасан ал-Устувани |
87 |
Пребывал [муж], чье жизнеописание приводится, в положении своем и [произнося] речи свои, пока не преставился. Случилась кончина его в 1237 (1821/22) году, да помилует его Аллах. |
[1] Ал-фара’ид (мн. ч. от ал-фарида — дословно, «обязательные доли») — в мусульманском праве определенные доли имущества, получаемые наследниками после смерти родственника. Juynboll Th. W. Fara’id // EI. CD ROM Edition.
308
|
Продолжение таблицы 1 |
|||||
|
№ Жития |
Название рубрики |
№ рубрики |
«герой» жития |
страницы |
Содержание |
|
5 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Рушди-паша |
126 |
Случилась кончина его в ат-Та’ифе в 1291 (1874/75) году. |
|
6 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Хамза ал-Аджалани |
96 |
Случилась кончина его в 1228 (1813) году. |
|
7 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Салих ал-Устувани |
145 |
Пребывал он в добром положении своем, пока [не] преставился в 1294 (1877/78) году. |
|
8 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
‘Омар ал-Малики |
220 |
Была кончина его в ал-мухарраме 1297 (декабрь 1879 — январь 1880) года, да помилует его Аллах Всевышний. |
|
9 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Ганнам ан-Наджди |
223 |
Читал я в рукописи упомянутого деда [своего], что скончался он в субботу, 8 зу-л-ка‘да 1237 года (26 июля 1822). |
|
10 |
Сведения о кончине «героя» жития |
XIV |
Мухаммад ал-Джаухадар |
240 |
Случилась кончина его 5 шаввала 1297 года (10 сентября 1880), да помилует его Аллах. |
|
1 |
Место погребения «героя» жития |
XV |
Ибрахим ар-Рухайбани |
14 |
Похоронен на кладбище Баб Аллах, рядом с могилой шейха Таки ад-Дина ал-Хисни. |
|
6 |
Место погребения «героя» жития |
XV |
Хамза ал-‘Аджалани |
96 |
Похоронен в склепе предков своих, на [кладбище] ал-Баб ас-Сагир. |
309
|
7 |
Место погребения «героя» жития |
XV |
Салих ал-Устувани |
145 |
Был погребен он в ат-Турба аз-Захабиййа. |
|
9 |
Место погребения «героя» жития |
XV |
Ганнам ан-Наджди |
223 |
Погребен был он на [кладбище] ал-Макбара аз-Захабиййа в Мардж ад-Дахдах. |
|
5 |
Стихи и другие тексты, посвященные «герою» жития |
XVI |
Рушди-паша |
126 |
В одной из тетрадей деда моего шейха ‘Абд ас-Самада аш-Шатти видел я запись о том, что направил [дед мой Рушди-паше] грамоту, поздравляя его с назначением на должность садра. Там же [имеются] стихи [деда], датированные 1290 (1873/74) годом (два байта). Восхвалили [мужа], жизнеописание коего приводится, и иными [стихами]. |
|
9 |
Стихи и другие тексты, посвященные «герою» жития |
XVI |
Ганнам ан-Наджди |
223 — 224 |
Оплакал его ученик его, упомянутый ас-Сафарини. [Вот] из нее речение его: Три стихотворных отрывка: 2 байта;3 байта; 2 байта. |
|
4 |
Авторские ремарки |
XVII |
Хасан ал-Устувани |
87 |
Будет приведено в этой книге жизнеописание сына его ‘Абдаллаха-афанди и сообщества племянников его, если пожелает Аллах Всевышний. |
310
Таблица 2. Распределение рубрик по исследуемым житиям памятника
|
1 |
Ибрахим ар-Рухайбани 18,5 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
7 |
|
2 |
Булбул ал-Ва‘из; 4,0 |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
4 |
|
3 |
Хамид ан-Набулуси; 19,0 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
4 |
Хасан-афанди ал-Устувани; 30,5 |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
|
+ |
7 |
|
5 |
Рушди-баша аш-Ширвани; 21,5 |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
7 |
|
6 |
Хамза-афанди ал-‘Аджалани; 9,5 |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
|
|
+ |
+ |
|
|
8 |
|
7 |
Салих-афанди ал-Устувани; 7,5 |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
+ |
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
|
|
7 |
|
8 |
‘Омар-афанди ал-Малики; 5,0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
8 |
|
9 |
Ганнам ан-Наджди; 18,5 |
+ |
+ |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
7 |
|
10 |
Мухаммад ал-Джаухадар; 14,5 |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
|
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
|
8 |
|
|
Итого |
6 |
10 |
8 |
3 |
8 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
3 |
2 |
9 |
4 |
2 |
1 |
|
|
|
№№ |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
XV |
XVI |
XVII |
|
311
Таблица 2 показывает следующее.
Большинство биографий (пять) состоит из семи рубрик (№ 1; 4; 5; 7; 9).
Из восьми рубрик состоят четыре жития (№ 3; 6; 8; 10).
И, наконец, одна биография состоит из четырех рубрик (№ 2).
Самой употребительной рубрикой оказалась рубрика II — (представление «героя» жития, то есть его полное мусульманское имя и титулатура). Она использована в обследованном корпусе биографий 10 раз.
Девять раз использована рубрика XIV (сведения о кончине «героя» жития).
Восемь раз употреблены рубрики III (информация о рождении «героя» жития) и V (сведения об образовании «героя» жития).
Шесть раз использована рубрика I (cсылка на источник жития).
Пять раз употребляется рубрика XI (должности, которые занимал «герой» жития).
По четыре раза встречаются рубрики VII (жизненные итоги, обретенные «героем» биографии) и XV (место погребения «героя» жития).
По три раза употреблены рубрики IV (сведения об отце «героя» жития) и XII (преподавательская деятельность героя жития).
По два раза встречаются рубрики VI (характеристика нравственных качеств «героя» жития), VIII (некоторые обстоятельства, связанные с жизнью «героя» биографии (женитьба, смерть близких) и XIII (сочинения «героя» жития и его стихи).
Наконец, по одному разу использованы рубрики IX (путешествия, предпринятые «героем» жития) и Х (ремесла, которыми владел «герой» жития и связанный с ними образ жизни).
Вот из какой мозаики складываются биографии исследуемого памятника.
312
 |

|
 |
9.1 Проблемы исследования творчества ан-Ниффарӣ и способы осмысления его текстов* (Р. В. Псху)[1] |

|
315
Не думаю, что хоть что-нибудь было непереводимо — ни, впрочем, переводимо.
Ж. Деррида
Введение
На одной из конференции, посвященных исламской философии, мною был сделан доклад об одном малоизвестном и малоизученном трактате иракского суфия ан-Ниффарӣ (X в.), который был впервые исследован Полем Нвийа1. Интерес к данному трактату был обусловлен тем, что, во-первых, он был сравнительно недавно обнаружен (что дает повод надеяться получить какие-либо сведения о личности автора), и, во-вторых, представляет собой довольно небольшое по объему и обладающее более или менее ясной структурой произведение. Последнее особенно ценно, так как, в отличие от двух наиболее прославленных и пространных произведений ан-Ниффарӣ (собранных и структурированных не им самим), данный трактат может быть «схвачен» в едином научном «рывке», не требующем длительного и рассеивающего периода предварительной работы по переводу.
Напомню, что основная проблема, связанная с изучением наследия Ниффарӣ, обусловлена отсутствием обычной для историка философии культурно-социальной информации об авторе, что могло бы
[1]* Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект номер 13-03-00414.
Псху Р. В. Понимание ан-Ниффарӣ «взгляда» и «видения» в аспекте вопроса любви к Богу // Исламская философия и философское исламоведение: Перспективы развития / Под ред. А. В. Смирнова. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 112—120.
316
помочь вписать его в определенный исторический контекст. Об этом неоднократно говорилось, как говорилось и том, что в качестве объекта исследования в случае с Ниффарӣ мы имеем «чистый» текст. Но, как это часто бывает, «неприятность» таит в себе неожиданный подарок, и в данном случае этот подарок будет заключаться в сужении методологической базы самого исследователя: вместо обширного историко-философского методологического аппарата мы ограничены (и мы в этом не виноваты) филологическими методами работы с текстом[1]. Другими словами, для научного исследования у нас есть только тексты Ниффарӣ, т. е. его язык, который только и можно изучать филологическими способами. Переход к обобщениям философского характера, если таковые и будут, заведомо будут связаны не с историко-философским материалом (история суфизма), а скорее с общеметодологическими принципами работы с иноязычными текстами в историко-философском ключе.
Таким образом, для исследования мы обладаем следующими источниками: арабский текст трактата[2], его перевод на русский язык (см. приложение к данной статье) и две аналитические статьи по терминологическим особенностям этого произведения[3].
Но прежде чем перейти к анализу текста, важно сказать то, что нашей целью, так сказать, осязаемым и видимым результатом, мы ставили не сам анализ и теоретические рассуждения, а конкретный практический результат, т. е. адекватный (и желательно эквивалентный) перевод[4] этого текста на русский язык. Последний не может состояться без продумывания не столько самого текста, сколько своих переводческих принципов (так сказать, осмысления самого искусства перевода). Именно поэтому мы решили предварить
[1] То, что Вильгельм Виндельбанд определяет как первый шаг историко-философского исследования, для нас заведомо оказывается и последним, т. к., как будет показано в дальнейшем, стремление вывести на другой уровень результаты подобного исследования приводит к весьма гипотетическим выводам.
[2]Мух̣аммад б. ‘Абд ал-Джабба̄р ан-Ниффарӣ. Ал-А‘ма̄л ал-ка̄мила лӣ-н-ниффарӣ. Димашк̣, 2007. С. 29—37.
[3]Nwyia P. Niffari et l’amour-nazar // Islamwissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden, 1974. P. 191—197; ст. Псху Р. В., см. сноска 1 к данной статье.
[4] Под адекватным переводом мы понимаем перевод, обеспечивающий необходимую полноту межъязыковой коммуникации (определение В. Н. Комиссарова), а под эквивалентностью мы понимаем «ближайшее естественное соответствие оригиналу» (определение Юджина Найды).
317
терминологический анализ[1] текста Ниффарӣ «Мин х̱ас̣а̄’ис̣ кала̄михи ал-г̣арӣб фӣ-л- мах̣абба» кратким рассуждением о том, чем является перевод, какова роль переводчика и что такое перевод как продукт процесса перевода. Таким образом, наше исследование включает три части: 1) теория перевода, 2) анализ трактата, 3) сам перевод.
Часть 1
Главный вопрос, связанный с переводом, это вопрос о том, что является главным в переводе. Другими словами, каковы те условия, выполнение которых приводит к появлению адекватного перевода. Казалось бы, очень легко прописать определенные требования и далее следить за их выполнением в каждом конкретном случае. Если бы не одно «но». Общая теория перевода гласит, что основная цель любого перевода — это достижение коммуникативного эффекта. Собственно говоря, именно этот коммуникативный эффект является главным условием эквивалентности и адекватности любого перевода. Неслучайно один из выдающихся теоретиков перевода В. Н. Комиссаров в своей теории эквивалентности выдвигает в качестве первого и ключевого уровня эквивалентности общность цели коммуникации, отсутствие которой лишает перевод эквивалентности. Какой эффект был задуман в оригинале[2], такой должен присутствовать и в переводе. Это более или менее понятно, когда мы переводим художественные тексты, поэзию и т. п. Но когда речь идет о философских текстах, или о мистических произведениях, то что будет коммуникативным эффектом в этом случае? Какой коммуникативный эффект задуман И. Кантом в «Критике чистого разума» или какой эффект можно предполагать от текстов того же Ниффарӣ?
В одной из своих статей А. В. Смирнов, вплотную исследующий философские аспекты перевода, выдвигает интересную мысль о том, что «перевод возможен благодаря тому, что в основе любого языкового выражения лежит чистый смысл. Перевод — если это подлинный перевод, а не подстановка слов по выученным алгоритмам, — проходит стадию чистого смысла. Это самостоятельная
[1] Эта часть статьи содержит дополнения к уже проанализированным терминам этого трактата. См. сноску 5 к данной статье.
[2] Здесь и далее в моем тексте под «оригиналом», «оригинальным» понимается язык исходного текста, т. е. переводимого.
318
область, с собственными законами»[1]. Другими словами, без «усилия осмысления»[2] перевод не может состояться. При этом осмысленность понимается как «след целостности»[3], который, в свою очередь, представим как «связность»[4]. «Работать с осмысленностью значит работать со связностью: изучать ее виды, как она организована, какие формы проявления получает, как выявляет себя и т. п. … Связность — наш ближайший подступ к чистому смыслу»[5]. Далее автором статьи приводятся три уровня, на которых можно говорить о связности в области устной или письменной речи: уровень целого текста, уровень фразы, уровень лексической единицы[6]. Мы не будем углубляться в анализ этих уровней, он частично уже проведен А. В. Смирновым, нас интересует скорее предложенная им общая схема перевода, которая предполагает следующий алгоритм при переводе: 1) погружение в область чистого смысла, 2) «выслеживание» следа присущей ему целостности, или осмысленность, которая проявляется в оригинальном тексте как связность, 3) передача обнаруженного чистого смысла на переводимый язык «так, как если бы она («фраза на результирующем языке». — Р. П.) была оригинальной»[7], 4) изучение связности в оригинальной речи на трех вышеупомянутых уровнях. При этом важно отметить, что четвертый этап в некотором смысле предваряет первый, как бы делает его возможным или перепроверяет его. Здесь можно говорить о подобии герменевтического круга, так как вполне представимо, что чистый смысл, открывающийся переводчику, будет уточнен или изменен в результате более детального изучения уровней связности оригинальной речи.
Если мы обратимся к теории эквивалентности, предложенной В. Н. Комиссаровым, то увидим частичное пересечение этих двух, казалось бы, разных теорий перевода. Комиссаров предлагает пять
[1]Смирнов А. В. Философия перевода и перевод философии // Философский журнал. М., 2012. С. 52.
[2] Там же.
[3]Смирнов А. В. Философия перевода и перевод философии // Философский журнал. М., 2012. С. 54.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же. С. 56.
[7] Там же. С. 53. «…связность исходного высказывания, пройдя стадию чистого смысла, превращается в связность результирующего высказывания». Там же. С. 55.
319
уровней эквивалентности (наиболее полная модель эквивалентности в теории перевода), которые следует понимать как степени смысловой общности между переводом и оригиналом: 1) общность цели коммуникации, 2) общность идентификации ситуации, 3) общность способа описания ситуации, 4) общность передачи значения синтаксических структур, 5) общность в передаче словесных знаков (лексической структуры).
Несмотря на философскую спецификацию модели А. В. Смирнова и исключительно прикладной характер модели В. Н. Комиссарова, на мой взгляд, в целом они говорят об одном. Изначально постулируется «нечто» (чистый смысл, практическим выражением которого является коммуникативный эффект), то, что определить нельзя, но без чего перевод не действителен. Далее определяются уровни осмысления и условия практического осуществления перевода на синтаксическом, лексическом и контекстуальном уровнях. Очевидно, что рассуждения А. В. Смирнова, как философа, идут глубже и дальше, чем нацеленная на практику теория В. Н. Комиссарова, но если рассматривать процесс перевода с точки зрения его реализуемости, то философия перевода Смирнова расширяет теорию перевода Комиссарова, нисколько ей не противореча. Чего, к примеру, нельзя сказать о другом герменевтическом проекте, восходящем к Аристотелю: «из оригинала мы переводим лишь то, что поддается универсализации. В рамках последней экспрессивные элементы текста представляют собой нечто случайное, тогда как его содержание — нечто необходимое; работа переводчика в том и заключается: он должен выявить универсалии, т. е. отделить их от языка, на котором они были выражены, чтобы найти им эквивалент на другом языке, нейтрализовав тем самым их историчность»[1]. Здесь можно согласиться с автором цитируемой статьи, что «вся проблема исключительно в более или менее удачном выборе риторических средств, которые, следовательно, должны быть в той или иной мере соответствующими собственно содержанию мысли, каковое застраховано от случайностей выбора различных выразительных средств»[2]. На первый взгляд, и Смирнов, и Комиссаров выдвигают концепции в русле подобного герменевтического проекта. Но это не совсем так. Дело в том, что, во-первых, чистый смысл имеет внеязыковую
[1]де Лоне М. Какая герменевтика требуется для перевода? // ЛОГОС. Философско-литературный журнал. № 5—6 (84). 2011. С. 61—62.
[2] Там же. С. 62.
320
природу и в принципе не может носить языковой характер[1], в то время как у Аристотеля мыслительное начинание осуществляется на уровне, остающимся недоступным для выразительных средств, которыми располагают отдельные языки. Другими словами, содержание мысли соответствует универсальному разуму или логике[2], против универсализации которой как раз и борется А. В. Смирнов[3]. И Смирнов, и Комиссаров не случайно выделяют уровни/следы (в частности, синтаксис и лексика), по которым воссоздается связность исходного текста, а значит его оригинальный способ построения смысла как следа внеязыкового чистого смысла. И здесь нельзя согласиться с автором «Поэтики», что «словесное выражение ставит проблемы второго плана»[4]. Редкость, если не сказать невозможность, соблюдения полной эквивалентности на синтаксическом и лексическом уровнях показывает обратное, а именно предельную зависимость достижения цели коммуникативного акта, каковым и является перевод, от выбора способов выражения на конкретном языке. И философские тексты в этом случае не исключение. В этом смысле можно согласиться с В. В. Набоковым, что «настоящая мысль не может существовать без облегающих ее слов, сшитых по мерке»[5]. В каком обличье предстанет оригинал, в полной мере зависит не столько от автора, сколько от переводчика.
И в этой связи на первый план выступает фигура переводчика, обычно затушевываемого переводимым им текстом и автором. На мой взгляд, пора открыто признать, что переводчик, так же как и автор текста, обладает определенными возможностями и полномочиями, и что переводчик, наряду с автором, несет ответственность за текст и тот коммуникативный эффект, который он вызывает в читателе, или, другими словами, за открытый и переданный им «чистый смысл».
Трудно не согласиться с автором одной из статей, недоумевающим, «почему к переводам все же питается нерушимое доверие»[6]. Этот автор совершенно прав, говоря, «что в повседневной философской
[1]Смирнов А. В. Указ. соч. С. 46.
[2]де Лоне М. Указ. соч. С. 62.
[3] См. его другие работы.
[4]де Лоне М. Указ. соч. С. 62.
[5]Набоков В. В. Подлинная жизнь Севастьяна Найта / Пер. Ген. Барабтарло. СПб.: Азбука, 2011. Гл. 9. Цит. по: Марк де Лоне. Указ. соч. С. 68.
[6]Гондек Х.-Д. О переводе философских текстов и о философских теориях перевода // ЛОГОС. Философско-литературный журнал. № 5—6 (84). 2011. С. 198.
321
и гуманитарной практике господствует наивный позитивизм в отношении статуса переводов. Они считаются эквивалентами, приемлемыми субститутами (Ersatz) недоступного оригинала…»[1]. А это не совсем так, поскольку каждый переводчик знает, что перевод — это всегда определенный компромисс с собственной совестью. Очень редко бывает так, что переводчик находит абсолютный эквивалент переводимой фразе (как правило, в этом случае очень простой). На деле, он постоянно интерпретирует текст и в процессе перепроверяет свою интерпретацию, при этом преодолевая сопротивление как своего, так и чужого языка, постоянно от чего-то отказываясь. Неслучайно Поль Рикер в статье «Вызов и счастье перевода» говорит о «работе траура» (термин З. Фрейда) применительно к делу перевода, когда переводчик вынужден отказываться от каких-либо коннотаций, сталкиваясь с непереводимыми пассажами в тексте. Компенсация, которую может дать подобная работа, по мнению Рикера, заключается в «отказе от идеала совершенного перевода»[2]. «В этом трауре по абсолюту и состоит счастье перевода. Счастье перевода оборачивается выигрышем, если перевод, связанный с потерей языкового абсолюта, смиряется с несовпадением между адекватностью и эквивалентностью, с эквивалентностью без адекватности. В этом его счастье»[3]. И, наверное, самым изящным решением проблемы перевода, которое, с одной стороны, усмиряет универсалистские порывы, а с другой — «окультуривает» полноправный диалог между различными языковыми культурами, является терминологическое изобретение Рикера — «языковое гостеприимство»[4], которое позволяет сохранить уникальность чужого текста, не присваивая его своей культуре, что будет на деле его уничтожением. И что возвращает переводу его подлинное назначение — оставаться искусством уважительной передачи чужой жизни, отраженной в тексте, на свой язык.
[1]Гондек Х.-Д. О переводе философских текстов и о философских теориях перевода // ЛОГОС. Философско-литературный журнал. № 5—6 (84). 2011. С. 198.
[2]Рикер П. Вызов и счастье перевода // ЛОГОС. Философско-литературный журнал. № 5—6 (84). 2011. С. 151.
[3] Там же. С. 152.
[4] Там же. С. 153. «…переводить, равно как и рассказывать, можно иначе, не питая надежды заполнить пропасть между эквивалентностью и полной адекватностью. Речь стало быть, о языковом гостеприимстве, в рамках которого удовольствие погостить в языке другого, компенсируется удовольствием принять у себя, в своих собственных покоях, речь чужестранца». Там же. С. 153.
322
Часть 2
Возвратимся к вопросу, поставленному нами в первой части и оставленному там без ответа. Если основа перевода — это реализация коммуникативного эффекта, то какой коммуникативный эффект можно ожидать от «Критики чистого разума» или от текстов Ниффарӣ? Кант пишет в русле определенной философской традиции, решая проблемы, которые имеют свою историю, и потому коммуникативный эффект от его «Критики чистого разума» переживет тот, кто знает историю этих проблем, интеллектуально к ним причастен. В случае же с Ниффарӣ ситуация кажется в принципе безвыходной: его тексты — это диалог с Богом и они не предназначались для людей (как полагают исследователи и что подтверждается самими текстами, парадоксальный характер которых отмечался неоднократно). Если автор хочет, чтобы читатель смеялся, то задача переводчика доступными ему средствами передать этот смех на своем языке. Если философ стремится прояснить некую мысль, то переводчик должен стремится к передаче этой мысли и соответствующему ее прояснению на своем языке. Но что хочет передать Ниффарӣ в своем тексте, если он сам находится как бы в положении рецептора, которому автор (в данном случае Бог) поясняет определенные вещи. Говоря прямо, мы должны поставить вопрос так: что хотел Бог сказать Ниффарӣ? Какой коммуникативный эффект речи Бога передан самим Ниффарӣ в этом тексте? И сумел ли он его передать? В данном случае Ниффарӣ выступает как бы в роли переводчика, который, выражаясь языком Смирнова, погрузился в чистый смысл и передал его на арабском языке. И проблема заключается в том, что у нас нет оригинала — его мистического опыта общения с Богом, а есть только «перевод», с которым мы вынуждены работать. Ситуация осложняется еще и тем, что, в отличие от большинства мистических текстов, авторы которых, как правило, учитывают социальный аспект своих творений, т. е. пишут для людей (избранных), тексты Ниффарӣ «асоциальны», т. е. не предполагают в принципе никакого читателя, которому объяснялись бы мистические смыслы, вернее единственным подлинным читателем оказывается сам Ниффарӣ. А это значит, что под угрозой оказывается сама возможность перевода текстов Ниффарӣ, т. к. неизвестна та главная составляющая, которая делает перевод возможным. В этом смысле переводчик текстов Ниффарӣ несет ответственность гораздо бόльшую за свою интерпретацию и перевод, чем
323
переводчики текстов иных мистических и не только авторов. А переводчик текста «Мин х̱ас̣а̄’ис̣ кала̄михи ал-г̣арӣб фӣ-л-мах̣абба» находится в еще более сложном положении, так как, как верно заметил П. Нвийа, «в данном трактате Ниффарӣ больше, чем где бы это ни было загадочен и туманен, как оракул сивиллы: его мысль только касается вещей, но никогда на них не останавливается»[1]. Таким образом, единственно возможным путем исследования Ниффарӣ оказывается исследование языковой структуры текста, его лексики, синтаксиса и только после этого, если это будет возможно, смыслов.
Немного о самом трактате «Мин х̱ас̣а̄’ис̣ кала̄михи ал-г̣арӣб фӣ-л-мах̣абба». К̣а̄сим Мух̣аммад Абба̄с, издавший арабский текст трактата, поделил его на четыре части: 1) введение, которое носит то же название, что и сам трактат, 2) ответ, 3) доказательство, 4) любовное приветствие. Напомним, что П. Нвийа разбил трактат на три основные части: введение, вопросы и ответы[2]. Мы будем следовать первой разбивке, поскольку именно издание Абба̄са (при всех возможных претензиях к его качеству) нам доступно.
Поскольку изложение содержания трактата представляется на данный момент несколько излишним[3], мы перейдем непосредственно к анализу его ключевой лексики. Отметим, что ряд терминов был уже нами разобран в упомянутой статье[4]. В данной статье мы остановимся на некоторых терминологических особенностях этого текста.
В данном трактате наиболее часто встречаются словообразования, производные от корня «х̣акама». Этот корень в тексте встречается в виде глагольных форм (2 раза), отглагольных (беспредложных) существительных — «х̣укм» (16 раз) и «х̣укума» (2 раза). При этом следует отметить, что существительное «х̣укм» довольно редко используется Ниффарӣ без предлога, в основном оно встречается с предлогом «бӣ» (9 раз) и предлогом «‘ала̄» (19 раз)[5] (несколько раз
[1]Nwyia P. Op. cit. P. 191.
[2]Nwyia P. Niffari et l’amour-nazar // Islamwissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden, 1974. P. 192. Очевидно, что в распоряжении Нвийа были манускрипты, которые он предполагал издать.
[3] С ним можно ознакомиться либо через перевод (см. в приложении), либо в статьях: Paul Nwyia. Op. cit.; Псху Р. В. Указ. соч.
[4]Псху Р. В. Указ. соч.
[5] Если «бӣ-х̣укм» означает «в соответствии с…», то «‘ала̄ х̣укм» несет значение «подчиняясь чему-либо…». Оба выражения в некоторых случаях представляют собой результат глагольного управления, но в ряде случаев представляют собой и независимые формы.
324
употребляются также предлоги «мин» (3 раза), «фӣ» (3 раза), «ила̄» (1 раз), «‘ан» (1 раз)). Общее употребление этого корня (56 раз) позволяет нам говорит о некотором ключевом концепте Ниффарӣ, выражаемым этим корнем, а именно идее господствующего принципа, которое обладает правом суждения, решения, устанавливать правило (отсюда отождествление с самим правилом)[1], «полномочие вершить суд»[2] и выносить решение. Очевидно, что он восходит к кораническому тексту и должен пониматься в аспекте атмосферы Божьего Суда (см., к примеру, Коран, 21:78, 13:41 и другие).
Другой очень важной терминологической особенностью данного трактата является тот факт, что ключевые для суфизма термины «фана̄’» и «бак̣а̄’» встречаются только один раз и только как обычные глаголы «фанийа̄» («исчезать, погибать, истлевать») и «бак̣ийа̄» («оставаться, сохраняться, быть в остатке»). Возникает ощущение, что Ниффарӣ делает это как бы невзначай. «И если возлюбленный стал любящим, то он облачается в «одежду» любящего. В этом случае исчезает (фанийа̄) любящий по причине своего требования и требования им возлюбленным. Он сохраняется (бак̣ийа) из-за изменения требования его возлюбленным»[3]. Из этого можно сделать вывод, что Ниффарӣ, по крайней мере, не имел отношения к школе ал-Джунайда (ум. в 298/910 г.), в рамках учения которого и возникли эти понятия. Но тот факт, что он употребляет эти глаголы в паре в одном предложении, говорит о том, что Ниффарӣ слышал о существовании этих терминов.
Другой терминологической особенностью является то, что, как заметил еще Нвийа, Ниффарӣ перевел восходящие к суфийскому языку термины «наз̣ар» (взгляд) и «гадд ан-наз̣ар» (отведение взгляда) на более высокий уровень (ранее суфии использовали эти слова при описании созерцания красивых юношей)[4]. Если для Платона и большинства суфийских авторов созерцание красивых лиц явля
[1] Соотносится со словом «х̣икма» (мудрость, слово, сказанное в соответствии с истиной). Всякая «хикма» в классическом языке есть «х̣укм», хотя последнее обладает еще и другими значениями. См.: Shorter Encyclopedia of Islam / Ed. on behalf of the Royal Netherlands Academy; by H. A. R. Gibb, J. H. Kramers. New Delhi, 2008. С. 202.
[2]Белл Р., Уотт У. М. Коранистика. Введение. М.; СПб.: ДИЛЯ, 2005. С. 41.
[3]Ниффари. Указ. соч. С. 31.
[4]Nwyia P. Op. cit. P. 194.
325
ется своего рода медитацией, способствующей переходу от уровня тварной красоты к Красоте нетварной, то у Ниффарӣ, как пишет Нвийа, отсутствует само понятие красоты[1]. Я бы добавила к этому, что у него вообще отсутствует понятие того, что вызывает любовь или ее заслуживает. Когда Ниффарӣ описывает любящий взгляд между двумя личностями (при этом не важно, идет ли речь о простых смертных или о мистической любви между Богом и человеческой душой), то любая оценка достоинств объекта любви является причиной «деградации» любви. Неслучайно Ниффарӣ вводит такой термин как «х̣айра» (смущение, замешательство) как характеристики некоторого чувства стыда со стороны любящего, который отвлекся от возлюбленного, переключив свое внимание на что-то иное, пусть весьма достойное и связанное с самим возлюбленным. Главное в этом диалоге взглядов оказывается не созерцание, а динамика взаимного перехода друг в друга любящего и возлюбленного, одновременно оказывающимися таковыми. По сути, этим выражается идея безусловной любви и одновременно ее требование: любовь, если это подлинная любовь, — это полная самоотдача и смелость растворения в возлюбленном. А поскольку речь идет о Божественной любви, то чистота любви полностью исключает какой-то побочный эффект (в виде красоты, достоинств и т. д., которые, если и существуют, то не замечаются любящим как нечто отличное от возлюбленного).
[1]Nwyia P. Op. cit. P. 196.
326
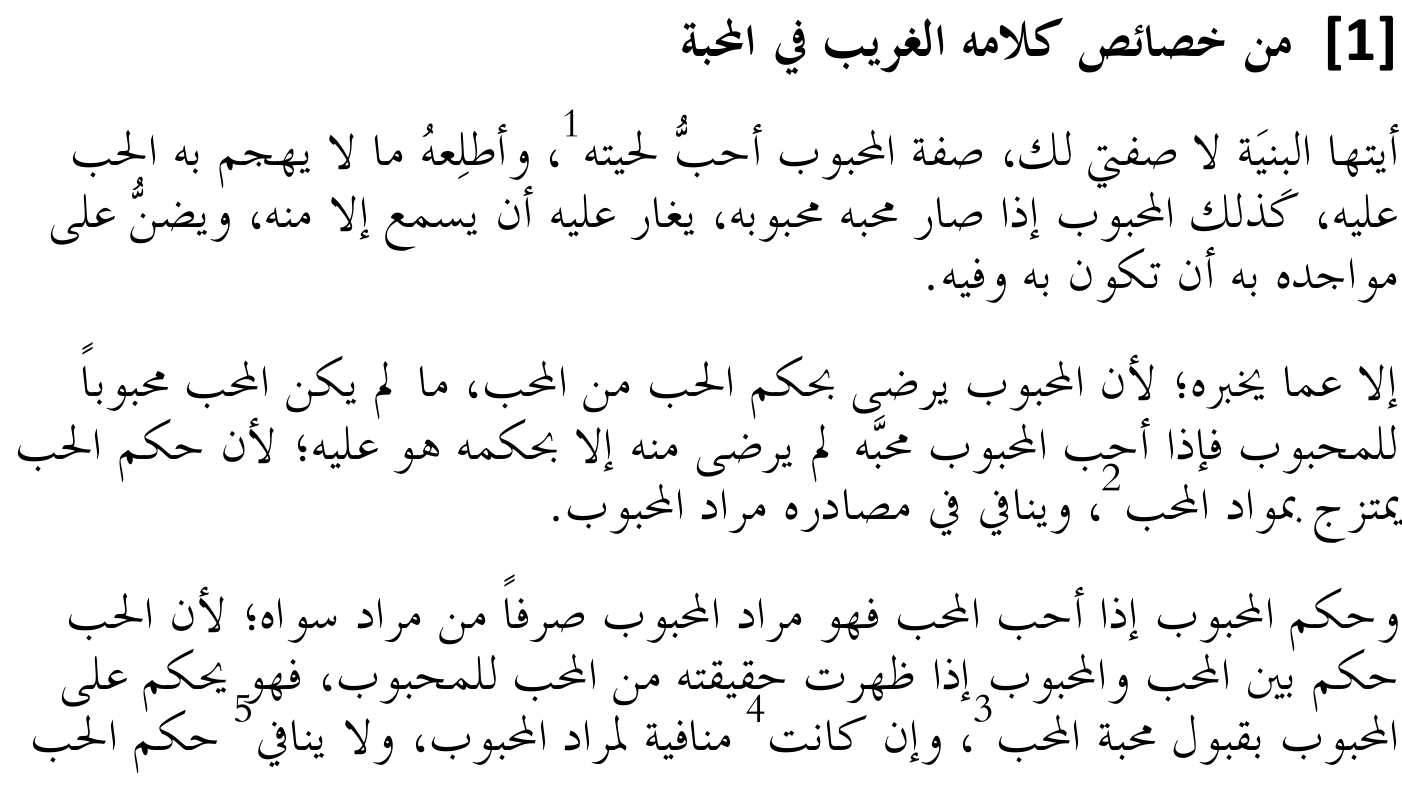

327
Мух̣аммад ‘Абд ал-Джабба̄р ан-Ниффарӣ[1]*
Относительно Его чудесной речи о любви1
[Относительно Его чудесной речи о любви]
1. О, тело[2], нет ни [одного] Моего свойства, [которое принадлежало бы] тебе, свойства возлюбленного, [которого] Я люблю за его любовь[3]. Я поведаю ему, из-за чего любовь не нагрянет к нему. Равным образом возлюбленный, если любящий его станет его возлюбленным[4], станет ревностно стремиться к тому, чтобы тот слушал только его, и станет скупиться на чувства его, [стремясь к тому], чтобы они были [только] к нему и в нем.
2. За исключением того, о чем он сообщает ему, поскольку возлюбленный довольствуется суждением любви [со стороны] любящего, пока не станет любящий возлюбленным для возлюбленного, а если возлюбленный полюбит любящего его, то удовлетворится с его [стороны] только им, он — его долг; поскольку суждение любви смешано с сущностью любящего и противоречит в своих основаниях[5] желанию возлюбленного.
3. Суждение возлюбленного, если он любит любящего, — это желание возлюбленного, проистекающее из желания иного, чем он. Поскольку любовь — это суждение между любящим и возлюбленным, если истина его проявляется [со стороны] любящего [в отношении] возлюбленного, тогда оно заставляет возлюбленного принять любовь любящего, даже если есть противоречие с желанием возлюбленного. Суждение любви не противоречит жела
[1]* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-03-00414.
1 Перевод с арабского сделан Р. В. Псху с издания: Мух̣аммад бен ‘Абд ал- Джабба̄р ан-Ниффарӣ. Ал-А‘ма̄л ал-ка̄мила лӣ-н-ниффарӣ. Да̄к̣ат ал-‘иба̄ра. Тах̣к̣ӣк̣ ва так̣дӣм К̣асим Мух̣аммад ‘Абба̄с. Сӯрия, Димашк̣, 2007. С. 29—37.
[2] В тексте «бинйа», что можно перевести как «структура, телосложение», т. е. человек как физическое тело.
[3] В издании Абба̄са вместо слова «его любовь» стоит «его бороду», но при этом приводится ссылка и на другое издание, где дано слово «любовь», и которое нам кажется более уместным в данном контексте. Хотя возможно, что слово «борода» связано с требованием к правоверному мусульманину носить бороду. Возможно отсылки и к Ветхому Завету, где борода воспринималась как символ посвящения человека на служение Богу (см.: Библия, Левит, 19:27, «Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей»).
[4] Т. е. когда возлюбленный сам полюбит того, кто любит его.
[5] То, что исходит от самого возлюбленного.
328

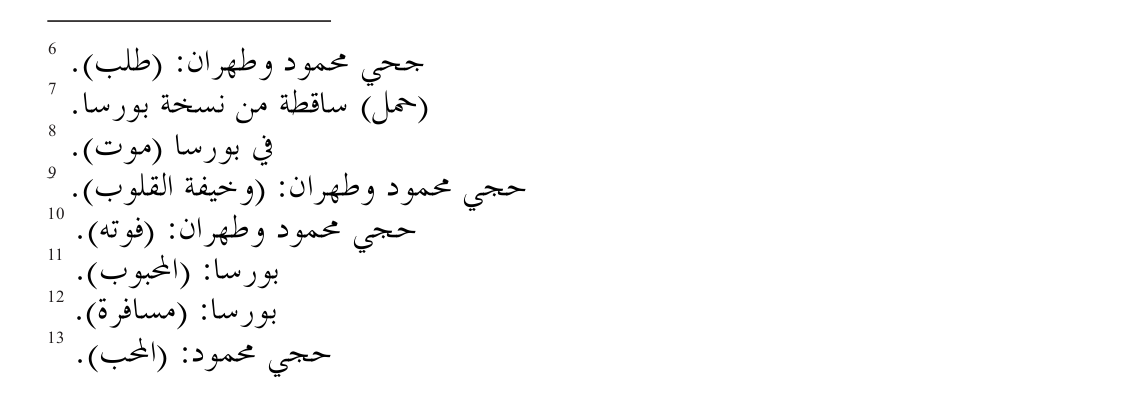
329
нию возлюбленного в [своем] источнике[1], поскольку в источнике любящий — это просящий, а возлюбленный дорог и не доступен. Он заслуживает просьбы и удовлетворяется этим [со стороны] просящего.
4. Подлинно, возлюбленный удовлетворяется просьбой в нем в источнике[2] [своем]; поскольку с самого начала существовала лишь просьба в сущности возлюбленного (‘айн ал-мах̣бӯб). И если любящий настойчив в своей просьбе, то находит ответ. Подлинно, вначале возникла просьба в сущности возлюбленного, не в его действии; поскольку любящий вначале не в состоянии вынести суждение возлюбленного, захватывающее любящего; он привязан к возлюбленному в силу страха потерять его, страха потери, с которым не остается чувство любви за исключением страха его потери.
5. Когда любовь заставляет возлюбленного подчиняться любви любящего, то любящий привыкает к тому, что он домогается возлюбленного. Ему спокойно от того, что возлюбленный проявляет только подчинение любви. Силой своей успокоения от того, что любящий подчиняет, любящий пытается разрушить свои упорные домогательства возлюбленного потому, что приложил все усилия в этом, но не потому, что ему нравится домогаться вместо того, чтобы завоевывать возлюбленного.
6. И если любящий дружески примет то, что он привык к этой просьбе [преследующей возлюбленного], и будет действовать [в соответствии с этим], то он сможет увидеть основания[3], а возлюбленный будет смотреть на просящего, что хотел он своей просьбой [достичь], не на саму просьбу. Искренний любящий смотрит на просьбу, в какую сторону обращает его намерение возлюбленного. Он не смотрит на возлюбленного в тайне своего выбора направления просьбы.
7. Подлинно суждение любви в своих основаниях противоречит в некотором отношении желанию возлюбленного, а оно [заключается в том], чтобы любящий видел во время подчинения ему возлюбленного след своей просьбы, и он не просит его о том, что принимает возлюбленный. Любящий не отказывается видеть свою просьбу в возлюбленном в принятии им возлюбленным,
[1] То, что он получает извне.
[2] См. сноску 6.
[3] См. сноску 5.
330
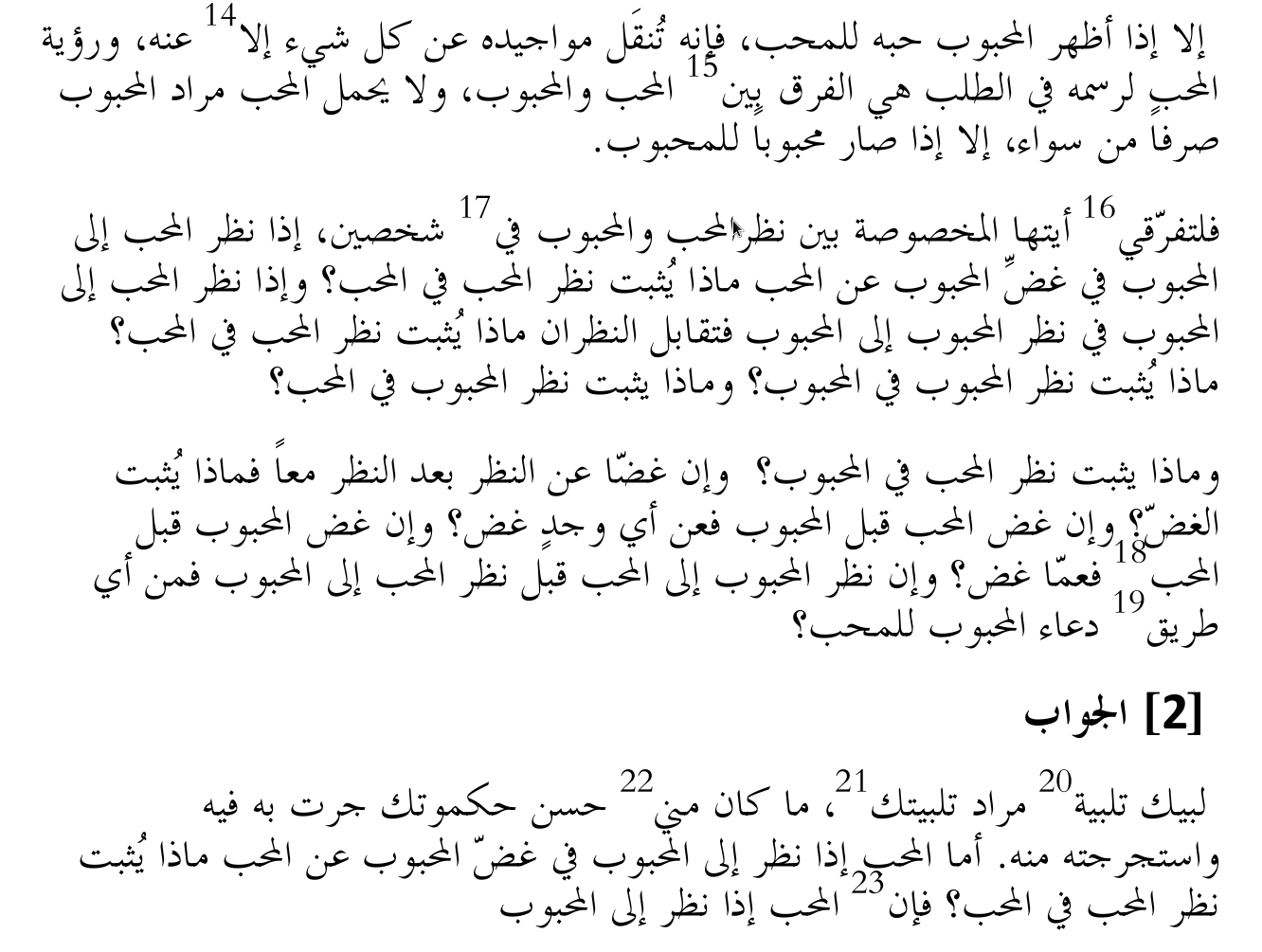
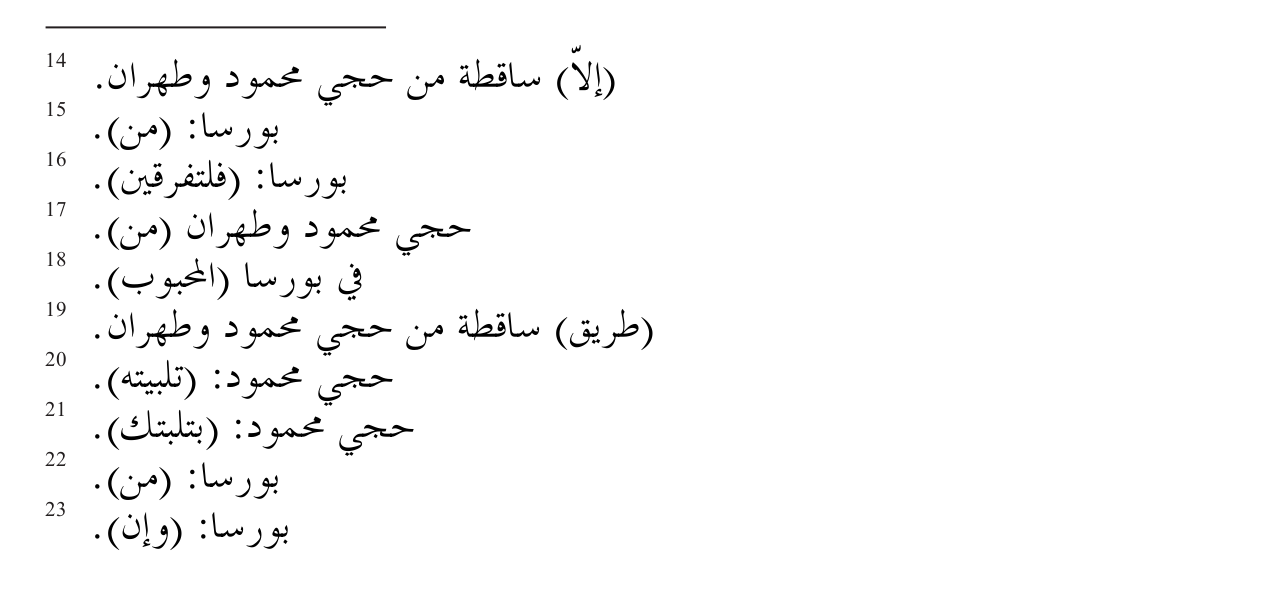
331
если только возлюбленный не проявит своей любви к любящему. Воистину, чувства его заимствуются из всего, но не от него, и видение любви к его следу в этой просьбе — это то различие, [которое существует] между любящим и возлюбленным. Любящий не переносит желание возлюбленного, связанное не с ним, если только он не станет возлюбленным для [своего] возлюбленного.
8. О, особенное[1] (мах̱с̣ус̣а), да разделишься ты между взглядом любящего и возлюбленного как двух личностей. Если любящий взирает на возлюбленного, когда тот опускает глаза при виде любящего, то, что утверждает взор любящего в любящем?[2] А если любящий смотрит на возлюбленного, когда возлюбленный взирает на возлюбленного, и встречаются их взгляды, то что утверждает взгляд любящего в любящем?[3] Что утверждает взгляд возлюбленного? И что утверждает взгляд возлюбленного в любящем?[4]
9. И что утверждает взгляд любящего в возлюбленном? И если они оба опустили глаза после того, как смотрели одновременно [друг на друга], то что утверждает это опускание [глаз]? А если любящий опустил глаза до [того, как] возлюбленный [опустил свои глаза], то по какому чувству он опустил глаза? А если возлюбленный опустил глаза до [того, как] любящий [сделал это], то отчего же он опустил глаза? Если возлюбленный взирает на любящего до того, как любящий смотрит на возлюбленного, то каким путем возлюбленный взывает к любящему?
[Ответ]
10. Вот я перед тобой[5]! [Как] ответ на твое «вот я перед тобой». То, что [исходит] от Меня — это благой приговор тебе.[6] Что касается любящего, то если он смотрит на возлюбленного, когда тот опустил глаза, то что утверждает взгляд любящего в самом любящем? Любящий, если он смотрит на возлюбленного, когда тот опустил
[1] Нвийа переводит как «особая, относящаяся к числу привилегированных!» (o toi la privilégiée). См.: Nwyia P. Op. cit. P. 192.
[2] Т. е. пока нет ответа на любовь, что дает самому любящему то, что он смотрит на возлюбленного, не получая ответа? Здесь и далее примечания переводчика.
[3] Т. е. когда двое любят друг друга и смотрят друг на друга, что дает им этот взгляд?
[4] Другими словами, что дает возлюбленному взгляд на того, кто любит его?
[5] Ниффари использует фразу, которую обычно произносят во время исполнения церемонии хаджа.
[6] Арабский текст очень запутан.
332
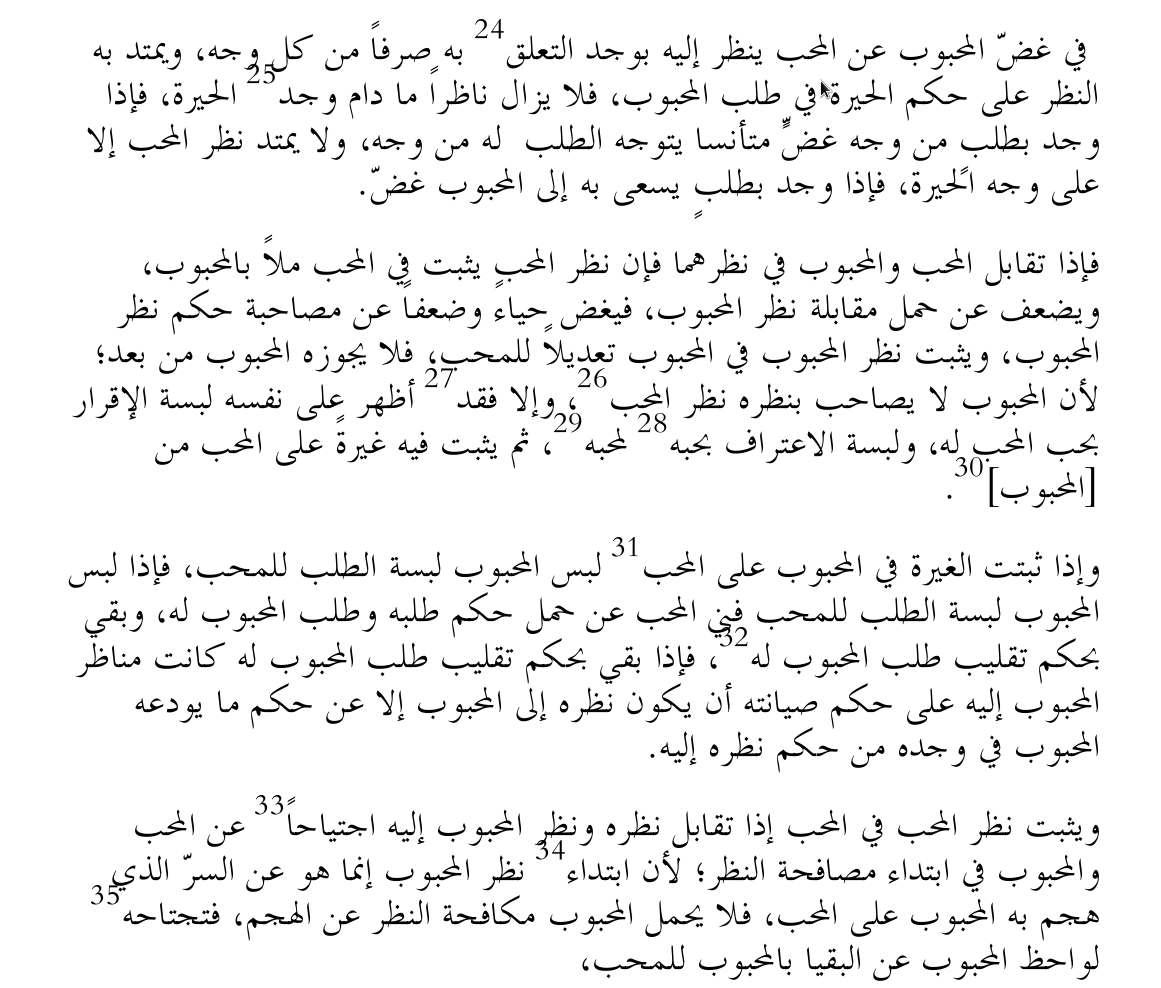
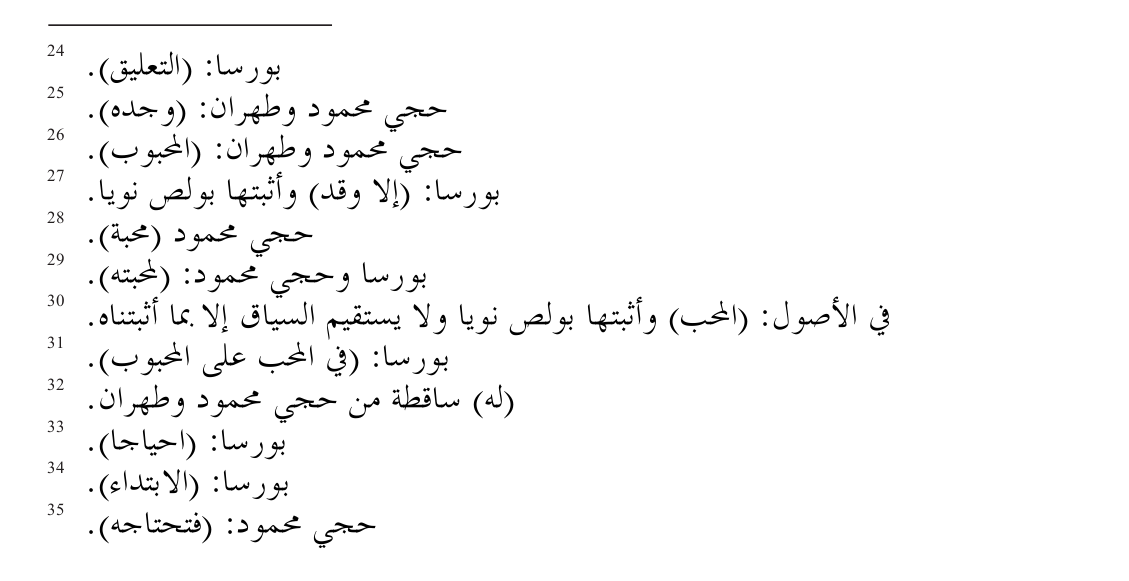
333
глаза, взирает на него с чувством привязанности, не взирая ни на что, и им (т. е. чувством. — Р. П.) продлевается взор по причине недоумения от просьбы возлюбленного. И он смотрит до тех пор, пока длится недоумение. Если он любит просьбу в опущении глаз, испытывая радость, [ибо] просьба исходит к нему от лица. Взгляд любящего длится только благодаря замешательству. Если он любит просьбу, с которой он стремится к возлюбленному, то опускает глаза.
11. И если встречаются взглядом любящий и возлюбленный, то взгляд любящего утверждает в любящем наполненность возлюбленным, и он не способен выдержать взгляд возлюбленного. [Поэтому] он опускает глаза из [чувства] стыда и слабости, [испытываемой им] по причине сопутствующего суждения взгляда возлюбленного. Взгляд возлюбленного утверждает в самом возлюбленном смягчение для любящего, и после возлюбленный не выдерживает его, поскольку возлюбленный не сопровождает своим взглядом взгляд любящего. Он всего лишь примеряет на себя признание любящего в любви к нему (т. е. возлюбленному. — Р. П.) и признание в своей любви к любящему его. Затем утверждает в себе самом изменение от [положения] возлюбленному к [положению] любящего.
12. И если утвердилось в возлюбленном изменение к [положению] любящего, то возлюбленный облачается в «одежду» просьбы любящего. И если возлюбленный облачается в «одежду» просьбы любящего, то исчезает (фанийа̄) любящий по причине своей просьбы и просьбы возлюбленного в нем. Он пребывает (бак̣ийа̄) посредством изменения просьбы его возлюбленным. Если он пребывает посредством изменения просьбы его возлюбленным, то для него картины возлюбленного являются благодаря его непорочности, чтобы его взгляд на возлюбленного [проистекал] только из суждения того, что было вложено возлюбленным в свое чувство, [исходя] из своего взгляда на него.
13. Если возлюбленный и любящий встречаются взглядами, то взгляд любящего утверждает в любящем опустошенность от любящего и возлюбленного в начале «рукопожатия» взглядом, поскольку начало, когда возлюбленный начинает смотреть, [проистекает] всего лишь из тайны, с помощью которой возлюбленный атакует любящего. Возлюбленный не может вынести то, что взгляд защищает это нападение [любящего]; его сметают глаза возлюбленного тем, что осталось у возлюбленного [по отношению] к любящему,
334
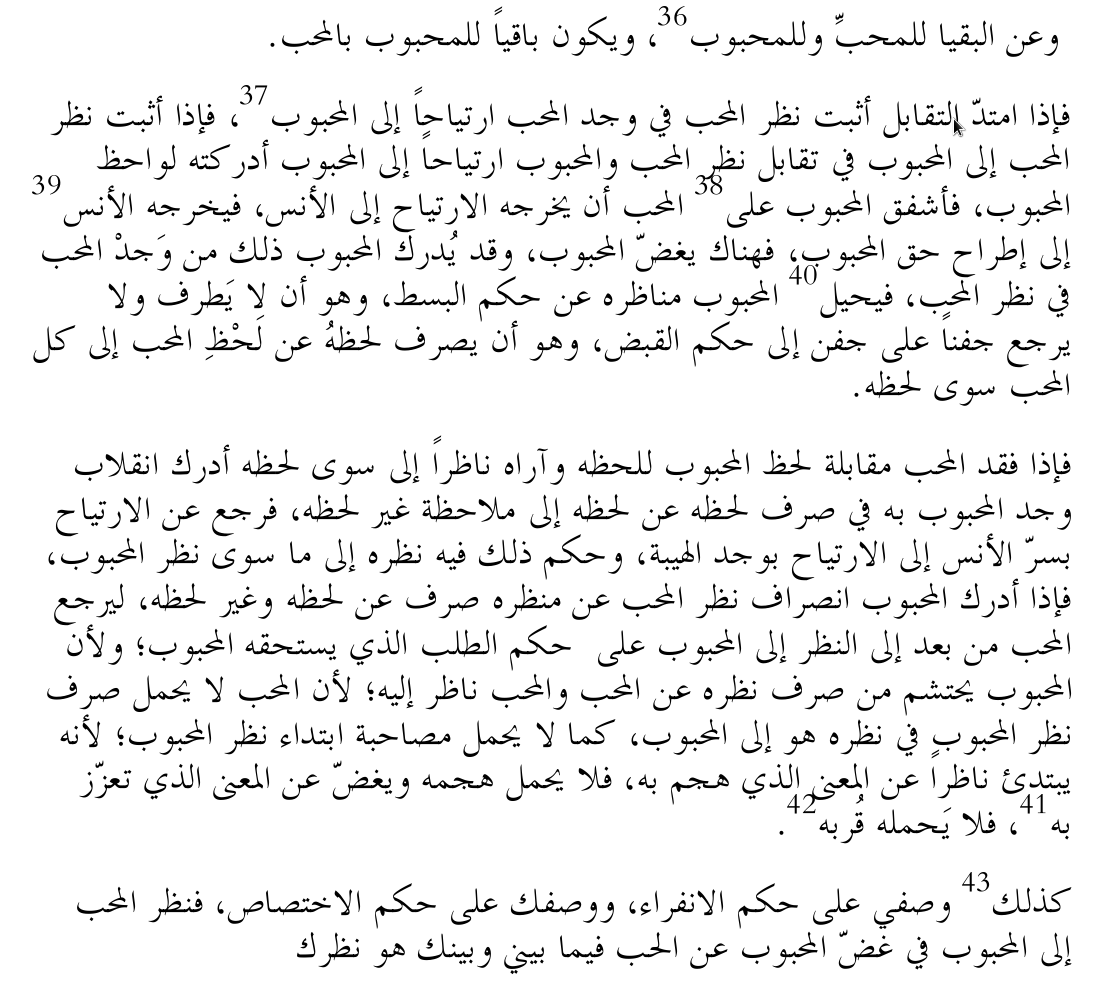
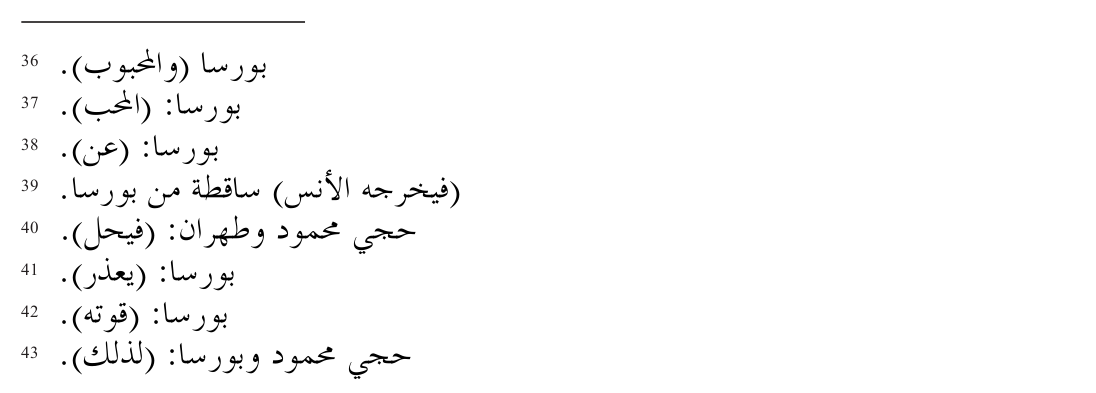
335
и тем, что осталось [по отношению] к любящему и возлюбленному, и он остается для возлюбленного любящим.
14. Если они долго стоят друг перед другом, то взгляд любящего утверждает в любящем чувство удовольствия [и радости] в отношении возлюбленного. Если взгляд любящего, [обращенный] к возлюбленному, утверждает при их встрече удовольствие [и радость] в отношении возлюбленного, то глаза возлюбленного понимают это. И возлюбленный испытывает опасение за любящего, как бы [его] удовольствие не перешло в веселую общительность (’унс), а веселая общительность – в пренебрежение права возлюбленного. Поэтому возлюбленный опускает глаза. Возлюбленный может понять это из чувства любящего, [выражаемого] во взгляде любящего. И возлюбленный отворачивает свои глаза (мана̄з̣ир) от суждения довольства (баст̣). Он не мигает и смотрит пристально. Он отвращает свой взор от взора любящего [и взирает] на всего любящего, но избегает его взора.
15. Если любящий потерял встречу со взором возлюбленного и увидел, что тот смотрит на что-то иное, а не в глаза, он понимает, что в чувствах возлюбленного произошла перемена, так как он отвратил свой взор от его взгляда и обратил его на что-то иное. [Любящий] оставляет удовольствие от радости общения и возвращается к удовольствию от радости почтительного отношения (сарр ал-г̣айба). Это обращает его взор на то, что не является взором возлюбленного. Если возлюбленный осознал, что взор любящего отвратился от его вида (манз̣ар), то он отвращает свой взор от его взора и всего иного для того, чтобы после вернуть любящего к тому, чтобы он смотрел на возлюбленного в силу его просьбы, которой возлюбленный заслуживает. Поскольку возлюбленный стыдится того, что отвратил свой взор от любящего, а любящий продолжает смотреть на него. Поскольку любящий не выдерживает того, что возлюбленный отвратил свой взор, когда он смотрел на него. Также он не выносит, когда возлюбленный начинает смотреть [на него], так как он начинает смотреть, но смысл этого — будто он атакует [его взглядом]. [Любящий] не выносит этой атаки и опускает глаза, не замечая этот смысл, который укрепляется им, и он не выносит его близости.
16. Также Мое качество [познается] на основе единственности (инфира̄д), а твое качество — на основе избранности (их̱тис̣а̄с̣). Любящий взирает на возлюбленного, когда тот не взирает на любовь, [которая существует] между Мной и тобой и это твой взор,
336
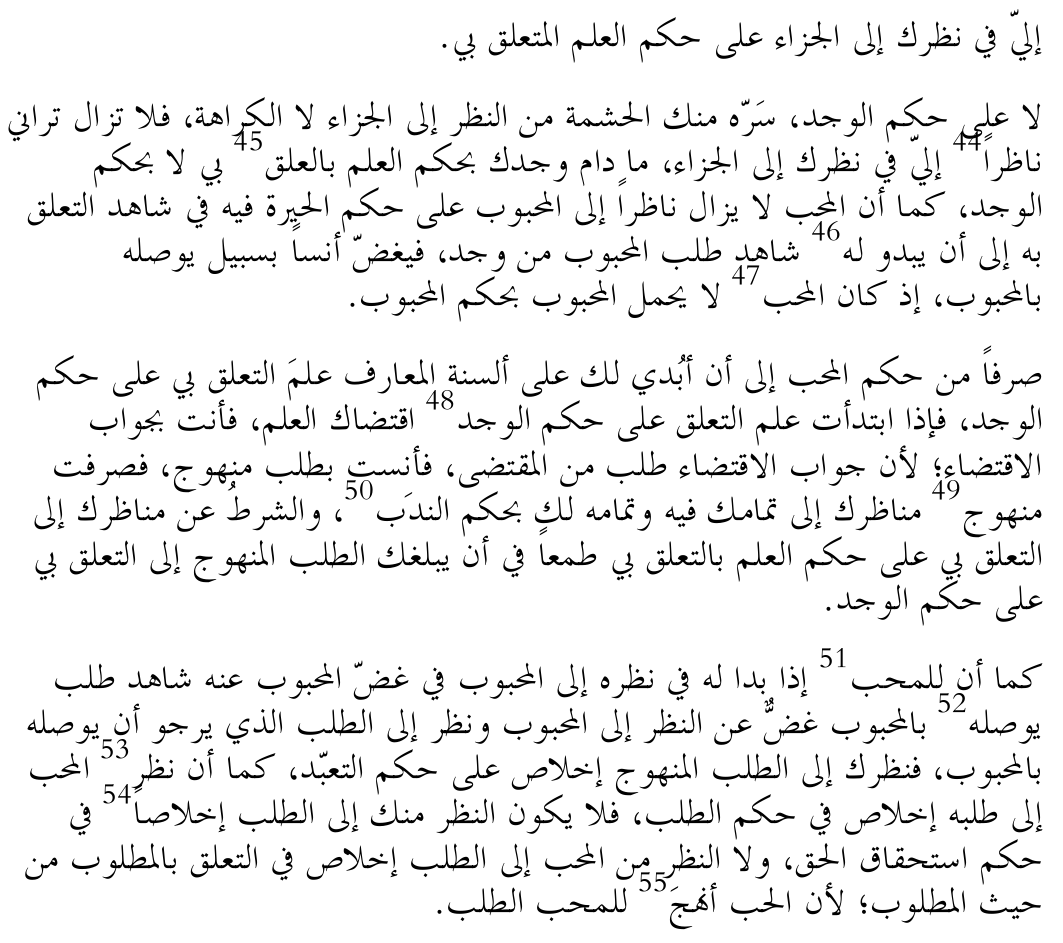
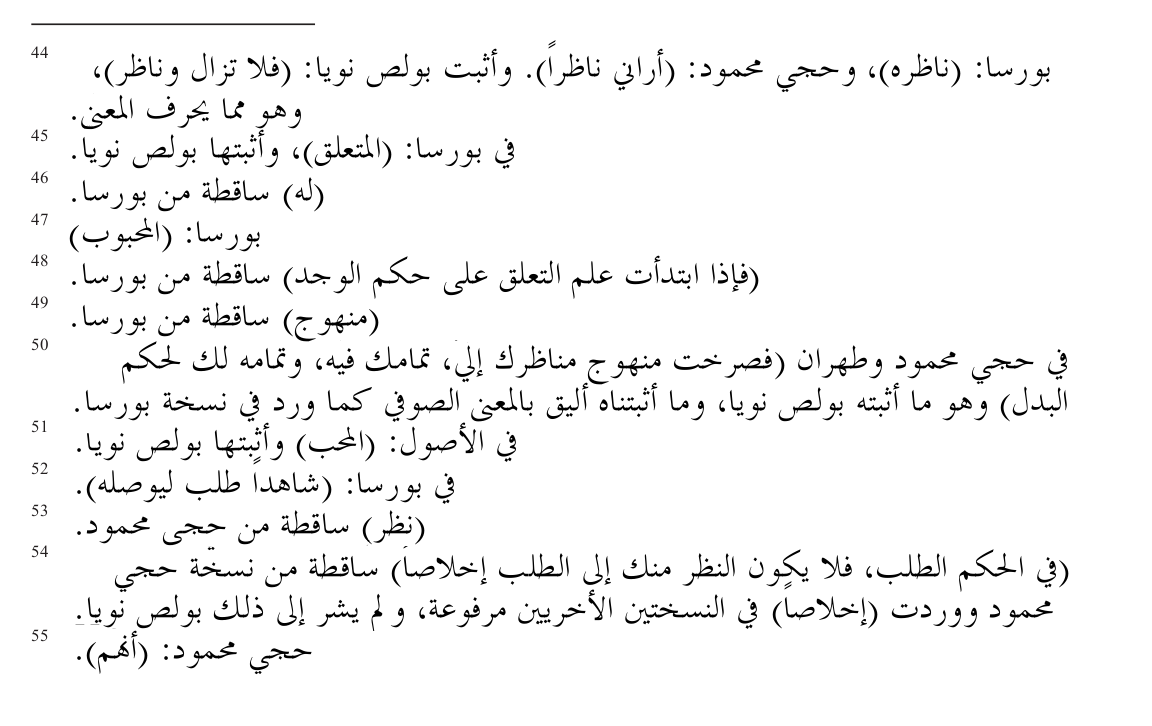
337
обращенный на Меня, в твоем взоре, обращенном на вознаграждение на основе знания, связанного со Мной.
17. [Но] не в силу чувства. Твоя скромность во взирании на вознаграждение, [но] не отвращение [к нему], радует его. Ты продолжаешь видеть Меня, взирая на Меня в своем взоре, [устремленном] на вознаграждение. Твое чувство продолжает [основываться] на знании о любви ко Мне, но не [самом] чувстве. Также любящий продолжает взирать на возлюбленного в смущении (х̣айра), когда видит привязанность к нему до тех пор, пока ему кажется, что он видит просьбу возлюбленного [к нему] на [его] лице. Он перестает радоваться, что дает возможность ему соединиться с возлюбленным [вновь], так как любящий не [может] вынести возлюбленного из-за [самого] возлюбленного.
18. Исходя из суждения любящего, Я покажу тебе на языке знаний (ма‘ариф) знание (‘илм) привязанности ко Мне суждением чувства. И если ты предпочтешь знание привязанности суждением чувства, то знание это взыщет с тебя (ик̣тад̣а̄), и ты в ответе на это взыскание, поскольку ответ на взыскание — это прошение взыскуемого. Мне нравится ясное прошение. Ты проходишь путь следов своих взоров до конца, а конец его [означает] для тебя заплачку (надб). Признак следов твоих взоров — привязанность ко Мне посредством знания о привязанности ко Мне из-за жажды, чтобы достигло тебя ясное прошение о привязанности ко Мне на уровне чувства.
19. Также и для любящего, если при взгляде на возлюбленного, когда тот опустил глаза перед ним, ему покажется, что он видит просьбу, соединяющую его с возлюбленным, то он опускает взор перед возлюбленным и взирает на просьбу, которая просит соединить его с возлюбленным. Твой взор, [обращенный] на ясное прошение — это искренность в служении Богу (та‘аббуд). Также как взор любящего на его просьбу — искренность в этой просьбе. И пусть не будет взор, [исходящий] от тебя на просьбу, искренностью во [мнении, будто ты] заслуживаешь [это] право. И взор любящего на просьбу пусть не будет искренностью в привязанности к просимому в просимом. Поскольку любовь делает для любящего ясным прошение.
338
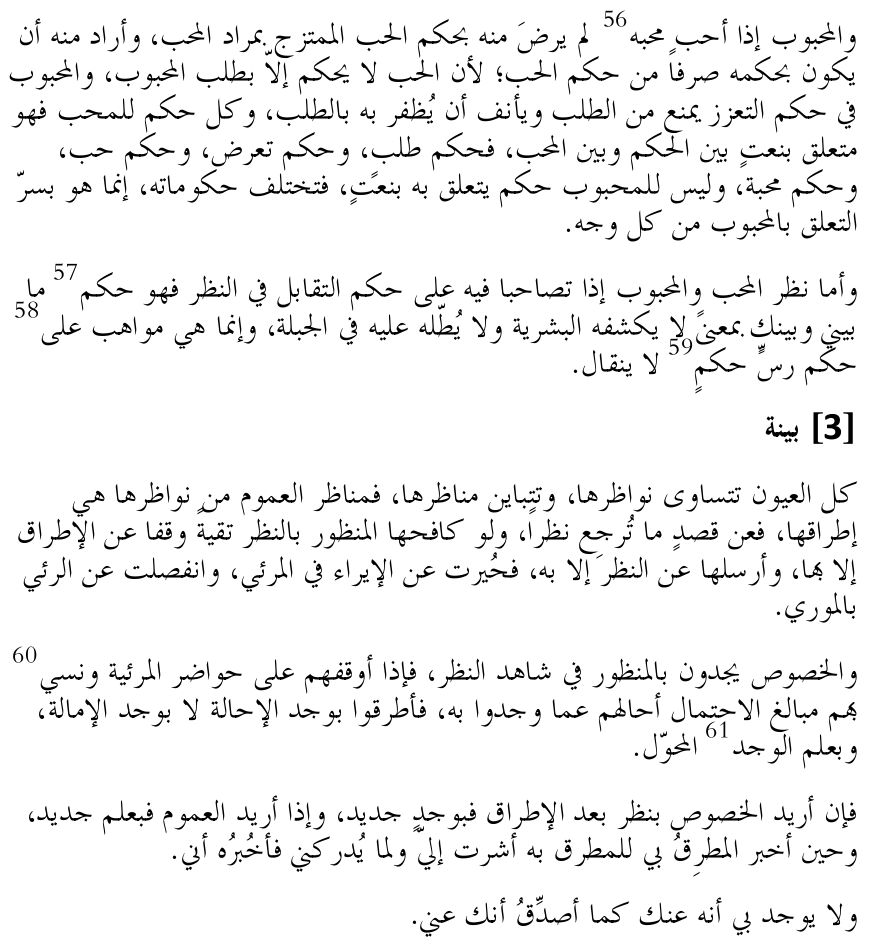
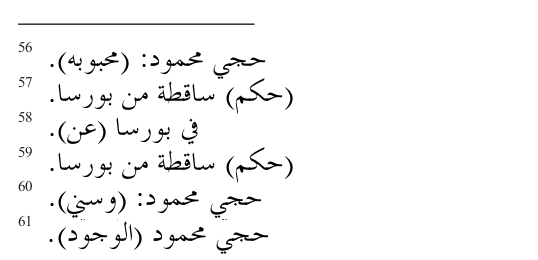
339
20. Возлюбленный, если любит любящего его, не довольствуется от него суждением любви, соединенной с предметом желаний любящего. Он хочет от него, чтобы он был в своем суждении чистым [выражением] суждения любви, поскольку любовь судит только по просьбе возлюбленного. Возлюбленный в суждении усиления (гордости. — Р. П.) препятствует просьбе и чувствует отвращение к тому, чтобы быть завоеванным им благодаря этой просьбе. И всякое суждение для любящего, связанное с определением [отношения] между суждением и любящим: суждение просьбы, суждение противления, суждение любви (х̣убб), суждение привязанности (мах̣абба), но не для возлюбленного суждение, связанное с ним определением, и разнообразны его приговоры (х̣укӯма̄тух). Подлинно, он радуется привязанности к возлюбленному со всех сторон.
21. Что касается взора любящего и возлюбленного, если они подружились в нем благодаря встрече взглядов, то это суждение, которое [существует] между Мной и тобой, смысл которого не открыт человеческому роду и не проявляется в форме (джибла). Это дар (мава̄гиб) суждения тайны, суждения, которое нельзя передать.
22. Все глаза одинаковы в своей [способности] видеть, но различаются тем, чтό они видят. То, что видят все [заставляет] потупить взгляд. Намеренно возвращается взор, даже если тот, на кого смотрят, борется с ним взором, остерегаясь прекращения потупления взора кроме как ими, и посылает взгляд только им; они смущаются показать видимое и перестают смотреть.
23. Особенные же испытывают чувство к наблюдаемому при [обращении] взора [на них]. Если остановить их на видимом и ими забыты степени возможности, которая заставляет их отвернуться от того, что они любили, то они опускают взор из-за чувства того, что заставили, а не из-за чувства того, что отвратили [взор] (т. е. из-за знания, что чувство отклонено. — Р. П.)
24. Если Я захочу, чтобы особенные смотрели после того, как потупят взор, то [наделю их] новым чувством. Если Я захочу, чтобы простые [люди смотрели], то [наделю их] новым знанием. И когда опускающий взор говорит обо Мне тому, перед кем он опускает взор, Я указываю на себя. И когда он осознает Меня, Я сообщаю ему, что [это] Я. И не видно Мне, что он от тебя, как Я утверждаю, что ты — от Меня.
340
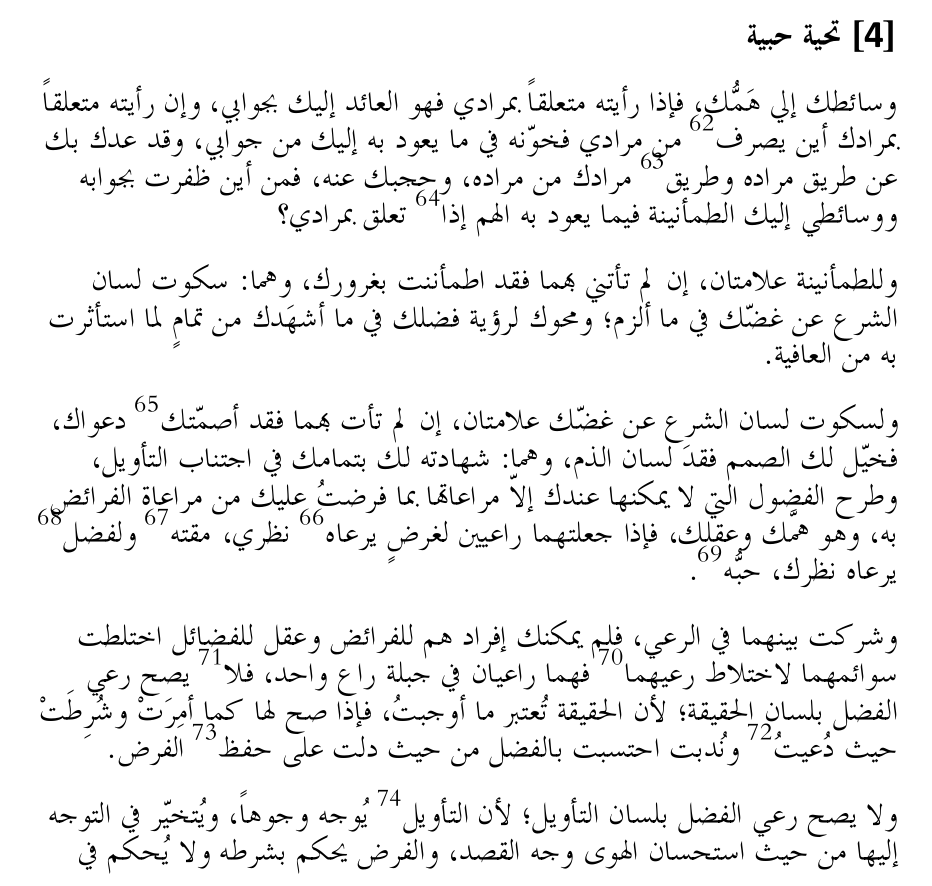

341
25. Твои способы [достичь] Меня — это твоя забота. Если Я увижу, что она связана с Моим желанием, то она вернется к тебе с моим ответом. Если Я увижу, что она связана с твоим желанием, куда она уйдет от Моего желания? Посредством нее к тебе возвращается Мой ответ — вини ее в этом предательстве… И оно уведет тебя с пути своего желания от его желания и покроет тебя от себя, и откуда получишь его ответ и мои способы [достижения] тебя — спокойствие в заботе, если она связана с Моим желанием?
26. У спокойствия два признака, если ты не придешь ко Мне с ними. То пребываешь в самообольщении. Они таковы: молчание языка религиозного закона относительно твоего небрежения того, что вменено в обязанность; и уничтожение тебя для видения своего достоинства в том, что Я полностью дал тебе видеть как свое, присвоенное тобою благополучие.
27. У молчания языка религиозного закона в отношении небрежения два признака, если ты не обладаешь ими, то Я не услышу твоей просьбы и ослепит тебя глухота из-за потери языка укора. Они таковы: его свидетельство за тебя о том, что ты полностью воздерживаешься от объяснения, отбрасываешь достоинства, которых у тебя не может быть без уважения и заботы о них тем, что вменил в обязанность тебе уважать предписания им. Это твоя [единственная] забота и ум, и если ты заставишь их заботиться о цели, о которой заботится Мой взор, [то возникнет] отвращение к ней; а [если] ради достоинства, о котором заботится твой взор, [то возникнет] любовь к нему.
28. И ты участвуешь в опеке. Тебе нельзя посвятить заботу обязанностям, а ум — добродетелям. Смешалось их стадо из-за смешения их пастьбы, они (забота и ум. — Р. П.) пастухи по природе один пастух. Нельзя заботиться о добродетели языком истины, так как истина считается тем, что Я вменил в обязанность. Если верно для нее как она была приказана и поставлена условием, в то время как Меня призывали и просили, Я довольствуюсь добродетелью в аспекте ее указания на сохранение предписания.
29. Нельзя заботиться о добродетели языком объяснения, так как объяснение оказывает почет лицам, и избирается в направлении к ним с точки зрения ободрения увлечения в отношении цели. Предписание судит самим собой, но не судится в своем условии.
342
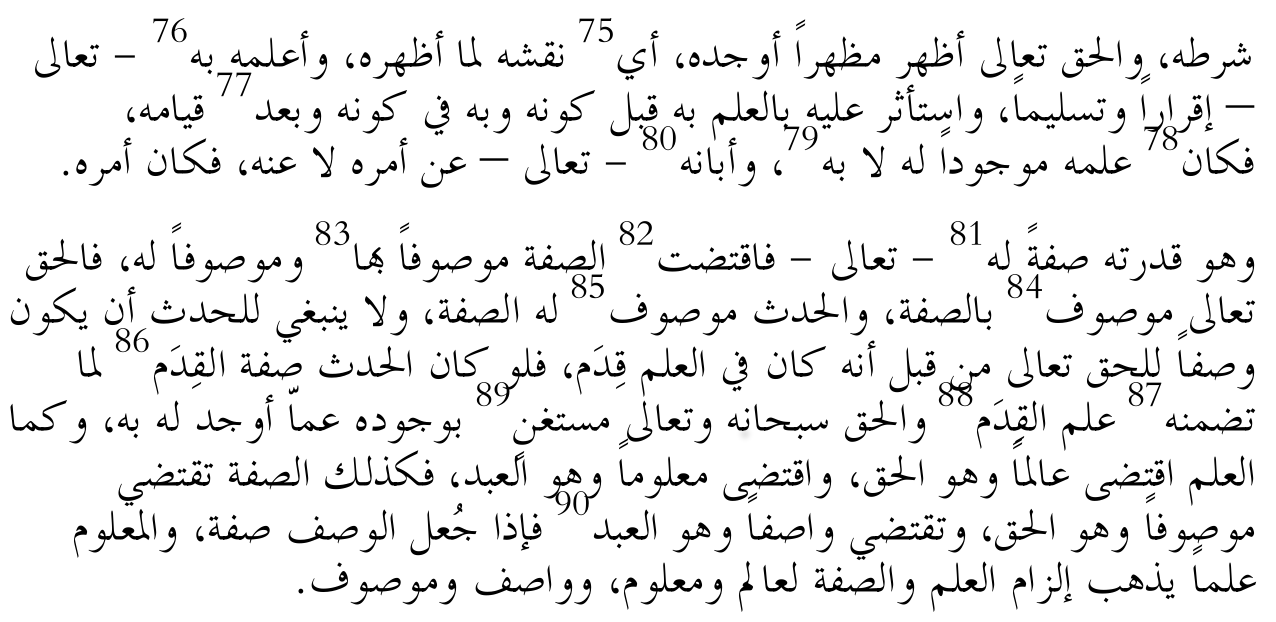
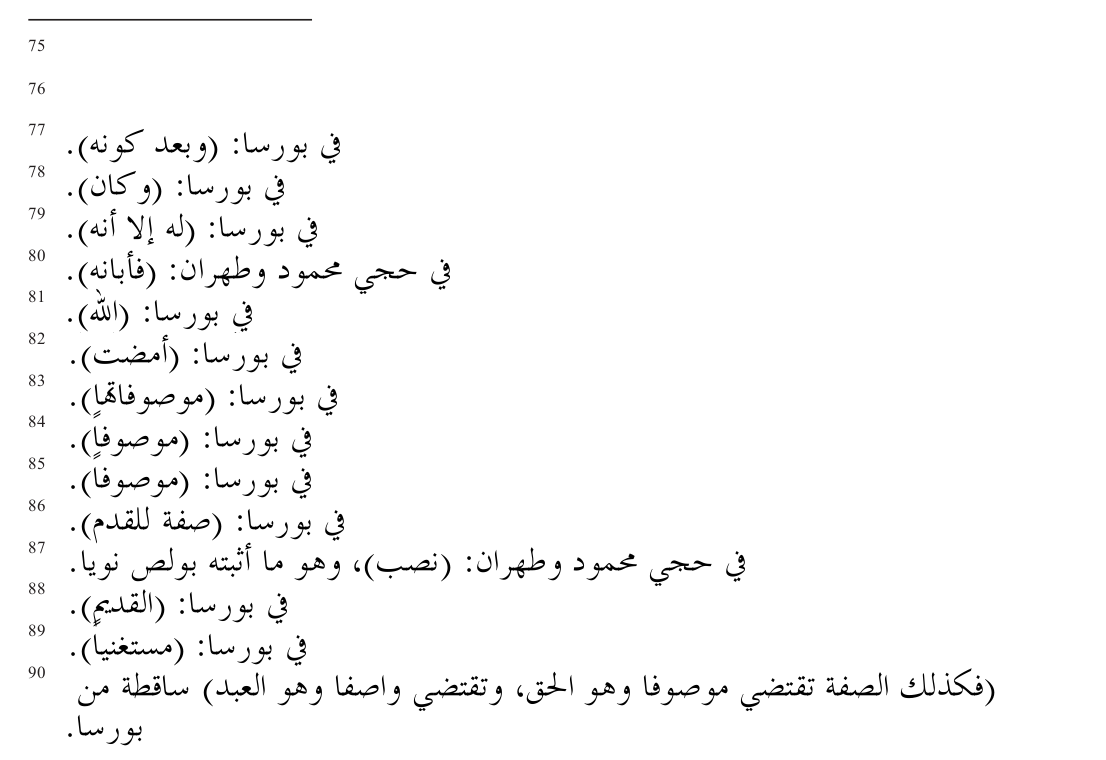
343
Высшая Истина явила явление, которое создала, т. е. выгравировала его, когда проявила и сообщила о себе — Высшей — установлением и признанием, овладело ею знанием о ней до его бытия, и им в его бытии и после его совершения. И знание его существовало у него, но не посредством им. И показало его — Высший — своей заповедью, а не самим собой.
30. Это его сила, [которая является] его атрибутом — Высший — она требует качества, описываемого ею и для него. Высшая Истина описывается качеством, случайность описывается у него качество. Случайность не должна быть качеством для Высшей Истины раньше того, что было в знании вечностью. Даже если случайность была атрибутом вечности, после того как ее включило в себя знание вечности и истины, Слава Богу, не нуждается в ее существовании оттого, что создал для него и им. Как знание требует знающего и он — истина, и требует познаваемое и оно — раб, так же качество требует своего объекта и он — истина, и требует описывающего и он — раб. Если описание превратилось в качество, а познаваемое в знание, то исчезает необходимость знания и качества для познающего и познаваемого, описывающего и описываемого.
 |
9.2 Учение о шāхиде в средневековой суфийской литературе (В. А. Дроздов)[1] |

|
344
Лицезрение красивой внешности (наз̣ар) нередко толковалось суфиями как глубокомысленное созерцание всемогущества Бога или просто как служение Богу — ‘иба̄да. Красивый человек расценивался как средство для достижения экстаза. С суфийской формой наз̣ар тесно связана эволюция термина ша̄хид и известная проблема созерцания Бога — ру’йат ’алла̄х. Термин ша̄хид чаще всего был связан с любовью зрелого суфия к юноше, в котором он видел проявление божественной красоты, т. е. ша̄хид — живое свидетельство божественной красоты. Буквально ша̄хид (араб.) означает или «присутствующий», или «свидетель». Как отметил X. Риттер, суфии прежде всего называют этим словом некое физическое явление, в силу которого внутренний образ отсутствующего предмета становится как бы присутствующим; этим словом обозначают и любую превалирующую в данный момент идею и, наконец, — красивого человека, которого любят либо за то, что он своей красотой свидетельствует о недоступной созерцанию красоте Бога, либо потому, что носят в сердце Его образ. Понятие ша̄хид широко распространилось, особенно в персидском языке, и обозначало в нем как красивого юношу, так и — реже — красивую женщину1.
Классическое определение понятия ша̄хид дает знаменитый мистик и религиозный ученый Абӯ ал-К̣а̄сим ал-К̣ушайрӣ (376—465/986—1072) в своем труде «ар-Риса̄ла ал-к̣ушайриййа фӣ ‘илм ат-тас̣аввуф» («Трактат ал-К̣ушайрӣ о суфизме»):
Они часто употребляют в своих речах слово шāхид [и говорят]: «Такой-то находится при ша̄хиде знания, такой-то — при ша̄хиде экстаза, вызванного эмоциями (ваджд), такой-то — при ша̄хиде состояния (х̣а̄л)» — и подразумевают в слове шāхид то, что присут
[1]Ritter H. Das Meer der Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Farīduddīn ‘Aṭṭа̄r. Leiden, 1955. S. 470, 473.
345
ствует в сердце человека, т. е. то, чем его мысли в основном заняты (ал-г̣а̄либ ‘алайхи зикруху), так, как будто он [человек] видит сердце и смотрит на него, хотя оно отсутствует [перед глазами]. И если даже мысль, воспоминание (зикр) о чем-то занимает сердце человека, то он находится при своем шāхиде, и если знание занимает его сердце, то он находится при шāхиде знания, а если его сердцем овладел экстаз, то он находится при шāхиде экстаза, а значение слова ша̄хид — «присутствующий», и то, что присутствует в твоем сердце, есть твой ша̄хид.
У Шиблӣ[1] спросили о созерцании, и он ответил: «Откуда у нас созерцание Бога? Бог для нас — ша̄хид, указывающий на Божьего ша̄хида тому, чьим сердцем Он завладел, и тому, кого занимает мысль о Боге и в сердце которого постоянно присутствует мысль о Боге». И если кто-то привязал свое сердце к некоему человеку, то [про последнего] говорят: «Это — его ша̄хид», т. е. он (ша̄хид) присутствует в его сердце, ибо любовь заставляет влюбленного постоянно думать о возлюбленном и последний полностью занимает сердце влюбленного. Но некоторые вынуждены были принять во внимание грамматическую природу этого слова (шaхида «свидетельствовать». — В. Д.) и говорили: ша̄хид происходит от шаха̄да — «свидетельствование». Если некто затем смотрит на красивого человека, и при этом его человеческая природа (башариййа) не дает себя знать, и созерцание этого человека не отвлекает его от мистического состояния, в котором он находится, и общение с ним не оказывает на него никакого воздействия, то ша̄хид свидетельствует в пользу того, что его чувственная душа исчезла. Но если созерцание оказывает воздействие, то ша̄хид свидетельствует против него и показывает, что его чувственная душа и человеческая природа сохранились и что он платит дань человеческой природе (к̣ийа̄михи би-ах̣ка̄м башариййатихи). Следовательно, шāхид дает показание или за него, или против него. И к этому относится слово Пророка — да благословит его Аллах и да приветствует: «Я видел моего Господа в ночь небесного путешествия в самой красивой форме», т. е.: «Той ночью я видел самую красивую форму, которая не отвлекла меня
[1]Абӯ Бакр Дулаф ибн Джах̣дар аш-Шиблӣ ал-Баг̣да̄дӣ (ум. 334/945—46) — багдадский мистик, один из величайших суфиев своего времени. См.: Абӯ ал-Х̣асан ‘Алӣ ибн ‘Усма̄н ибн Абӣ ‘Алӣ ал-Джулла̄бӣ ал-Худжвӣрӣ ал-Г̣азнавӣ. Кашф ал-мах̣джӯб. Раскрытие скрытого за завесой. Персидский текст, указатели и предисловие. Издал В. А. Жуковский. Л., 1926. С. 195.16—197.2; Abū ‘Abd al-Raḥmа̄n Muḥammad b. al-Ḥusain b. Muḥammad b. Mūsа̄ al-Sulamī. Kitа̄b Ṭabaqа̄t al-sūfiyya. Texte arabe avec une introduction et un index par Johannes Pedersen. Leiden, 1960. P. 340—354; The Tadhkiratu ’l-Awliyа̄’ of Muḥammad Ibn Ibrа̄hīm Farīdu ’ddīn ‘Aṭṭār / Ed. by R. A. Nicholson. Pt. 2. London; Leide, 1907. P. 160—182.
346
от видения Всевышнего, но я увидел Художника в образе и Создателя в создании», и Пророк подразумевает под этим то, что он видит знание, непостижимое зрением[1].
В определении ал-К̣ушайрӣ отсутствует ясное указание на то, что ша̄хид является отражением красоты Бога. Учение о х̣улӯл побудило ал-К̣ушайрӣ к отказу от учения о ша̄хиде и к предостережению от общения с юношами (с̣ух̣бат ал-ах̣да̄с). В части своего послания, которое мыслилось как наставление послушникам, ал-К̣ушайрӣ очень резко высказывает свое мнение против людей, представляющих учение о ша̄хиде:
Я слушал суфия Абӯ ‘Абдалла̄ха[2], который сказал, что слушал Мух̣аммада ибн Ах̣мада ан-Наджжа̄ра, который сказал, что слушал традиционалиста Абӯ ‘Абдалла̄ха ал-Х̣ус̣рӣ, который сказал, что слышал, что Фатх̣ ал-Маус̣илӣ[3] сказал: «Я общался с 30 шейхами, считавшимися ал-абда̄л[4], и все они советовали мне расстаться с ними
[1]Абӯ ал-К̣а̄сим ‘Абд ал-Карӣм ибн Хава̄зин ал-К̣ушайрӣ. Ар-Риса̄ла ал-к̣ушайриййа фӣ ‘илм ат-тас̣аввуф (Трактат ал-К̣ушайрӣ о суфизме). Каир, 1318/1900. С. 52 (перед главой о раскаянии — ба̄б ат-тауба).
[2] Ибн Ба̄кӯйа Абӯ ‘Абдалла̄х Мух̣аммад ибн ‘Абдалла̄х ибн ‘Убайдалла̄х аш-Шӣра̄зӣ ас̣-С̣ӯфӣ (ум. 428/1036—37 в Шӣра̄зе, менее вероятные даты смерти 442/1050—51 и 443/1051—52), известный в Иране под именем Ба̄ба̄ Кӯхӣ — величайший суфийский шейх 4-го в. х. / 10 в. н. э. и начала 5-го в. х. / 11 в. н. э. и суфийский автор. См. о нем: Абӯ ал-‘Абба̄с Ах̣мад ибн Абū ал-Хайр Заркӯб-и Шӣра̄зӣ. Шӣра̄з-на̄ме (Книга Шираза). Ба тас̣х̣ӣх̣-и Бахман-и Карӣмӣ (Издал Бахман Карӣмӣ). Тегеран, 1310/1931. С. 103; Му‘ӣн ад-Дӣн Абу ал-К̣а̄сим Джунайд-и Шӣра̄зӣ. Шадд ал-ӣза̄р фӣ х̣ат̣т̣ ал-ауза̄р ‘ан зувва̄р ал-маза̄р (Подвязывание штанов (т. е. приготовление к путешествию. — В. Д.) для устранения трудностей у паломников к могилам святых). Издание и примеч. Мух̣аммада К̣азвӣнӣ и ‘Абба̄са Ик̣ба̄ла. Тегеран, 1328 г. с. х. / 1950. С. 380—384, 550—566; Бертельс Е. Э. Две газели Баба Кухи Ширази // Бертельс Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М., 1965. С. 279—281; его же. Космические мифы в газели Баба Кухи // Там же. С. 282—284; его же. Баба Кухи. Предисловие к изданию «Дивана» // Там же. С. 285—299; его же. Легенда о шейхе и царской дочери // Там же. С. 432—440.
[3] Абӯ Мух̣аммад (или Абӯ Нас̣р) ал-Фатх̣ ибн Са‘ӣд ал-Маус̣илӣ (ум. 220/835) — суфий, упоминаемый во многих средневековых источниках. См.: Та’рӣх Баг̣да̄д ау мадӣнати ’с-сала̄м ли ’л-х̣а̄физ̣ Абӣ Бакр Ах̣мад ибн ‘Алӣ ал- Хат̣ӣб ал-Баг̣да̄дӣ (История Багдада или благополучного города, составленная ал-Хат̣ӣбом ал-Баг̣да̄дӣ). Т. 12. Каир, 1349/1931. С. 381—383.
[4]Абда̄л (араб., букв. заместители, замещающие, мн.ч. от бадӣл) — благочестивые, набожные, праведные люди; кроме этого, слово имеет конкретное значение в суфийской иерархии святых. Так, ал-Джулла̄бӣ ал-Худжвӣрӣ (ум. 465—469/1072—1077) дает следующее определение этой иерархии: “Среди них есть четыре тысячи, которые скрываются и не знают друг друга и не сознают превосходства своего положения, но в любых обстоятельствах скрываются от самих себя и от человечества. Предания сообщают об этом, и высказывания святых провозглашают истину этого, и я сам — хвала Господу — имел наглядное подтверждение этого дела. Но среди тех, кто наделен властью освобождать от обязательств и налагать их и которые являются служителями божественного двора, имеются триста, именуемые ахйа̄р (букв. лучшие, превосходящие других в добрых делах), и сорок, именуемые абда̄л (букв. заместители, заменяющие), и семь, именуемые абра̄р (букв. праведные, благочестивые), и четыре, именуемые аута̄д (букв. колья, подпорки, столбы, опоры), и три, именуемые нук̣аба̄ (букв. вожди, руководители), и один, именуемый к̣ут̣б (букв. полюс, столп) или г̣аус (букв. помощник, защитник). Все они знают друг друга и не могут действовать без взаимного согласия”. См.: Абӯ ал-Х̣асан ‘Алӣ ибн ‘Усма̄н ибн Абӣ ‘Алӣ ал-Джулла̄бӣ ал-Худжвӣрӣ ал-Г̣азнавӣ. Кашф ал-мах̣джӯб. Раскрытие скрытого за завесой. Персидский текст, указатели и предисловие. Издал В. А. Жуковский. Л., 1926. С. 269 персидского текста.
347
(с юношами. — В. Д.) и говорили: Остерегайся общения с юношами и дружбы с ними, а если некто в этом случае поднялся над состоянием порочности, то ша̄хид указывает, что это (общение и любовь к юношам. — В. Д.) является испытанием душ и не вредит, и он указывает на то, что рассказывают о соблазнах приверженцев ша̄хида, и рассказывают о некоторых шейхах истории, в которых было бы для них самым подходящим прикрыть их дела и изъяны: ведь это подобно многобожию и сопряжено с неверием, и пусть остерегается мурид общаться с юношами и дружить с ними». Ибо даже немного этого (т. е. общения с юношами. — В. Д.) открывает дверь для того, чтобы быть покинутым Богом, и является началом состояния удаления [от Него]. И мы ищем у Аллаха защиты от [такой] злосчастной участи[1].
По мнению немецкого исламоведа X. Риттера, особо типичными представителями учения о ша̄хиде (ал-к̣аул би аш-ша̄хид), или, как выражаются персы, любовной игры с ша̄хидом (ша̄хидба̄зӣ) можно считать главным образом трех мистиков: Ах̣мада Г̣аза̄лӣ (ум. 520/1126), Аух̣ад ад-Дӣна Кирма̄нӣ (ум. 635/1238) и мистического поэта Фахр ад-Дӣна ‘Ира̄к̣ӣ (610—688/1213—1289). Эти мистики, занимаясь созерцанием красоты в чувственных формах, рассматривали при этом абсолютную красоту; они систематически обращались к внешним объектам ради созерцания внутреннего свидетеля. Аух̣ад ад-Дӣн Кирма̄нӣ и ‘Ира̄к̣ӣ предавались созерцанию Свидетеля, отражение которого они видели во внешности юных мальчиков. За эту практику они часто порицались другими суфиями[2].
[1] Абӯ ал-К̣а̄сим… ал-К̣ушайрӣ… Указ. соч. С. 217—218.
[2]Ritter H. Das Meer… Op. cit. S. 473.
348
Суфийский писатель Абӯ Нас̣р ‘Абдалла̄х ибн ‘Алӣ ас-Сарра̄дж (ум. в 378/988 г.) в своем справочнике по суфизму «Кита̄б ал-лума‘ фӣ ат-тас̣аввуф» («Книга сверканий о суфизме») следующим образом излагает проблему ша̄хида:
У Джунайда[2] — да смилуется над ним всевышний Аллах — спросили, почему ша̄хид называется ша̄хидом. Он ответил: Истинный ша̄хид (или: ша̄хид Бога, т. е. ша̄хид ал-Х̣ак̣к̣. — В. Д.) присутствует (ша̄хид) в твоем сердце и в твоих тайнах из-за того, что Он смотрит на них (на сердце и тайны. — В. Д.) и проявляет Свою красоту в своих творениях и рабах. Когда смотрящий глядит на него (ша̄хида. — В. Д.), то [ша̄хид] свидетельствует о том, что он знает о Его взгляде на него (смотрящего. — В. Д.). А ша̄хид у суфиев — это тот, кто переходит ступень учеников, дабы видеть всех познавших Бога, но имеющие имя «ша̄хид» находятся[3] в невидимом мире (г̣айб)[4]. И пусть не совершает [суфий] греха, не будет вялым и не прикидывается беспечным, а если ученик проявляет беспечность, то это не ша̄хид. И всякий раз, как произойдет с ним еще что-то [неподобающее]
[2] Абӯ ал-К̣а̄сим ал-Джунайд ибн Мух̣аммад ибн ал-Джунайд ал-К̣ава̄рӣрӣ ал-Хазза̄з ал-Баг̣да̄дӣ (ум. в 297/910 или 298/911 г.) — глава багдадских суфиев, родоначальник одного из двух основных течений в мусульманском мистицизме — учения о трезвости. См.: Абӯ ал-Х̣асан ‘Алӣ ибн ‘Усма̄н ибн Абӣ ‘Алӣ ал-Джулла̄бӣ ал-Худжвӣрӣ ал-Г̣азнавӣ. Кашф ал-мах̣джӯб (Раскрытие скрытого за завесой). Персидский текст, указатели и предисловие. Издал В. А. Жуковский. Л., 1926. С. 161.5—164.5; 235.1—236.1; Abū ‘Abd al-Raḥmа̄n Muḥammad b. al-Ḥusain b. Muḥammad b. Mūsа̄ al-Sulamī. Kitа̄b Ṭabaqа̄t al-sūfiyya. Texte arabe avec une introduction et un index par Johannes Pedersen. Leiden, 1960. P. 141—145.
[3] В оригинале глагол «находится» в единственном числе.
[4]Г̣айб (араб.) — сокровенное, непостижимая божественная тайна. Г̣айб буквально означает быть отсутствующим, скрытым, невидимым, а также быть свидетелем и свидетельство. ‘Āлам ал-г̣айб — это невидимый мир, противостоящий видимому миру — ‘а̄лам аш-шаха̄да. Невидимый мир — это мир духов и чистых разумов, а видимый — это свет и эманация, испускаемые из невидимого. Невидимый мир правит видимым, а поскольку пророки и святые имеют доступ к невидимому миру, они могут знать и сообщать о событиях видимого мира. Пророки и святые во сне могут видеть различные образы: горы, моря, реки, растения, животных, людей и т. д. Они либо слышат голоса, сообщающие им о тайнах, либо общаются с различными образами и познают мировые истины, поскольку им открываются глубокие тайны. Им становятся известны как прошлые, так и будущие события, причем образы во время видéний должны быть четкими и законченными, в ином случае — если образы бесформенны и расплывчаты — сообщение из невидимого мира не соответствует истине. См.: Саджджа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и луг̣а̄т-и ис̣т̣ила̄х̣а̄т ва та‘бӣра̄т-и ‘ирфа̄нӣ (Словарь мистических терминов и выражений). 2-е изд. Тегеран, 1373/1995. С. 610—611.
349
в [нашем] видимом тварном мире, то это неверно и не имеет отношения к суфийскому пути[1].
В другом месте своего сочинения ас-Сарра̄дж приводит еще одно объяснение термина ша̄хид:
Ша̄хид — это то, что делает тебя свидетелем того, что от тебя сокрыто, а это значит, что твое сердце[2] он приводит к встрече с Ним. Кто-то сказал:
В каждой вещи есть для Него ша̄хид (т. е. свидетель. — В. Д.), который свидетельствует о том, что Он — единственный.
Ша̄хид имеет также значение «присутствующий». Джунайда — да смилуется над ним Аллах — спросили о ша̄хиде. Он ответил: «Истинный ша̄хид присутствует в твоем сердце и в твоих тайнах из-за того, что Он смотрит на них (на сердце и тайны. — В. Д.). А засвидетельствованное (машхӯд) — это то, что ша̄хид видит». Абӯ Бакр ал-Ва̄сит̣ӣ[3] сказал: «Ша̄хид — это Истина, а засвидетельствованное Им — это вселенная (каун)». Сказал всемогущий и великий [Аллах]: «[Клянусь] и свидетелем, и тем, о чем он свидетельствует» (Коран 85:3)[4].
Знаменитый знаток и критик арабской литературы, автор антологий и трудов по арабской филологии Абӯ Манс̣ӯр ‘Абд ал-Малик ибн Мух̣аммад ибн Исма̄‘ӣл ас-Са‘а̄либӣ (350—429/961—1038) в своем сочинении «Кита̄б ал-кина̄йа ва ат-та‘рӣд̣» («Книга скрытого смысла и двусмысленной речи») приводит несколько отличное объяснение выражения ша̄хид, которое, однако, так же было, по-видимому, общепринятым: К употребляемым в переносном смысле выражениям суфиев относится здесь выражение ша̄хид (свидетель) для красивого юноши. И они этим [выражением] хотят сказать, что он из-за своей красивой внешности свидетельствует о мощи всемогущего Аллаха. А называют
[1] The Kitáb Al-Luma‘ fi ’l-Tasawwuf of Abú Naṣr ‘Abdalláh b. ‘Alī al-Sarráj al-Túsí / Ed. by R. A. Nicholson. Leyden; London, 1914. P. 229.
[2] «Сердце» как орган внутреннего восприятия.
[3] Абӯ Бакр Мух̣аммад ибн Мӯса̄ ал-Ва̄сит̣ӣ ал-Фарг̣а̄нӣ (ум. после 320/932 г. в Мерве) — знаменитый суфий родом из Ферганы (Фарг̣а̄на), знаток религиозных наук, товарищ Джунайда. См.: Abȳ ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusain b. Muḥammad b. Mūsа̄ al-Sulamī. Kitа̄b Ṭabaqа̄t al-sūfiyya. Texte arabe avec une introduction et un index par Johannes Pedersen. Leiden, 1960, P. 302—307.
[4] The Kitáb Al-Luma‘… Op. cit. P. 339.
350
они его (ша̄хида. — В. Д.), как хотят (т. е. разными словами. — В. Д.). Рассказывают, что товарищи Абӯ ‘Алӣ ас-Сак̣афӣ[1] избегали в его присутствии из-за уважения к шейху слова шāхид и договорились между собой называть красивого юношу [словом] х̣уджжа («доказательство». — В. Д.). Когда однажды они сопровождали его в пути, вдали показался юноша. Тут сказал один из них: «Доказательство», ибо он полагал, что Абӯ ‘Алӣ не понимает, что он имел в виду. А когда юноша приблизился к ним, [оказалось, что] он был некрасивым. Тут обернулся Абӯ ‘Алӣ к своим спутникам и сказал: «[Однако] ничтожное». Но я слышал, что один правовед приписывает эту историю Абӯ Исх̣а̄к̣у ал-Марвазӣ[2], [3].
Ханбалитский теолог и правовед, ярый противник суфиев Ибн Таймиййа (661—728/1263—1328) в своем сочинении «Ал-Фурк̣āн байна ал-х̣ак̣к̣ ва ал-ба̄т̣ил») («Различение истины и лжи») следующим образом объясняет коранический айат (Коран 11:20(17)), в котором встречается слово ша̄хид:
У кого имеется явное доказательство от своего Господа и за кем следует свидетель (ша̄хид)[4] от Него[5], тот верует в явное доказательство от своего Господа, и за ним следует свидетель от Аллаха[6].
[1] Абӯ ‘Алӣ Мух̣аммад ибн ‘Абд ал-Вахха̄б ибн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н ас-Сак̣афӣ ал-Марвазӣ (или ан-Нӣса̄бӯрӣ) (244—328/858—59—940) — передатчик хадисов, проповедник, знаток суфизма и религиозных наук, таких, как законоведение и схоластическая теология (калāм). См.: Abū ‘Abd al-Raḥmа̄n Muḥammad b. al-Ḥusain b. Muḥammad b. Mūsа̄ al-Sulamī. Kitāb Ṭabaqа̄t al-ṣūfiyya. Texte arabe avec une introduction et un index par Johannes Pedersen. Leiden, 1960. P. 370—375.
[2] Абӯ Исх̣а̄к̣ Ибра̄хӣм ибн ‘Абдалла̄х ибн Ах̣мад ал-Марвазӣ (ум. в 241/855 г.) — традиционалист. См.: Ибн Х̣аджар ал-‘Аск̣ала̄нӣ, Шиха̄б ад-Дӣн Абӯ Фад̣л Ах̣мад ибн ‘Алӣ. Тахзӣб ат-тахзӣб («Украшение образования»). Т. 1. Х̣айдара̄ба̄д, 1325/1907. С. 132, № 234.
[3]Абӯ Манс̣ӯр ‘Абд ал-Малик ибн Мух̣аммад ас-Са‘а̄либӣ. Китāб ал-кина̄йа ва ат-та‘рӣд̣ (Книга скрытого смысла и двусмысленной речи) // Ал-Мунтахаб мин Кина̄йа̄т ал-удаба̄’ ва иша̄ра̄т ал-булаг̣а̄’ ли-л-к̣а̄д̣ӣ Абӣ ал-‘Абба̄с Ах̣мад ибн Мух̣аммад ал-Джурджа̄нӣ ас-Сак̣афӣ (Избранное из «Скрытых смыслов литераторов и намёков красноречивых» Абу ал-‘Абба̄са Ах̣мада ибн Мух̣аммада ал- Джурджа̄нӣ ас-Сак̣афӣ (ум. 482/1089—90). Каир, 1326/1908. С. 20.
[4] Переводчики и комментаторы Корана полагают, что в этом айате под словом ша̄хид имеется в виду Коран.
[6]Ибн Таймиййа, Так̣ӣ ад-Дӣн Абӯ ал-‘Абба̄с Ах̣мад ибн ‘Абд ал-Х̣алӣм ибн ‘Абд ас-Сала̄м ал-Х̣арра̄нӣ ад-Димашк̣ӣ. Риса̄лат ал-фурк̣а̄н байна ал-х̣ак̣к̣ ва ал-ба̄т̣ил (Трактат о различение истины и лжи) // Мин маджму‘ат ар-раса̄’ил ал-кубра̄ (Из собрания самых важных трактатов). Т. 1. 1-е изд. Каир, 1323/1905. С. 52.
351
Ханбалитский теолог и правовед, ученик Ибн Таймиййи Ибн К̣аййим ал-Джаузиййа (691—751/1292—1350) в своем сочинении «Иг̣а̄сат ал-лахфа̄н мин мас̣а̄йид аш-шайт̣а̄н» («Помощь отчаявшемуся [в освобождении] из сетей Сатаны») сообщает о людях, которые предпочитают земного возлюбленного Богу и, даже совершая молитву, постоянно думают о своем земном возлюбленном:
А к охваченным сатанинской любовью принадлежат те, которые выбрали Сатану своим господином и в соответствии с этим придали Ему товарищей (т. е. признали многих богов помимо Аллаха. — В. Д.) из-за того, что среди них есть те, кто придают Аллаху товарищей, и из-за того, что покинула их искренность по отношению к Нему; по крайней мере, среди них часть тех, которые выбирают [помимо Аллаха] других божеств. И поэтому ты увидишь многих из них в качестве раба у этого возлюбленного — раба, который лишился рассудка из-за любви к нему и который кричит в его присутствии и в его отсутствии: «Воистину он (т. е. земной возлюбленный. — В. Д.) — Его раб», и он восхваляет его (своего возлюбленного. — В. Д.) больше, чем своего Господа, а в его сердце любовь к нему больше, чем любовь к Аллаху, и в любви он (возлюбленный. — В. Д.) достаточен ему (влюбленному. — В. Д.) как свидетель (ша̄хид) о нем самом, [ибо, как сказано в Коране]: «Но человек свидетельствует о самом себе. Если бы даже он и представил свои извинения…»[1]. И если бы он выбирал между удовлетворенностью им (возлюбленным. — В. Д.) и удовлетворенностью Аллахом, то он предпочел бы удовлетворенность своим возлюбленным удовлетворенности своим Господом. А встреча со своим возлюбленным приятнее для него, чем встреча со своим Господом, а его желание близости с ним больше, чем его желание близости со своим Господом, а его бегство от его (возлюбленного. — В. Д.) гнева на него тяжелее для него, чем бегство от своего Господа, который негодует [на него] за [его] благорасположение к своему возлюбленному. И он предпочитает дела своего возлюбленного и его потребности поклонению своему Господу. А если останется у него лишнее время — а у него мало веры [в Бога], — то он проведет этот остаток [времени] в поклонении своему Господу. А если потребности и дела его возлюбленного будут отнимать [его] время, то он потратит на них (т. е. на дела возлюбленного. — В. Д.) все свое время и предаст забвению повеление всевышнего Аллаха. Он жертвует своему возлюбленному всякую ценную вещь (нафӣсат) и всякий драгоценный предмет, ставший объектом желания (нафӣс), и дает своему Господу из своего имущества — если [вообще] будет давать Ему — всякую никчёмную вещь (разӣлат) и всякую
[1] Коран 75:14(14)—15(15).
352
никудышную [вещь] (хасӣс). Поэтому его возлюбленному принадлежат его душа и его сердце, и его беспокойство, и его время, и самая лучшая [часть] его имущества, а на его Господа приходится оставшееся. Он пренебрег Им, оставив позади себя, и забыл прославлять Его. Если он будет молиться во время богослужения, то его язык будет беседовать с Ним тайно, а его сердце будет тайно беседовать с его возлюбленным. Он поворачивает тело к к̣ибле[1], а сердце — к возлюбленному. Он пугается служения своему Господу, так что он во время молитвы как будто стоит на горящих угольях из-за тяжести, свалившейся на него из-за нее, а его затруднение связано с совершением молитвы. А если случится прислуживать возлюбленному, то он приступит к ней (к этой службе. — В. Д.), радуясь ей и своим сердцем и своим телом, искренно любя его во время нее (службы. — В. Д.); она (служба. — В. Д.) легка для его сердца, которое не считает ее тяжелой и не находит ее продолжительной[2].
В другом месте своего сочинения Ибн К̣аййим ал-Джаузиййа критикует суфиев, набожных людей, философов, теологов и обычных верующих за то, что они утверждают о своей любви к Богу посредством земных возлюбленных, являющихся для них местом проявления божественной красоты:
Наш шейх (Ибн Таймиййа. — В. Д.) сказал: А с этим качеством (близость к Сатане, непристойные поступки. — В. Д.) существует большая группа, имеющая отношение ко многим из тех, кто принадлежит к исламу (букв. к к̣ибле) из [числа] суфиев, поклоняющихся [Богу], военачальников, философов, теологов, простых людей и прочих, которые испытывают сладость от непристойных занятий — от того, что запретил Аллах и Его посланники, полагающие, что Аллах разрешил [им] это или что они подражают своим предшественникам. А первоосновой этого [заблуждения] является любовь, которую Аллах ненавидит. И многие из них считают ее (эту любовь. — В. Д.) религией и полагают, что с ее помощью приближаются к Аллаху либо из-за того, что они думают, что она очищает и просветляет душу, либо из-за того, что они думают, что с ее помощью они [сначала] концентрируют свое сердце на некоем человеке,
[1]К̣ибла (араб.) — направление на Мекку, сторона, к которой мусульмане обращаются лицом во время молитвы; объект поклонения, сторона, в которую мистик обращает взор для созерцания Бога.
[2]Ибн К̣аййим ал-Джаузиййа, Абӯ ‘Абдалла̄х Мух̣аммад ибн Абӣ Бакр. Иг̣а̄сат ал-лахфа̄н мин маса̣̄йид аш-шайт̣а̄н (Помощь отчаявшемуся [в освобождении] из сетей Сатаны). Т. 2. Каир, 1403/1983. С. 113—114.
353
[чтобы] затем перевести его (сердце. — В. Д.) [и тем самым самим перейти] к поклонению одного только Аллаха, либо из-за того, что они думают, что красивые формы являются местами проявления и созерцания Бога — они называют их «местами проявления самой единой (т. е. самой высшей. — В. Д.) красоты», либо из-за того, что они верят, что Господь поселяется в их жилищах (т. е. в тех красивых формах. — В. Д.) (х̣улӯл)[1] и входит с ними в союз (иттих̣а̄д)[2].
[1]Х̣улӯл (араб.) — поселение Бога в человеке. Приверженцы этого еретического, с точки зрения исламской ортодоксии, учения утверждали, что Бога можно увидеть в живом человеке. Позднее под названием х̣улӯлиййа подразумевали не только представителей учения о том, что Бог «поселяется» в красивом человеке, но и мистиков типа ал-Х̣алла̄джа (казнен в 309/922), в моменты безумия выразившего мысль «Я есть Бог», неких крайних шиитов, отстаивавших божественность их имама, или прочих еретиков, рассматривавших человека как божественную сущность, и представителей экзотических, всецело неисламских воззрений. Согласно доксографу Абӯ ал-К̣а̄симу ‘Абдалла̄ху ибн Ах̣маду ал-Балхӣ ал-Ка‘бӣ (ум. 317 или 319/929—931), некоторые антропоморфисты считали возможным взирать на Бога глазами в этом мире, причем они могут встретить Его на дороге, обменяться с Ним рукопожатием, постоянно быть с Ним и дотрагиваться до Него, и они утверждают, что посещают Его и что Он посещает их. Согласно суфийскому автору ас-Сарра̄джу (ум. 378/988), пересказывавшему услышанное им о х̣улӯлӣ, представители х̣улӯлӣ утверждали, что Бог подобрал Себе тело, чтобы в нем поселиться со своими божественными атрибутами и устранить человеческие атрибуты. Некоторые из них являются огнепоклонниками, другие — сторонниками рассматривания красивых свидетельств (шава̄хид мустах̣сана̄т), одни говорят, что Он поселяется в красивых и в некрасивых вещах, а другие учат, что только в красивых вещах; одни говорят: постоянно, другие: лишь иногда. См. о х̣улӯлиййа: H. Ritter. Das Meer der Seele… Op. cit. S. 449—458.
[2]Иттих̣а̄д (араб.) — союз, тождество. Наивысшей целью всей мистики является тождество с божеством, с мировой причиной. В исламской мистике этот мистический союз выступает в ряде различных форм и проявляется даже у одного и того же мистика не всегда в одном и том же аспекте. Высказывания мистиков выдвигают на передний план то одну, то другую сторону переживания, переливаются то в одном, то в другом цвете. Тождество Бога и человека, уничтожение двуединства происходит в исламском мистицизме так, что человек как бы растворяется в божестве или уступает ему место и на месте двух остается всего лишь один — Бог. Влюбленный должен стать возлюбленным, не наоборот. Процесс, в котором происходит это тождество, является исчезновением, прекращением становления. По мнению Х. Риттера, близость возлюбленного человека, хотя она мерещится влюбленному как самое высшее счастье, отнюдь не всегда является успокоительной и осчастливливающей. Действительное тождество все же не достигается с помощью внешней соединенности. Близость возлюбленного только усиливает страстное желание, которое может успокоиться лишь путем полного устранения «я». См.: Ritter H. Das Meer der Seele… Op. cit. S. 419, 420, 575, 577.
354
И поэтому ты найдешь среди набожных, и их бедняков (дервишей. — В. Д.), и их наставников, и их товарищей этих людей, выбирающих при взаимном согласии и взаимном расположении помимо Аллаха других божеств, которых они любят так же, как любят Аллаха, либо из-за религиозности, либо из-за вожделения, либо из-за того и другого одновременно. И поэтому сходятся они и собираются для сатанинского музыкального слушания, которое возбуждает коллективную любовь и в каждом сердце возбуждает любовь, которая в нем есть.
А причина состоит в том, что сердце лишено того, для чего оно создано, — поклонения всевышнему Аллаху, которое соединяет воедино любовь к Нему и возвеличивание Его, покорность Ему и смирение перед Ним, сосредоточение на Его повелении и на Его запрете, на Его благожелательности и на Его гневе. А если будет в сердце ощущение сладости веры и наслаждения ее ароматом, то это избавит его (верующего. — В. Д.) от любви к другим объектам поклонения и от почитания их как Бога[1].
Традиционалист, историк и проповедник, один из самых знаменитых ханбалитов Багдада Ибн ал-Джаузӣ (510—597/1116—1200) рассказывает об Ах̣маде Г̣азāлӣ в своем труде ал-Мунтаз̣ам фӣ та’рӣх ал-мулӯк ва-л-умам» («Систематизация истории царей и народов»):
Стало известно, что Ах̣мад Г̣аза̄лӣ[2] придерживается учения о шāхиде и созерцает безбородых и общается с ними. Так рассказал
[1]Ибн К̣аййим ал-Джаузиййа. Иг̣а̄сат… Указ. соч. Т. 2. С. 117.
[2] Абӯ ал-Фатх̣ (Абӯ ал-Футӯх̣) Ах̣мад ибн Мух̣аммад ибн Мух̣аммад ибн Ах̣мад ал-Г̣аза̄лӣ ат̣-Т̣ӯсӣ (ум. в 520/1126 в К̣азвӣне) — брат знаменитого мусульманского богослова Абӯ Х̣а̄мида Мух̣аммада ибн Мух̣аммада ал-Г̣аза̄лӣ (450—505/1059—1111), выдающийся проповедник, шафиитский законовед и замечательный суфий, одаренный способностью творить чудеса и другими знаками божественной милости, странствовал по исламским странам и был склонен к отказу от мирской жизни и к уединению, автор первого персидского трактата о психологии мистической любви «Сава̄них̣ фӣ ал-‘ишк̣» («Откровения о любви»), оказавшего огромное влияние на последующую традицию написания сочинений о мистической любви в персидской литературе. См.: Та̄дж ад-Дӣн Абӯ Нас̣р ‘Абд ал-Вахха̄б ибн Так̣ӣ ад-Дӣн ас-Субкӣ. Т̣абак̣āт аш-шāфи‘иййа ал-кубрā (Самые большие разряды шафиитов). Т. 4. Каир, 1324/1906. С. 54—55; Ибн ал- Джаузӣ. Ал- Мунтаз̣ам фӣ та’рӣх ал-мулӯк ва-л-умам (Систематизация истории царей и народов). Т. 9. Х̣айдара̄ба̄д, 1359/1940. С. 260—262; Ибн ал-Мулак̣к̣ин Сира̄дж ад-Дӣн Абӯ Х̣афс̣ ‘Умар ибн ‘Алӣ ибн Ах̣мад ал-Мис̣рӣ. Т̣абак̣а̄т ал-авлийа̄’ (Разряды святых). Издал Нӯр ад-Дӣн Шарӣба. Каир, 1393/1973. С. 102—104; Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary / Transl. from the Arabic by Bn Mac Guckin de Slane. Vol. I. 1842. Johnson Reprint Corporation. N. Y.; London, 1961. Р. 79—80.
355
мне Абӯ ал-Х̣усайн ибн Йӯсуф, что ему (Ах̣маду Г̣аза̄лӣ — В. Д.) было написано о тюркском рабе; он прочитал записку, затем позвал его (раба. — В. Д.), подошел к нему, поднялся на минбар и поцеловал его в лоб, сказав: «Это — ответ на записку»[1].
В «Талбӣс Иблӣс» («Козни Дьявола») Ибн ал-Джаузӣ рассказывает схожую историю об Ах̣маде Г̣аза̄лӣ:
Рассказывают, что толпа суфиев вошла к Ах̣маду ал-Г̣аза̄лӣ, когда он был один с безбородым отроком. Между ними находились розы, и он смотрел то на розы, то на отрока. Когда суфии уселись, один из них спросил: «Вероятно, мы помешали?» Он ответил: «Да, ей-богу». И толпа закричала в эмоциональном экстазе (‘ала̄ сабӣл ат-тава̄джуд).
Абӯ ал-Х̣усайн ибн Йӯсуф рассказывал, что было написано ему в записке: «Ты любишь своего тюркского мальчика». Он прочитал записку, затем вызвал мальчика, поднял на него взор, поцеловал его в лоб и сказал: «Это — ответ на записку».
Говорит автор — да смилуется над ним Аллах: Я не удивляюсь поступку этого человека и тому, что он сбросил покров стыдливости со своего лица, но я удивляюсь только, как присутствовавшие при этом скоты воздержались от порицания его. Однако шариат умер в умах многих людей[2].
Персидский суфийский поэт Фахр ад-Дӣн ‘Ира̄к̣ӣ (610—688/
1213—1289) в своей поэме «‘Ушша̄к̣-на̄ме» («Книга влюбленных»)
приводит рассказ об Ах̣маде Г̣аза̄лӣ, подтверждающий приверженность последнего учению о ша̄хиде:
Рассказ
У начальника полиции Табрӣза был сын, обладавший пленяющей сердце и возбуждающей красотой. Его тело (букв. почетная одежда его человеческой природы. — В. Д.) по пропорциональности своего сложения (маузанӣ) было образом божественной благосклонности и ни с чем не сравнимой творческой силы Создателя. Предводитель нашего мира, имам Г̣аза̄лӣ, который был властителем мира знаний, узнал о тех [его] превосходных свойствах и из приведенных дока
[1]Ибн ал-Джаузӣ, Абӯ ал-Фарадж ‘Абд ар-Рах̣ма̄н ибн ‘Алӣ ибн Мух̣аммад ибн ‘Алӣ. Ал-Мунтаз̣ам фӣ та’рӣх ал-мулӯк ва-л-умам (Систематизация истории царей и народов). Т. 9. Х̣айдара̄ба̄д, 1359/1940. С. 262.
[2]Ибн ал-Джаузӣ, Джама̄л ад-Дӣн Абу ал-Фарадж ‘Абд ар-Рах̣ма̄н ал- Баг̣да̄дӣ. Талбӣс Иблӣс (Козни Дьявола). Бейрут, 1368/1948. С. 267—268 (10-я глава).
356
зательств понял, каким [ценным] качеством он (сын начальника полиции. — В. Д.) наделен. Получив известие о его красоте, шейх потерял в своем сердце терпение и покой. Оседлав лошадь, он отправился из Рея с намерением увидеть того красавца. Опьянев от вина страстного желания посмотреть на него и держа сердце в руке, он стремительно отправился в путь. Когда дервиш подъехал к городу, о его деле доложили правителю [города]. Начальник полиции сказал: «Хотелось бы, чтобы тот лицемер, который пришел с надеждой, ушел потерявшим надежду. Шейх — мошенник, поклоняющийся внешней красоте, известный всему свету [своей] лживостью. Не пускайте его в этот город, чтобы ушел обратно и унес свой яд». Посыльный вышел из города на дорогу и известил шейха о сложившейся ситуации. Услышав [эту новость], огорченный шейх остановился в двух фарсангах[1] от города. Когда солнце скрылось за горизонтом и свет исчез с просторов вселенной, он вошел в палатку, желая постелить постель, и, как жемчугом, до краев наполнил палатку [своей] сокровенной тайной. Вскоре и начальника полиции одолел сон. Послушай, что же он увидел во сне. Он увидел во сне посланника Бога, который дал ему горсть изюма и сказал: «Возьми этот изюм и немедленно отправляйся [в путь], сам отнеси [его] шейху Г̣аза̄лӣ». Утром, проснувшись, начальник полиции взял тот изюм и поспешил [в путь]. Шейх, сотворенный из [божественного] света, [еще] издали увидев начальника полиции и обнаружив [в нем] след [от печати пророка], перед тем как привести его к себе, принес блюдо, наполненное изюмом, [и сказал]: «Знай, что то, что прошлой ночью пророк положил перед тобой, он [тайком] взял из этого блюда». Благочестивые[2], идущие по пути к Богу, [одной] изюминкой могут сбить всех людей с истинного пути. Не рассматривай красоту как форму и не считай ее таковой, из-за изюма не прекращай движение по истинному пути. Когда зрение достигнет совершенства, оно будет получать удовольствие от [созерцания] самой возвышенной (ра̄тиб) красоты. Если [даже низкая] натура захочет вкусить ее (т. е. красоты. — В. Д.) и вознамерится смотреть на нее и даже подойти к ней, то ведь прекрасное, словно серебряное, яблоко существует не для того, чтобы его срывали:
[1]Фарсанг (перс.) или фарсах (перс.) — единица измерения пути в средневековье, равная 12 тысяч локтей (зира̄‘ (араб.), длина локтя от 45 до 50 сантиметров), и поэтому длина фарсаха колебалась от 5 километров 400 метров до 6 километров. Фарсах равнялся трем арабским милям (мӣл), а миля составляла 4 тысячи локтей или 2333 шага.
[2]Мута’аллих (араб.) — набожный, благочестивый, поклоняющийся Богу; слово употребляется также для обозначения гностиков или совершенных мистических теософов, достигших степени святости в этой жизни.
357
благодаря ему твоим уделом является не что иное, как рассматривание [божественной красоты, отраженной в земной красоте][1].
В другом рассказе, посвященном Ах̣маду Г̣аза̄лӣ, ‘Ира̄к̣ӣ снова оправдывает практику созерцания божественной красоты посредством человеческой:
Рассказ
Высший духовный наставник, имам Г̣аза̄лӣ, восхищавший [своим] духовным состоянием и [вдохновенной] речью, был ошеломлен изяществом красавцев и на пути любви [всегда] искал Друга. Чистый глаз того истинного [в любви] был до такой степени искренне (баджа̄н) влюблен в некоего красавца, что в Рее он сел на лошадь, и более ста учеников [отправились] вслед за ним [в путь]. Он увидел пленяющего сердца [возлюбленного], похожего на полную луну, который вышел из какой-то бани и блеск красоты которого благодаря божественной милости и [Его] творческой деятельности озарил наш мир. Когда взгляд шейха упал на него, он увидел образ Друга и остановился. Он стал смотреть на него сердцем и душой, и каждый миг [устремляя на него взор] он видел другое лицо. Люди подошли к наставнику, наблюдая, как он ослеплен блеском лица того красавца. Все суфии смутились, все они покинули [его] и ушли. Однако старик, который был слугой, поднимавшим попону над седлом коня [своего] господина[2], сказал шейху: «Проходи мимо и оставь [его]. Тебе не подобает поклоняться образу, разве не стыдно тебе перед всеми этими людьми?» Шейх ответил ему: «Больше ничего не говори, “созерцание красоты — это отдых для глаз”[1]. Если бы я не по
[1]‘Ира̄к̣ӣ, Фахр ад-Дӣн Ибра̄хӣм Хамадāнӣ. Куллиййа̄т (Полное собрание сочинений). 2-е изд. Издал Са‘ӣд Нафӣсӣ. Тегеран, 1336/1957. С. 352—353 (6-я глава).
[2]Г̣а̄шийеда̄р (перс.) — слуга, носивший попону, или покрывало из роскошной материи позади сидящего верхом на коне вельможи. Если вельможа слезал с лошади, этот слуга покрывал попоной лошадь своего господина поверх седла. Когда же вельможа садился на лошадь верхом, он снимал ее и шел с ней вслед за едущим верхом господином.
358
корился презренному образу, моим слугой, носящим попону, был бы [архангел] Гавриил».
Опьяненные и смущенные влюбленные пьют вино из чаши любви. Тот, кто видит [лишь] внешний мир, не обращает внимания на сердце: смотри на лицо Лайлы глазом Маджнӯна. Если красота образа является твоим оружием, то во время боя она будет защищать тебя. Узри свою сущность (маг̣з), скрытую под кожей, и разгляди в ней луч, испускаемый светом Друга. Если ты будешь легкомысленно (бӣмаг̣з) упоминать имя Друга, ты [тем самым] откажешься от любви к Его лицу. Субстанцию (джаухар) всякого, кто, принадлежа Другу, нуждается в Нем, не ослабит акциденция (‘арад̣)[2]. Если же ты обладаешь силой мужественных людей, то вот [тебе] конь, оружие и это поле боя. Любовь к Нему успокаивает мою душу, она — и мой убыток, и моя прибыль. Мое сердце желает встретиться с его красотой, мой глаз увидел [ее], отчего же сердце нуждается [в ней]? Я заключил [свое] сердце в Его сети, и я опьянен вином страстного желания увидеть Его. Несмотря на то, что я ищу [Его], Он свободен от забот обо мне, и, томимый желанием увидеть Его лицо, я произношу газель.
Газель
Вновь безумное сердце у порога любви
за одно мгновение выпило чашу любви.
Вновь моя душа пленена любовью,
[подобно] шашке, попавшей в безвыходное положение
[1]Ру’йат ал-х̣усн ра̄х̣ат ал-а‘йун «созерцание красоты — покой (или: отдых) для глаз» — очевидно, аллюзия на популярное среди суфиев предание, которое отвергалось и считалось недостоверным многими традиционалистами. Арабский компилятор Джала̄л ад-Дӣн ас-Суйӯт̣ӣ (ум. 911/1505) приводит два варианта этого предания: 1) салāс йуджаллӣна ал-бас̣ар: ан-наз̣ар ила̄ ал-худ̣ра ва ила̄ ал- ма̄’ ал-джа̄рӣ ва ила̄ ал-ваджх ал-х̣асан «три вещи просветляют зрение: созерцание зелени, проточной воды и красивого лица»; 2) сала̄с йазидна фӣ к̣увват ал-бас̣ар: ал-ках̣л би-л-исмид ва ан-наз̣ар ила̄ ал-худ̣ра ва ан-наз̣ар ила̄ ал-ваджх
ал-х̣асан «три вещи увеличивают силу зрения: подкрашивание глаз сурьмой, созерцание зелени и созерцание красивого лица» (см.: Ас-Суйӯт̣ӣ, Джала̄л ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н. Ал-Джа̄ми‘ ас̣-с̣аг̣ӣр фӣ aх̣а̄дӣс ал-башӣр ан-назӣр (Маленький сборник преданий сподвижников пророка и пророка). Т. 1. Каир, 1321/1903. С. 116).
Это предание встречается также в трактате «‘Абхар ал-‘а̄шик̣ӣн» («Жасмин влюбленных») знаменитого персидского суфия и теоретика мистической любви Рӯзбиха̄на Бак̣лӣ Шӣра̄зӣ (522—606/1128—1209) в следующей форме: сала̄с йазиданна фӣ к̣увват ал-бас̣ар: ан-наз̣ар ила̄ ал-худ̣ра ва ан-наз̣ар ила̄ ал-ваджх ал- х̣асан ва ан-наз̣ар ила̄ ал-ма̄’ ал-джа̄рӣ «три вещи увеличивают силу зрения: созерцание зелени, созерцание красивого лица и созерцание проточной воды» (см.: Ruzbehan Baqli Shirazi. Le Jasmin des Fidèles d’amour (Kitab-e ‘Abhar al- ‘ashiqin). Traité de soufisme en persan publié par H. Corbin et M. Mo‘in. Teheran; Paris, 1958. Р. 29 текста «‘Абхар ал-‘а̄шик̣ӣн»).
[2] Например, такая, как созерцание человеческой красоты.
[3]Шашдар (перс.) — безвыходное положение на доске во время игры в нарды, из которого нельзя выпутаться и при котором шесть клеток у одного игрока заняты шашками, закрывающими путь для движения шашек другого игрока.
359
Вновь дыхание (накхат), исходящее из благоухающей
курильницы любви,
наполнило нёбо моей души ароматом.
Увы! Ведь вновь неожиданно станет пустым
котел моего желания, [разогреваемый] огнем любви.
Письмо от Друга хранит под крылом
жаждущий [залететь] в мое сердце голубь любви.
Красота Твоего лица пленяет сердце,
иначе у сердца не было [бы] самого желания любить.
Если бы ‘Ира̄к̣ӣ стал Твоим покупателем
(т. е. смог бы купить встречу с Тобой, отдав за нее
свою жизнь. — В. Д.),
то он был бы достоин встречи [с Тобой] и был бы
подходящим для [Твоей] любви[1].
В этой же десятой главе поэмы ‘Ира̄к̣ӣ следует продолжение рассказа об Ах̣маде Г̣аза̄лӣ:
Когда дервиш (т. е. Ах̣мад Г̣аза̄лӣ. — В. Д.) вошел в город друга (т. е. сына начальника полиции Табрӣза. — В. Д.), он убедился в [истинности] описаний его красоты. Он вошел в соборную мечеть, в которой сияли чудеса святых. Совершив вместе с верующими общую пятничную молитву, огорченный [отсутствием возлюбленного] дервиш поднялся с места для молитвы на минбар, и собрание влюбленных озарилось. Он заговорил о мистических истинах на таинственном языке, понять который люди были не в силах. Он сказал: «Хотя [вначале] умы [людей] потеряют надежду [на постижение смысла моей проповеди], но в конце концов и этот чурбан поймет». [После этого] минбар стал приподниматься со своего места и от земли стал подниматься в воздух. Шейх сказал ему: «Веди себя скромно и оставь влюбленным [такое] волнение». Минбар вновь стал на свое место, и около пятидесяти присутствовавших на [том] собрании испустили дух. Шейх сказал: «Как [случилось, что] тот, кто является светом нашего собрания, не пришел к нам? Где же он? Мое собрание без [видения] его лица окутано мраком, а слова о любви в такой же степени темны. Заслуживает прощения каждый, кто в темноте не сможет обнаружить изящества: ведь в чаше души не видно светильника. А нет ли здесь случайно того приводящего в восторг сердца?» Поскольку он не пришел на собрание влюбленных, влюбленные, [опечаленные] его отсутствием, испустили дух.
[1]‘Ира̄к̣ӣ, Фахр ад-Дӣн… Указ. соч. С. 365—366 (10-я глава).
360
Воспоминание о Нем не перестает сходить с благословенных уст [влюбленных], и как же [в таком случае] Ему не наделить волнением [даже] камень[1]? Тот человек, который имеет Его печать, знает, что и камень (джама̄д) домогается Его любви. Когда влюбленные начинают рассказывать о Нем, всё обращается в слух[2]. Когда Он отсутствует, влюбленный умирает, а дерево минбара поднимается ввысь. Если ты не считаешь эти слова достоверными, то иди и посмотри на его (влюбленного. — В. Д.) место упокоения (сарӣр) во дворе мечети[3].
Персидский мистический философ ‘Айн ал-К̣уд̣а̄т ал-Хамада̄нӣ (492—525/1098—1131) в своем сочинение «Тамхӣда̄т» («Разделы») в нескольких местах дает свое толкование учения о ша̄хиде. Так, в нижеследующем отрывке он сообщает о создании Господом зеркала души, в котором Он может видеть Сам Себя; но и влюбленные в Бога в этом зеркале души могут увидеть как Свидетеля = Бога, так и то, что Им засвидетельствовано:
Цель, которую Он ставил перед Собой в порождении
бытия обоих миров,
это одна вещь, которая является основанием:
это чтобы увидеть в зеркале души Самого Себя,
а затем стать влюбленным в Самого Себя [— влюбленным],
который не имеет недостатков.
Мы также в нем (в зеркале души. — В. Д.) увидим себя,
а затем Свидетеля (ша̄хид), и то, о чем Он свидетельствует
(машхӯд), одинаковыми.
Затем влюбленный и возлюбленный сядут рядом
друг с другом,
потому что и этот дорог (джа̄н), и тот любим (джа̄на̄н).
В конце концов любовь состоит из [красивого] лица
[возлюбленного] и речи,
а значит, ее пищей и питьем будет то, что относится
к нам самим.
В то время как душа вечно пребывает в мире Бога,
уместны ли [здесь] такого рода [мои] слова, которых
[к тому же требуется] в сто раз больше[4].
[1]Камень — в оригинале джама̄д (араб.), букв. «минерал».
[2] …всё обращается в слух — букв. «проходы и стенки ушей открываются».
[3]‘Ира̄к̣ӣ, Фахр ад-Дӣн… Указ. соч. С. 368.
[4]Абӯ ал-Ма‘а̄лӣ ‘Абдалла̄х ибн Мух̣аммад ибн ‘Алӣ ибн ал-Х̣асан ибн ‘Алӣ ал- Мийа̄наджӣ ал-Хамада̄нӣ, прозванный ‘Айн ал-К̣уда̄т. Тамхӣда̄т (Разделы) // Мус̣аннафа̄т-и ‘Айн ал-К̣уд̣а̄т-и Хамада̄нӣ (Сочинения ‘Айн ал-К̣уд̣а̄та Хамада̄нӣ). Т. 1 / Введ., редакт., примеч. и прилож. ‘Афӣфа ‘Усайра̄на. Тегеран, 1341/1962. С. 270 (10-й раздел: Тамхӣд-и ас̣л-и ‘āшир — букв. приведение в порядок десятой основы).
361
Одна из главок 10-го раздела «Тамхӣда̄т» посвящена характеристике земного ша̄хида и вопросу о соответствии образа действий почитателей ша̄хида религиозному закону:
О друг! Для влюбленных вера и суфийский способ познания (мазхаб)[2] — это любовь, ибо их вера — это красота возлюбленного. Того [возлюбленного], который является земным, ты можешь назвать ша̄хидом. Путем к Богу каждого, кто влюблен в Него, будет красота Его лица, и этот влюбленный будет [сам] свидетельствовать о Нем. Но для Истины он будет неверующим, [хотя] это неверие [в нашем мире] и является верой, добавляемой к [вере] других [людей]. Разве ты не слышал эти стихи:
Тот, у кого любовь не является религиозным законом
(шарӣ‘ат)[3],
будет неверующим, ибо верит в [животную] природу.
Каждый, кто придерживается религиозного закона
и Истины (х̣ак̣ӣк̣ат),
тот следует учению о шāхиде (ша̄хидба̄зӣ) в вере
и на пути (та̄рӣк̣ат)[4] мистического познания[5].
‘Айн ал-К̣уд̣а̄т следующим образом описывает стоянку любовной игры с ша̄хидом (ша̄хидба̄зӣ), показывая что небесный свидетель (ша̄хид) напрямую связан с Истиной или божественным бытием:
Увы! Что ты знаешь о том, что делает эта стоянка с каждым человеком? Я неверующий, если [думаю, что] всё, что мне даруют, не [предназначено] для этой стоянки. Подожди, пока какая-нибудь частица с этой стоянки не покажется тебе, приняв какой-то вид на стоянке [земной] формы. Тогда ты узнаешь, каково этому несчастному [влюбленному]. Знаешь ли ты, что это за стоянка? Это [стоянка] любовной игры с ша̄хидом (ша̄хидба̄зӣ). Что ты в этом понимаешь?
[2]Мазхаб (араб.) — в суфизме практический метод или способ, направляющий идущего к Богу на путь размышлений и действий, проводя его через стоянки (мак̣а̄ма̄т) и состояния (ах̣ва̄л) к божественной Истине (х̣ак̣ӣк̣ат).
[3]Шарӣ‘а (араб.) — закрепленные Кораном и сунной религиозные законы или предписания; начальный этап мистического пути.
[4]Т̣арӣк̣а (араб.) — путь, метод или способ мистического познания Истины или суфийский путь познания Истины. В широком смысле т̣арӣк̣а — это метод претворения религиозного закона в суфийскую практику.
[5]Абӯ ал-Ма‘а̄лӣ ’Абдалла̄х… Тамхӣда̄т… Указ. соч. С. 286 (Десятый раздел).
362
Увы! Возможно, у тебя никогда не было ша̄хида и твое сердце никогда не разрывалось на куски из-за любви и ревности к этому ша̄хиду. О Друг! Свидетель на этой стоянке будет один, а того, о чем Он свидетельствует, — неисчислимое [множество]. Тебе можно говорить о таких вещах. Разве ты не знаешь, что множества, взятые по отдельности, являются единичными. Эта стоянка была доверена Х̣усайн-и Манс̣ӯру[1], когда он сказал: «Каждое из множеств, взятое по отдельности, является единичным». Счет до десяти (‘ак̣д-и дах = счет на десяти пальцах. — В. Д.) возник из единицы, и единица [= один палец] входит в ту общую сумму (маджмӯ‘ = сжатый кулак. — В. Д.). Это — стоянка разглашения [божественной тайны][2], которую выдержит не каждый. Свидетель и то, о чем Он свидетельствует, будут самим единством в Истине (х̣ак̣ӣк̣ат), но покажут множество [в нашем мире] посредством оборотов речи (‘иба̄рат) и намеков (иша̄рат). О друг! Свидетель и то, о чем Он свидетельствует, — это стоянка клятвы [когда клянутся Богом, призывая Его в свидетели]. Если ты как следует подумаешь, то [поймешь, что] иногда мы свидетельствуем о Нем, а иногда Он свидетельствует о нас: в одном случае Он — свидетель, а мы — те, о ком Он свидетельствует, а в другом случае мы — свидетели, а Он — тот, о ком мы свидетельствуем. Все люди из-за этого Свидетеля пожертвовали жизнями и лишились их, и никогда никто не находил и не найдет лекарства [против ша̄хида][3].
‘Айн ал-К̣уд̣āт исследует очень сложный вопрос о соотношении земного и небесного шāхида, земных и небесных форм, объясняя,
[1] Абӯ ал-Муг̣ӣс ал-Х̣усайн ибн Манс̣ӯр ал-Х̣аллāдж ал-Байд̣āвӣ (244—309/
858—922) — знаменитый суфий, казненный в Багдаде в 309/922 г. См.: Нӯр ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣мāн Джāмӣ. Нафах̣āт ал-унс мин х̣ад̣арāт ал-к̣удс (Дуновения дружбы от тех, в ком присутствует святость). Введение, редактирование и приложения Мах̣мӯда ‘Āбидӣ. 5-е изд. Тегеран, 1386/2007. С. 153—154, № 176; Abū ‘Abd al-Raḥmān Muḥammad b. al-Ḥusain b. Muḥammad b. Mūsā al-Sulamī. Kitāb Ṭabaqāt al- sūfiyya. Texte arabe avec une introduction et un index par Johannes Pedersen. Leiden, 1960. P. 308—313; The Tadhkiratu ’l-Aūliyā of Muḥammad Ibn Ibrāhīm Farīdu ’ddīn ‘Aṭṭār / Ed. by R. A. Nicholson. London; Leide, 1907. Pt. 2. P. 135—145; La passion d’al-Hossayn-Ibn-Mansour al-Hallaj martyr mystique de l’Islam exécuté à Bagdad le 26 mars 922. Étude d’histoire religieuse par Louis Massignon. T. 1—2. P., 1922.
[2] Ал-Х̣аллāджа умеренные суфии — его современники и суфии последующих веков обвиняли в разглашении божественной тайны (ифшā’ ас-сирр), поскольку о страстной любви к Богу и о своем единении с Ним на уровне сознания (иттих̣āд) он говорил непосвященным и неподготовленным верующим, которые в результате его проповедей могли прийти в смятение, совершить необдуманные поступки и даже отказаться от веры.
[3]Абӯ ал-Ма‘а̄лӣ ‘Абдалла̄х… Тамхӣда̄т… Указ. соч. С. 295—296 (Десятый раздел).
363
каким образом влюбленный в Бога мистик вбирает в себя по крупицам качества, которые в нерасчлененном виде содержатся лишь в Истине, или в Боге:
Увы! Кто же сообщил [тебе] о стоянке ша̄хидов и кто может сообщить? Ты еще даже не знаешь, что ша̄хид существует из-за того, что он любим сердцами. Часть божественной любовной игры содержится в этом земном ша̄хиде, в [его] красивом лице. Та Истина может принять вид (тамас̱с̱ул) этой красивой формы. Я готов пожертвовать жизнью ради того, кто почитает земного шāхида, ибо почитатели небесного ша̄хида очень редки. Но не думай, что я подразумеваю чувственную любовь, являющуюся вожделением; нет, я говорю о любви сердца, а эта любовь встречается редко. Подожди до тех пор, пока ты не достигнешь той стоянки, на которой тебе представят семьдесят тысяч форм, и ты увидишь каждую форму, схожую с твоей формой. И ты скажешь: «С какой из этих форм я сам связан? Как семьдесят тысяч форм [могут быть] созданы (мумкан или мумаккан) одной формой?» А это может быть потому, что семьдесят тысяч качеств содержатся (дардж) и смешаны в нужных пропорциях (мамзӯдж) и прочно закреплены (мутамаккин) в каждой наделенной каким-то качеством [вещи] (маус̣ӯф) и в каждой сущности (з̱а̄т). Каждое свойство и каждое качество принимает вид какой-то формы и становится персоной (шахс̣). Увидев все эти качества, человек подумает, что это он сам, [однако] это не он, но то, что имеет к нему отношение. Увы! Мы прощены за то, что очень далеки от познания Истины и невосприимчивы к зрению сердца и за то, что из-за величия [своей] человеческой природы находимся в безводной пустыне.
Не увидев лиц несчастных [людей],
не увидев [хотя бы] издали отведавших ада,
зачем ты претендуешь на любовь успокаивающих сердце
[возлюбленных]?
Какое дело до любви тем, кто имеет хорошую репутацию[1]?
В трактате о любви («Риса̄ле дар ‘иш̣к») среднеазиатского суфия Сайф ад-Дӣна Ба̄х̱арзӣ (586—659/1190—1261) также нашло отражение учение о ша̄хиде. Упомянем некоторые положения мистической любви, получившие развитие в трактате Ба̄х̱арзӣ и прежде всего связанные с ша̄хидом.
[1]Абӯ ал-Ма‘а̄лӣ ‘Абдалла̄х… Тамхӣда̄т… Указ. соч. С. 297—298 (Десятый раздел).
364
По мнению У. Читтика, в персидской литературе термин ша̄хид может обозначать прекрасного мальчика или прекрасную женщину, которые воспринимаются как знаки, зеркала или «свидетели» красоты Бога. Отсюда следует, что он обозначает «объект красоты, заслуживающий нашей любви», т. е. возлюбленного, будь то Истинного или мнимого. Возможно, термин относится к образу или форме истинного возлюбленного в сердце. В этом случае он примыкает к своему первому значению, ибо «никто не знает Бога, кроме Бога». Как преходящее не может знать Вечного, так и в случае созерцания суфием Бога в своем сердце Бог сам является созерцателем: в конечном счете свидетельство, свидетель и засвидетельствованный — все они являются одним[1].
Учения о ша̄хиде придерживался и духовный наставник Сайф ад-Дӣна Ба̄х̱арзӣ — Наджм ад-Дӣн Кубра̄ (540—618/1145—1221). А. Корбэн считал, что на крайнем востоке иранского мира, в Трансоксании, Наджм ад-Дӣн Кубра̄ был проводником суфизма в Центральной Азии в направлении практики созерцания, особое внимание уделявшим явлениям света и цвета. У него встречается аналог совершенного человека — образ, который Кубра̄ называет своим свидетелем в ви�дении Бога, сверхчувствительным личным проводником, солнцем таинственности и т. д.[2] По Кубра̄, созерцатель (ша̄хид) одновременно и тот, кого созерцают (машхӯд), и тот, кто является свидетелем[3]. Мистик же имеет свидетеля (ша̄хид), который называется личным проводником в сверхчувственном мире. Он ведет мистика к небесам; таким образом, он появляется именно на небесах[1]. Личный проводник в сверхчувственном мире обозначается как ша̄хид. Это характерный термин тех духовных искателей, которые в суфизме называются «верными влюбленными», ибо они созерцают красоту как величайшую из всех теофаний[2]. Учение о любви Наджм ад-Дӣна Кубра̄ имеет, по существу, связь со взглядами тех, для кого, подобно мистику Рӯзбиха̄ну Бак̣лӣ-йи Шӣра̄зӣ (ум. 606/1209), человеческая и божественная любовь никоим образом не противостоят одна другой
[1]Chittick W. C. The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rūmī. N. Y., 1983. P. 288.
[2]Corbin H. The Man of Light in Iranian Sufism. L., 1978. P. 8—9; Корбен А. Световой человек в иранском суфизме / Пер. с франц. Ю. Стефанова. М., 2013. С. 117—121.
365
как дилемма, требующая, чтобы мистик сделал выбор. Они — две формы той же любви. Переход от одной формы к другой не состоит в передаче любви от одного объекта к другому, так как Бог — не объект, Бог — абсолютный субъект. Переход от одной формы любви к другой подразумевает метаморфозу субъекта — ‘а̄шик̣. По этой причине Наджм ад-Дӣн Кубра̄ не делает такого разграничения между божественной и человеческой любовью, как некоторые благочестивые и набожные аскеты[3].
Приведем рассказ из трактата Ба̄х̱арзӣ о мистической любви юноши к некоей девушке, выступающей в роли ша̄хида.
Наставник ученых человечества, проверяющий слиток мусульманского права и теоретических наук маула̄на̄ Рад̣ӣ ад-Дӣн Нӣша̄пӯрӣ[4] — да помилует его Аллах, — в книге «Мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣» («Благородные нравы») рассказывает, что некий юноша для приобретения знаний пришел в город Балх̱. Он остановился в некоем медресе. Однажды он проходил мимо ворот сада. Неожиданно его взгляд упал на красивую женщину. Власть любви к этой девушке раскинула завесы господства в сердце того счастливца. Желание сна и пищи оставило его. Обязанности учебы и тонкости знаний превратились в помеху. Каждый миг следы слабости и истощенности становились очевиднее. Зная о его горячем сердце, наставник имел большое доверие к нему. Когда он своими глазами увидел помутнение [его] рассудка, стал выяснять и разузнавать, но юноша никому не сообщал о своей тайне.
Стихотворение
Боль, лекарством от которой было твое лицо,
Пройдет ли от прибытия незнакомого врача?
[1] Ibid. P. 85.
[2] Ibid. P. 86.
[3]Corbin H. The Man… Op. cit. P. 87—88.
[4] Рад̣ӣ ад-Дӣн Нӣша̄пӯрӣ (ум. 598/1202) — персидский поэт, живший в Хорасане, автор стихотворного «Дӣва̄на» объемом 4000 бейтов и дидактического сочинения «Мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣» («Благородные нравы»). Сочинение «Мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣» было издано в Тегеране в 1341/1962 г., а рассказ о влюбленном юноше заимствован Ба̄х̱арзӣ из 26-й главы («О любви») этого произведения Рад̣ӣ ад- Дӣна Нӣша̄пӯрӣ. См.: Рад̣ӣ ад-Дӣн Абӯ Джа‘фар Мух̣аммад Нӣша̄пӯрӣ. Мака̄рим ал- ах̱ла̄к̣ (Благородные нравы) // Ду риса̄ле дар ах̱ла̄к̣: 1) Мака̄рим-и ах̱ла̄к̣ аз Рад̣ӣ ад-Дӣн Нӣша̄пӯрӣ; 2) Гуша̄йиш-на̄ме мансӯб ба Х̱ва̄дже Нас̣ӣр ад- Дӣн Т̣ӯсӣ (2 трактата о морали: «Благородные нравы» Рад̣ӣ ад-Дӣна Нӣша̄пӯрӣ и «Книга, разрешающая [трудности]», приписываемая Нас̣ӣр ад-Дӣну Т̣ӯсӣ). Издал Мух̣аммад Так̣ӣ Да̄нишпижӯх. Тегеран, 1341/1962. С. 139—143 (26-я глава).
366
Как только состояние стало критическим, юноша слег. Наставник послал к нему товарища, имевшего с ним близкие отношения, и на своем языке передал послание, что сокрытие любви граничит с благородством, но, так как состояние угрожает жизни, тебе положено по закону шариата сообщить нам, к кому привязано твое сердце, чтобы, если будет возможно согласно шариату, я постарался о вашей встрече. Когда [юноша] раскрыл свою тайну и указал жилище возлюбленной, случайно оказалось, что отец девушки был преданным муридом наставника. Из-за доверия, которое он имел к искренности его веры и желаний, наставник вызвал его и сказал: «Доверяешь ли ты моей набожности, что я никогда не допущу дела, противоречащего шариату?» Отец девушки ответил: «Мое мнение о твоем благочестии и набожности таково, что [даже] незначительный грех никогда не посетит твои мысли». Тогда наставник рассказал ему о деле и о том, что состояние этого юноши близко к смерти и что благо будет в том, чтобы он послал дочь посидеть у его изголовья хоть на один час. «А так как эти слова предназначены для защиты невинной души, согласно шариату, можно получить разрешение. А если юноша [захочет] освободиться от смерти, то вступит в брак, и условия и правила для этого будут соблюдены, а если отдаст Богу душу, то до Страшного суда мы не будем причастны к этой вине». Отец девушки, найдя эти слова согласующимися с шариатом и мудростью, сказал: «Слушаюсь и повинуюсь». Сразу же ушел и отправил дочку в дом имама. Наставник приказал обитательницам гарема облегчить для ее сердца это событие, и ее повели к изголовью юноши. Увидев красоту возлюбленной, юноша потерял сознание.
Стихотворение
Только увижу ее я внезапно,
Как смущаюсь, даже едва могу ответить.
Увидев силу слабости юноши из-за любви к ней и обнаружив изменение его состояния при встрече, девушка сжалилась над ним, сострадание проявилось в ней, полились слезы из родника глаз, нитку сочных жемчужин[1] представила она на базаре лица и спросила: «Раз состояние было таким, почему же с самого начала не известил, чтобы положение не стало таким критическим?» Весь тот день девушка прислуживала юноше и по своему желанию поила его шербетом, в котором он нуждался (т. е. вступила с ним в половую связь. — В. Д.) до тех пор, пока Дева-Солнце не обратила взор к брачному ложу
367
запада и не показались со всех сторон передовые отряды черного, как смола, войска. Юноша пролил несколько слезинок скорби на свои щеки и сказал:
Стихотворение
Наступила ночь любви, а я знаю, что тебя не будет.
Уходи, уходи, так как меня этой ночью, без сомнения,
не станет.
О дорогая, моя жизнь была привязана к единению с тобой,
Когда ты ушла, исчезло мое лекарство.
Девушка со слезами на глазах пожелала [ему] спокойной ночи и ушла. Юноша вслед за этим путником выслал душу из закоулков кельи бессильного тела для проводов возлюбленной, и об этом печальном событии всем стало известно ночью.
На другой день около тысячи человек, достойных и добродетельных, которые [даже] не были знакомы с этим юношей, надели траур по нему и вышли проводить его тело.
Стихотворение
Берегись, о сердце, берегись и оставь влюбленность,
Ведь ты получило от нее рану и узнало ее в деле.
От этого — ручьи крови на лице,
Помни везде об этом случае[2].
Вступив в половую связь, юноша лишился мистической любви, он перестал нуждаться в возлюбленной, ибо духовной любви уже не осталось, а физические отношения, земная любовь не являются смыслом жизни влюбленного мистика. Поэтому юноше оставалось либо предаваться обычной мирской любви, вступив с девушкой в брак, либо, чтобы оставаться мистиком, навсегда лишиться жизни.
Подавление чувственности представляло наисерьезнейшую проблему для суфиев, склонных к рассматриванию Бога в человеческой форме. X. Риттер отмечал, что суфии дискутировали о том, возможна ли связь высших форм любви с чувственностью. Одни придерживались мнения, что половой акт губит любовь, другие утверждали
[1] Т. е. поток слез.
[2]Сайф ад-Дӣн Ба̄х̱арзӣ. Риса̄ле дар ‘ишк̣ (Трактат о любви) // Саргузашт-и Сайф ад-Дӣн Ба̄х̱арзӣ ба к̣алам-и Ирадж Афша̄р (История жизни Сайф ад-Дӣна Ба̄х̱арзӣ, написанная Ираджем Афша̄ром). Тегеран, 1341/1962. Прил. 2. С. 13—15.
368
обратное[1]. Обычно высокие формы любви в высказываниях мистиков оказываются свободными от чувственности или отрицают чувственность и борются с ней. Искренним влюбленным (‘а̄шик̣-и с̣а̄дик̣) считается тот, чья любовь не определена чувственными желаниями[2]. Также не является целью чувственности совместная жизнь мужчины и женщины. Чувственный порыв существует для того, чтобы создать высшие формы любви — ‘ишк̣. Из ‘ишк̣ тогда развивается еще более высокая форма — мах̣абба, которая приводит к растворению в возлюбленном. Умереть ради возлюбленного или с его помощью является более ценным, чем чувственный порыв[3].
Знаменитый персидский суфийский писатель и поэт ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ (817—898/1414—1492) в своем дидактическом произведении «Баха̄риста̄н» («Весенний сад») приводит рассказ о некоем красивом юноше, выполнявшем роль ша̄хида в суфийской обители, и о страданиях суфиев, вызванных его отсутствием:
Аркан желания завлек некоего красавца в кружок дервишей, и он обрел покой, став точкой в центре круга суфиев[4].
[1]Ritter Н. Das Meer der Seele… Op. cit. S. 353.
[2] Ibid.
[3] Ibid. S. 360.
[4] Т. е. он стал центром их внимания. Очевидно, в персидском тексте вместо слова нукте «тонкая мысль», «тонкое замечание» должно быть нук̣т̣е «точка». Термины нук̣т̣а (араб.) «точка» и да̄’ира (араб.) «окуржность, круг» были достаточно широко распространены в персидской суфийской литературе.
Точка у суфиев указывает на истинное единство, ибо ее движение по орбите приводит к появлению многообразия мира и к возникновению индивидуальных различий (та‘аййуна̄т) у вещей. Из точки получаются тысячи форм, образов, окружностей, предметов. Благодаря точке круг бытия приходит в движение, а в ней самой проявляются божественные сущность и величие, она становится местом соприкосновения предвечности и вечности, сокрытого (г̣айб) и видимого воочию (шаха̄дат), духа и души, чувственного материального мира (мулк) и невидимого скрытого потустороннего мира — высшего мира идей (малакӯт), любящего Бога и любимого Им. См.: Саджжа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и луг̣а̄т-и ис̣т̣ила̄х̣а̄т ва та‘бӣра̄т-и ‘ирфа̄нӣ (Словарь мистических терминов и выражений). 2-е изд. Тегеран, 1373/1995. С. 388, 391, 770—771.
Да̄’ире — окружность, круг. Это — стоянка любви и мир бытия, приходящий в движение благодаря точке, находящейся в середине круга и означающей также сердце. См.: Саджжа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и луг̣а̄т-и ис̣т̣ила̄х̣а̄т… Указ. соч. С. 380—381.
369
К̣ит̣‘а[1]
Его лицо стало к̣иблой для ищущих Бога,
[отвернувшись] от Бога, они повернулись к нему лицом.
Носящие футу[2] к этому сладкоречивому
проявляли чрезмерный интерес, как мухи к сахару.
Каждый хотел иметь его своим другом и стремился обрести его расположение до тех пор, пока в конце концов из-за этой борьбы среди них не случилось разногласие и не возникла распря.
К̣ит̣‘а
Очень возможно, что влюбленным [приходится] бить
друг друга,
когда они претендуют на любовь к одному [и тому же]
красивому возлюбленному.
Когда паломники быстро и с [религиозным] пылом обходят
вокруг Ка‘бы[3],
случается, что соперничают друг с другом (т. е. толкают друг друга,
чтобы быть первыми или подойти ближе к храму. — В. Д.).
Старец обители, который и сам носил колпак из того же войлока и в этом объекте желаний постоянно [видел] перед собой свидетеля [божественной красоты], вызвал к себе этого юношу и обратился к нему с назидательной речью: «О дорогое дитя! О милый юноша! Не общайся с каждым, как сахар с молоком, и не цепляйся за веревку
[1]К̣ит̣‘а (араб. «отрывок», «фрагмент») — одна из жанровых форм персидской классической поэзии; это — монорифмические стихотворения без первого парнорифмующегося двустишия объемом от двух до двадцати-тридцати бейтов. Темами к̣ит̣‘а были прежде всего философская лирика, дидактика, сатира, послания друзьям, родственникам, вельможам, реже — просьбы и восхваления.
[2] «Носящие футу» здесь — дервиши. Фута (араб. фӯт̣а, перс. фӯта) — кусок ткани, которым обматывают бедра, когда идут в баню; набедренная повязка для бани.
[3] Ка‘ба (от араб. ал-ка‘ба) — храм, расположенный в Мекке, являющийся главным святилищем мусульман и главным объектом паломничества (х̣аджж), которое истинно верующим мусульманам рекомендуется совершать ежегодно. Представляет собой сооружение неправильной кубической формы со священным камнем, вмонтированным в одну из стен. Паломники семь раз обходят вокруг Ка‘бы и целуют «черный камень», якобы посланный Аллахом с неба. В переносном смысле Ка‘ба — центр притяжения, цель или объект желания.
370
обмана каждого недостойного; ты — зеркало, которое показывает Бога, тебе не следует показывать [свое] лицо каждому ничтожному.
Руба̄‘ӣ[1]
Ни на один миг не отдавай [свои] поводья в руки других.
Находясь в уединенном месте, не принимай ни избранных
людей, ни простых.
Твое лицо — это зеркало, отмеченное [божественными]
атрибутами,
не позволяй ржавчине подступиться к отполированному
зеркалу».
Выслушав такой совет, этот прекрасный юноша стал угрюмым и, рассердившись, встал и под каким-то предлогом вышел из обители и не появлялся в ней несколько дней. Старец и ученики из-за печали от разлуки с ним дошли до изнеможения и от боли, вызванной его бегством, со стонами сверлили алмазами ресниц жемчужины бессилия и беспомощности и произносили словами самоуничижения и языком извинения стихотворение:
О юноша! Возвращайся, ибо никто не в силах
повелевать тобой.
Сиди с кем хочешь и проходи мимо кого хочешь.
Руба̄‘ӣ
Хотя ты — это заблуждение разума и противник веры,
возвращайся, ибо ты — успокоение разбитого сердца.
Достаточно того, что ты видишь наше несчастье и тяготы,
ты можешь сидеть с нами как незваный гость, живущий
за счет других.
Этот юноша, выслушав извинение дервишей, отказался от упорства и возвратился в общество тех покинутых им и страдающих от разлуки с ним.
[1]Руба̄‘ӣ (араб. «состоящий из четырех частей») — одна из жанровых форм персидской классической поэзии; это — стихотворения, состоящие из четырех строк с рифмой ааба, темами которых являлись философская лирика, гедонические мотивы, воспевание природы и радостей жизни, суфийская лирика с описанием мистических переживаний и любви к Другу-Богу или к виночерпию — божественному возлюбленному. Жанровая форма руба̄‘ӣ возникла в персидской литературе, очевидно, в Х в.
371
К̣ит̣‘а
До сих пор из четырех вещей, связанных с возлюбленным,
четыре вещи
более приятны, чем покой, наступивший вслед за милостью
после страдания:
встреча после разлуки и смерть после лжи,
примирение после ссоры и согласие после порицания[1].
В начале своей поэмы «Тух̣фат ал-ах̣ра̄р» («Подарок благородных») ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ излагает космологические идеи, зародившиеся у него под влиянием системы знаменитого андалусского мистика и философа, автора учения о единстве бытия (вах̣дат ал-вуджӯд) Ибн ‘Арабӣ (560—638/1165—1240): изначально Единый предстает в качестве ша̄хида — юноши, рассматривающего свою собственную красоту в расчленении или разделении своих качеств, т. е. сущность изначально Единого последовательно проявляется в вещах и предметах нашего мира; именно в них конкретизируются атрибуты Бога и становятся таким образом доступными восприятию:
Речь первая
О сотворении мира, который является зеркалом, показывающим красоту имен и атрибутов преславного и всевышнего Творца
Ша̄хид, который изначально пребывал в покоях сокрытого [мира], быстро подпоясался поясом для [демонстрации Своей] красоты. Он держал перед Собой зеркало, показывающее сокрытое, а Его красота сама полностью проявляла себя. Только Он был одновременно наблюдающим и наблюдаемым, кроме него, никто не проходил через это поле. Все было единством, и [там] не было никакого двуединства и отсутствовала всякая претензия на существование нашего бытия и на существование твоего бытия[2]. Тростниковое перо было еще
[1]Нӯр ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ. Баха̄риста̄н. Издание и введение А‘ла̄х̱а̄н’а Афс̣ах̣за̄д’а. Душанбе, 1972. С. 67—68 (последний рассказ 5-й главы); русский перевод: Абдурахман Джами. Весенний сад (Бахаристан) / Пер. с таджикского (фарси), вступит. статья и примеч. М. Занда; под общ.; ред. К. С. Айни. Душанбе, 1964. С. 117—118.
[2] Двуединство или двубытийность (перс. ду’ӣ) — восприятие влюбленным, кроме бытия возлюбленного или Бога, еще и своего бытия. При этом воспринимаются как бы две единицы, два бытия — собственное бытие влюбленного, являющееся с точки зрения мистиков иллюзорным, мнимым, аллегорическим, и единственно достойное внимания и единственно существующее бытие — бытие Бога-возлюбленного; собственное же бытие влюбленного должно исчезнуть, раствориться в бытии кумира.
По этому же типу в персидском языке от личных местоимений 1-го и 2-го лица образованы близкие по смыслу понятия: манӣ — существование или наличие моего бытия, ма̄’ӣ — существование или наличие нашего бытия, ту’ӣ — существование или наличие твоего бытия, которые означают, что, кроме бытия Бога, в сознании мистиков еще сохраняются следы «моего», «нашего» или «твоего» бытия. В состоянии же единства (перс. йакӣ или йага̄нагӣ) бытие влюбленного растворяется, сливаясь с бытием возлюбленного или Бога, и состоящее из двух становится единым, одним.
372
избавлено от очинки его [перочинным ножом], доска также еще отдыхала от боли, причиняемой царапаньем по ней [тростникового пера]. Трон (т. е. небосвод. — В. Д.) не поставил еще ногу на скамейку (т. е. на землю, от перс. курсӣ-йи х̱а̄к — земля, земной шар. — В. Д.), разум еще не имел желания расспрашивать о редких и необычных вещах. Орбита предметов, совершающих круговращение [во вселенной], с ее сотней приближений и удалений еще игнорировалась неким центром [вселенной], находящимся в потайном месте. Нить небесной сферы еще не нанизала звезд, спина земли еще не несла людей. Центр [мира] отцов, находясь в теснине, окруженной сторонами света, был еще защищен от родственных связей с матерями; в этой колыбели, затаив дыхание, еще пребывал во сне небытия [их] дитя — природные царства[1]. Глаз того ша̄хида, видящего небытие,
[1] Под «отцами» (араб. мн. ч. ’а̄ба̄’) здесь подразумеваются семь небесных сфер, под матерями (араб. мн. ч. уммаха̄т) — четыре элемента, а под ребенком (араб. т̣ифл) — три царства природы (араб. мн. ч. мава̄лӣд): животных, растений и минералов.
Согласно космологическим представлениям мусульман, Бог сначала создал небесный трон (‘арш), а затем небесный престол (курсийй), семь небесных сфер и четыре элемента — огонь, воздух, воду и землю. Как указывал У. Читтик, четыре элемента, которые часто объясняются как опоры (арка̄н) материального мира, представляют собой фундаментальные онтологические указания, полученные этим миром от божественных атрибутов. Некоторые суфии говорят о четырех опорах божественности, имея в виду четыре самых главных божественных атрибута — жизнь, знание, волю и могущество и описывая элементы как внешнее проявление этих четырех имен. Каждый элемент имеет два свойства: огонь — горячий и сухой, воздух — горячий и влажный, вода — влажная и холодная, земля — холодная и сухая. Каждый элемент противостоит любому другому в отношении одного или обоих этих свойств. Смешение элементов приводит к появлению физического мира. Эти четыре божественных атрибута: жизнь, знание, воля и могущество, — представлены в нашем мире соответственно огнем, воздухом, водой и землей. См.: Chittick W. C. The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rumi. N. Y., 1983. P. 51; 354, n. 16.
Согласно исламской космологии, центр — Землю — окружают девять концентрических сфер. Самая высшая сфера, или крайний предел видимого мира — девятая сфера (или беззвездное небо), иногда понимаемая как трон (‘арш) Бога. Выше и дальше видимого мира — лишь духовный мир, мир божественного повеления. Далее в нисходящем порядке следуют восемь других небесных сфер: неподвижные звезды, называемые божественным престолом (курсийй) (8-я), Сатурн (зух̣ал) (7-я), Юпитер (ал-муштарӣ) (6-я), Марс (ал-миррӣх̱) (5-я), Солнце (аш-шамс) (4-я), Венера (аз-зухара) (3-я), Меркурий (‘ут̣а̄рид) (2-я) и JIyнa (ал- к̣aмap) (1-я). Видимые сферы — это внешнее проявление духовных степеней мира божественного повеления. На небесах пребывают духовные существа, или ангелы. В пределах последней, самой близкой к Земле небесной сферы — т. е. сферы Луны, находятся сферы четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли. Эти элементы не могут проявиться в виде материи, ибо в своем чистом беспримесном состоянии они не в силах существовать в этом мире противоположностей. Вращение сфер приводит к смешению элементов. Другими словами, все, что случается на уровне элементов и материи, находится в зависимости от небесных сфер, которые представляют собой более высокие онтологические уровни. Из четырех элементов производятся три царства элементного мира: минералы, растения и животные. См. Chttick W. C. The Sufi Path… Op. cit. P. 72—74.
Таким образом, минералы, растения и животные, порожденные семью небесными сферами и четырьмя элементами, являются тремя детьми, рожденными семью отцами и четырьмя матерями.
373
увидел внутренний смысл[1] несуществующего как существующего. Хотя в нерасчлененной сущности Он увидел [уже] красоту отделенных друг от друга вещей и атрибутов, Он захотел, чтобы Его красота показалась перед Его взором в других зеркалах и чтобы она обязательно показала другое лицо, соответствующее каждому из своих предвечных атрибутов (с̣ифа̄т-и к̣идам)[1]. Тут Он создал
[1]Ма‘на̄ (араб. мн. ч. ма‘а̄нин) — значение, духовный, неземной, сверхъестественный смысл, внутренняя, скрытая, невидимая и одновременно истинная реальность вещей и явлений, их подлинная сущность, это в конечном счете вещи и явления в том виде, в каком они известны и представлены Самому Богу. А поскольку Бог выше всякой множественности и олицетворяет единство, то смыслом всех вещей является Бог: «Форма — это тень, а смысл — Солнце». См.: Chittick W. C. The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rumi. N. Y., 1983. P. 19.
Термину ма‘на̄ часто противопоставляется термин с̣ӯрат в значении внешний вид вещей и явлений. С̣ӯрат (араб.) — форма, лицо, внешний вид вещей, внешняя видимая форма Бога. У суфиев термин может означать перворазум и всеобщую душу. По их мнению, у Творца есть форма (с̣ӯрат) и лицо (ваджх), которые не похожи на форму и лица людей, и люди не в силах их постичь. Форма людей — бренная, преходящая, исчезающая и превращающаяся в ничто, в то время как форма Бога — вечная и излучающая свет. Если Бог снимет со Своей формы или лица завесу, отделяющую Его от мира, то Его великолепие и блеск сожгут и превратят в прах небо и землю. См.: Саджжа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и луг̣ат-и ис̣т̣ила̄х̣а̄т ва та‘бӣра̄т-и ‘ирфа̄нӣ (Словарь мистических терминов и выражений). 2-е изд. Тегеран, 1373/1995. С. 535—536.
374
живительный луг мира, создал сад становления и место становления (каун у макāн) (т. е. вселенную, мир. — В. Д.). Его показывание [Своей] красоты (джилва) сделало явной другую красоту из каждой ветви, каждой розы, каждого листа и каждой колючки. Он дал кипарису знак от Своего стройного стана, розе Он сообщил о Своем прекрасном лице. Бутону розы[2] Он приготовил речь из Своих сладких слов, сняв замок со Своих драгоценных уст. Для лужайки с розами Он создал ароматическое вещество (г̣а̄лийе)[3], розе Он описал ее свойства. Его развевающийся локон стал объектом желания ветра, Он завязал узелки на локонах самшита. Обольстительному нарциссу (перс. наргис-и джамма̄ш = глазам возлюбленного) [Своим] томным взглядом Он сыграл мелодию опьяненных, которые любят пить вино по утрам[4].
‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ в своей антологии суфийских святых «Нафах̣а̄т ал-унс мин х̣ад̣ара̄т ал-к̣удс» («Дуновения дружбы от тех, в ком присутствует святость») в главе, посвященной персидскому мистическому поэту Аух̣ад ад-Дӣну Кирм̣а̄нӣ (ум. 635/1238), сообщает о способе созерцания божественной красоты посредством земных чувственных форм, которого придерживались, помимо Аух̣ад
[1]К̣идам (араб.) — древняя, предшествующая, безначальная вечность, несотворенный мир. Слово к̣идам, обозначая вечность, существовавшую до появления сотворенного мира, до того, как Бог создал первого человека — Адама, т. е. вечность вне мироздания, указывает на абсолютное бытие, или бытие Бога. Антонимом этому понятию выступает ‘адам (араб.), обозначающее несуществование абсолютного бытия, т. е. явления и предметы материального мира. Эта древняя вечность, вечность вне сотворенного материального мира (т. е. абсолютное бытие Бога) существовала еще до того, как Бог создал материальный мир и человека, поэтому она старше, древнее материального мира. Но каждый человек до своего рождения пребывает в этой вечности, затем он приходит в наш иллюзорный материальный мир, являющийся небытием (ибо реально только бытие Бога), а затем после физической смерти его душа возвращается к Богу, а значит туда, где она находилась до рождения человека и где находился он сам в уме Творца как архетип или прообраз. Исключение составляют искренне влюбленные в Бога мистики, которые еще при своей жизни могут достичь божественного бытия. См.: Utas B. A Persian Sufi Poem: Vocabulary and Terminology. Concordance, frequency word-list, statistical survey, Arabic loan-words and Sufi-religious terminology in Ṭarīq ut-taḥqīq (A.H. 744). Lund, 1978. P. 171, 199.
[2]Бутон розы — перс. г̣унче, метафор. «губы возлюбленного».
[3]Г̣алӣйе (перс.) — ароматическое вещество черного цвета для волос и бровей, представляющее собой смесь мускуса, амбры, камфары и бегенового масла, получаемого из орехов бегенового орешника (араб. ба̄н — бегеновый орешник).
[4] Tuḥfat ul-aḥrа̄r. The Gift of the Noble: being one of the seven poems, or Haft aurang of Mullа̄ Jа̄mī / Ed. by F. Falconer. London, MDCCCXLVIII (1848). P. 36—37.
375
ад-Дӣна, мистический философ Ах̣мад ал-Г̣аза̄лӣ (ум. 520/1126) и персидский поэт-суфий Фах̱р ад-Дӣн ‘Ира̄к̣ӣ (610—688/1213—1289). Суфийский шейх, теолог шафиитской школы и основатель суфийского ордена сухравардӣйа Шиха̄б ад-Дӣн Абӯ Х̣афс̣ ‘Умар ас-Сухравардӣ (539—632/1145—1234) осуждал такой вид созерцания, считал Аух̣ад ад-Дӣна Кирма̄нӣ еретиком и новатором (араб. мубтади‘), заслуживающим порицания. Джа̄мӣ берет под защиту вышеупомянутых шейхов и пытается доказать, что такой вид созерцания божественной красоты допустим и не противоречит религиозному закону:
Возможно, что шейх Шиха̄б ад-Дӣн [Сухравардӣ] — да будет свята его могила — под его (Аух̣ад ад-Дӣна. — В. Д.) новшеством (ибтида̄‘) подразумевал то, что сообщают о нем, что он рассматривал Истину посредством ее видимых (т. е. земных. — В. Д.) проявлений и абсолютную красоту созерцал в относительных (букв. ограниченных) формах (с̣увар-и мук̣аййада̄т). Как уже было сказано, шейх Шамс ад-Дӣн Табрӣзӣ[1] — да будет свята его могила — спросил его: «В чем заключается твоя практика?» Он сказал: «Я рассматриваю луну в водоеме», на что шейх Шамс ад-Дӣн ответил: «Почему ты не рассматриваешь ее на небе, если у тебя нет фурункула на затылке?» Сказали [однажды] Маула̄не Джала̄л ад-Дӣну Рӯмӣ[2] — да будет свята его могила: «Он (т. е. Аух̣ад ад-Дӣн. — В. Д.) был любителем ша̄хида, однако был святым, смотревшим на возлюбленного чистым взглядом (па̄кба̄з)». Маулана ответил: «Если бы он сделал
[1] Шамс ад-Дӣн Мух̣аммад ибн ‘Алӣ ибн Маликда̄д Табрӣзӣ (Шамс-и Табрӣзӣ) (появился в Конье в 642/1244 г., убит, вероятно, в 645/1247 г.) — суфий, мистический возлюбленный и друг персидского суфийского поэта Джала̄л ад-Дӣна Рӯмӣ (604—672/1207—1273). См.: Нӯр ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ. Нафах̣а̄т ал-унс… Указ. соч. С. 466—469, № 496; Ritter H. Philologika XI. Maulа̄nа̄ Galа̄laddīn Rūmī und sein Kreis // Der Islam. Bd. 26. Berlin, 1940—1942. Heft 2. S. 121—124; Heft 3. S. 227—229.
[2] Маула̄на̄ Джала̄л ад-Дӣн Мух̣аммад ибн Мух̣аммад ибн Х̣усайн Х̱ат̣ӣбӣ, известный как Маулавӣ Рӯмӣ (604—672/1207—1273) — знаменитый персидский суфийский поэт и основатель дервишеского ордена маулавиййа. См.: Фурӯза̄нфарр Бадӣ‘ аз-Зама̄н. Маула̄на̄ Джала̄л ад-Дӣн Мух̣аммад машхӯр ба Маулавӣ. Тегеран, 1315—1317/1937—1939; Фурӯза̄нфарр Бадӣ‘ аз-Зама̄н. Риса̄ле дар тах̣к̣ӣк̣-и ах̣ва̄л ва зиндага̄нӣ-йи Маула̄на̄ Джала̄л ад-Дӣн Мух̣аммад (Трактат, посвященный исследованию биографии и жизни Маула̄ны Джала̄л ад-Дӣна Рӯмӣ). Тегеран, 1315/1937; 2-е изд. Тегеран, 1333/1954; Нӯр ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ. Нафах̣а̄т ал-унс… Указ. соч. С. 461—465, № 495; Ritter H. Philologika XI. Maulа̄nа̄ Galа̄laddīn… Op. cit. Heft 2. S. 116—158; Heft 3. S. 221—249; Ritter H. Djalāl al-Dīn Rūmī // The Encyclopaedia of Islam. NE. Vol. II. Leiden; London, 1965. P. 393—396.
376
[это], то [его дело] погибло бы». И следующее руба̄‘ӣ Аух̣ад ад-Дӣна указывает на этот духовный смысл:
Оттого я смотрю собственным глазом на [земную] форму,
что в форме есть след от неземного смысла.
Этот мир является видимой формой, и мы пребываем
в видимых формах.
Неземной смысл можно увидеть только в [земной] форме.
В некоторых хрониках упомянуто, что когда во время музыкального слушания он впадал в экстаз, то [во время танца] разрывал платья на безбородых юношах и прислонял свою грудь к их грудям. Когда он пришел в Багдад, об этом услышал красивый сын халифа и сказал: «Он тот, кто вводит [в веру] новшества (мубтади‘), и неверующий. Если он будет так себя вести [в моем обществе], я его убью». Когда [религиозный] пыл охватил участников музыкального слушания, шейх удивительным образом почувствовал это (т. е. опасность. — В. Д.) и произнес стихи:
Мне легко стоять напротив острия кинжала
и лишиться головы по воле друга у его ног.
Ты пришел, чтобы убить неверного,
если ты — борец с неверными, то быть неверным —
дозволено.
Затем сын халифа положил голову к ногам шейха и стал его учеником.
Один из великих [познавших Бога] — да освятит всевышний Аллах их могилы — сказал: «У людей, исповедующих единство Бога и признающих божественную Истину, совершенным считается тот, кто абсолютную красоту Бога — хвала Ему — видит в земных чувственных местах проявления наружным глазом, точно так же, как он ее видит внутренним зрением в духовных местах проявления. Они созерцают внутренним зрением абсолютную духовную красоту из-за того, что видят наружным глазом относительную (букв. «ограниченную», мук̣аййад. — В. Д.) видимую красоту. А совершенная красота Бога — хвала Ему — имеет две стороны. Одна есть абсолютная красота, которая является красотой Его сущности как таковой. Познавший Бога может видеть эту абсолютную красоту при исчезновении в Аллахе — хвала Ему. Другая сторона — это относительная (букв. «ограниченная», мук̣аййад. — В. Д.) красота, которая получается через нисхождение [Бога] в чувственные или духовные места проявления. Поэтому если познавший Бога видит красоту, он видит
377
ее таким образом и знает, что эта красота есть красота Бога, которая спустилась на ступени феноменального мира (мара̄тиб-и каунӣйа). Не познавший Бога, который не имеет такого взгляда [на божественную красоту], не должен смотреть на красавцев, чтобы не попасть в пучину ошеломленности».
И он говорит в другом месте: «Среди идущих к Богу имеются такие, которые охвачены любовью к местам проявления и красивым формам. И если путник (са̄лик) не собирается подниматься [к Богу], он окажется в положении отгороженности от Бога, как об этом сказали великие — да освятит всевышний Аллах их души, — когда они искали у Него защиты: «Избави нас Боже от прекращения знакомства с Богом после того, как оно [прежде] у нас было, и от завесы, отделяющей от Бога, после того, как [прежде] нам даровалось богоявление (таджаллӣ)»[1]. И эта любовная связь, волнующая этого путника [идущего к Богу], не выходит за пределы этой красивой, воспринимаемой чувствами формы, несмотря на то, что на его долю выпало относительное (букв. «ограниченное». — В. Д.) рассматривание ее и [относительное] показывание ею себя перед ним. И если эта любовная связь и расположение [к форме у этого человека] отделятся от формы, соединятся с другой украшенной красотой формой, то он всегда будет соблазняться (каша̄каш) [той или иной формой вместо привязанности к абсолютной красоте], а любовная привязанность и симпатия к форме откроют для него дверь всякого лишения, искушения, несчастья и покинутости [Богом]. Да избавит
[1]Таджаллин (араб.) — богоявление, проявление Бога в мире, теофания. Термин связан с монистической теософией Ибн ‘Арабӣ (560—638/1165—1240), согласно которой совокупное творение является самопроявлением Бога, который, как единственно реальное бытие, находится скрытым за вещами и дает им их бытие. В вещах конкретизируются атрибуты Бога и становятся таким образом доступными восприятию. Бог создал мир (человека), чтобы самолюбоваться в нем Своею собственной красотой как в зеркале, словно божественный нарцисс, и вести с Самим собою любовную игру. Вся красота в мире, в том числе красота цветов и лугов, красивых женщин и красивых юношей, является отражением абсолютной красоты Бога, которая обнаруживается в этих «местах проявления». Каждый влюбленный любит в своем возлюбленном в действительности красоту Бога, точнее говоря, Бог любит благодаря Себе самого Себя. Свою собственную, Ему присущую красоту Бог не показывает, и как раз этим подстрекает страстное желание мистиков искать Его повсюду. Он скрыт именно потому, что он таким образом так ясно обнаруживает Себя, ибо Его места проявления являются одновременно завесами, которые Его скрывают и в которые нельзя проникнуть. Т. е. при богоявлении (таджаллӣ) Бог ни одной частью своей субстанции не присутствует в творении, но является в нем лишь как в зеркале. См.: Ritter H. Das Meer der Seele… Op. cit. S. 477—478.
378
всемогущий и великий Аллах нас и всех благочестивых от этого несчастья!»
В отношении таких великих людей, как шейх Ах̣мад Г̣аза̄лӣ, шейх Аух̣ад ад-Дӣн Кирма̄нӣ и шейх Фах̱р ад-Дӣн ‘Ира̄к̣ӣ — да освятит всевышний Аллах их могилы, — которые были заняты рассматриванием красоты в ее видимых чувственных местах проявления, можно с уверенностью предположить, более того, твердо верить, что они при этом созерцали абсолютную красоту Бога — хвала Ему — и не были привязаны к чувственным формам. И если некоторые великие этих людей осуждали, то они [по-видимому] хотели, чтобы отгороженные от абсолютной красоты не использовали их практику как свой образ действий и не судили о своем духовном состоянии по их духовному состоянию, дабы [из-за этого] не оказаться навеки в бездне покинутости Богом и в преисподней [животной] природы. А всевышний Аллах лучше знает об их помыслах[1].
Иранский ученый Бадӣ‘ аз-Зама̄н Фурӯза̄нфарр в своей книге «Мана̄к̣иб-и Аух̣ад ад-Дӣн Х̣а̄мид ибн-и Абӣ ал-Фах̱р-и Кирма̄нӣ» («Добродетели Аух̣ад ад-Дӣна Кирма̄нӣ»), посвященной жизни и религиозной деятельности Аух̣ад ад-Дӣна Кирма̄нӣ, затрагивает вопрос о суфийской практике созерцания божественной красоты при помощи земной, которой (практики) придерживался этот поэт[2]. Бадӣ‘ аз-Зама̄н приводит известную историю, восходящую к сочинению последователя Джала̄л ад-Дӣна Рӯмӣ, наставника его внука и составителя биографий шейхов ордена маулавиййа Шамс ад-Дӣна Ах̣мада Афла̄ки̣ (ум. в раджабе 761/июнь 1360 в Конье) (которую заимствовал впоследствии и Джа̄мӣ), о том, что Шамс ад-Дӣн Табрӣзӣ осуждал Аух̣ад ад-Дӣна за эту практику. Бадӣ‘ аз-Зама̄н Фурӯза̄нфарр указывает, что Афла̄кӣ исказил полемику Шамс ад-Дӣна Табрӣзӣ и Аух̄ад ад-Дӣна, и приводит подлинное содержание их беседы на основе сохранившихся речей самого Шамс ад-Дӣна:
Меня этот шейх Аух̣ад ад-Дӣн отвел на [свое] музыкальное слушание и оказывал [мне] почести, а затем привел в свою келью
[1]Нӯр ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Джа̄мӣ. Нафах̣а̄т ал-унс мин х̣ад̣ара̄т ал-к̣удс (Дуновения дружбы от тех, в ком присутствует святость). Введение, редактирование и приложения Мах̣мӯда ‘Абӣдӣ. 5-е изд. Тегеран, 1386/2007. С. 587—589.
[2] Мана̄к̣иб-и Аух̣ад ад-Дӣн Х̣а̄мид ибн-и Абӣ ал-Фах̱р-и Кирма̄нӣ. Аз му’аллафа̄т-и нӣме-йи дуввум-и к̣арн-и хафтум (Добродетели Аух̣ад ад-Дӣна Х̣а̄мида ибн Абӣ ал-Фах̱ра Кирма̄нӣ. Персидский текст второй половины VII- го в. х. / XIII в. н. э.). Редактирование и примечания Бадӣ‘ аз-Зама̄на Фурӯза̄нфарра. Тегеран, 1347/1969. С. 40—41 введения редактора.
379
и как-то раз сказал: «Что случится, если побудешь со мной?» Я ответил: «При условии, что ты будешь сидеть не прячась (букв. открыто, публично — а̄шка̄р. — В. Д.) [от людей] и будешь пить вино в присутствии [своих] учеников, а я пить не буду». Он спросил: «А ты почему не будешь пить?» Я ответил: «Потому что ты — грешник счастливый, а я — грешник несчастный». Он сказал: «После этого (т. е. после твоих слов. — В. Д.) я буду не в состоянии произнести символ веры мусульман (т. е. шаха̄да. — В. Д.)», и он трижды ударил рукой по своему лбу[1].
Вина Аух̣ад ад-Дӣна, как полагает иранский ученый, заключалась в том, что красоту Истины (х̣ак̣ӣк̣ат)[2] и совершенство духовного смысла он рассматривал в [земной] форме, ибо Истину можно увидеть только в местах проявления (маз̣а̄хир), а духовный [неземной] смысл (ма‘на̄) — только в одеянии [земной] формы (с̣ӯрат). Поэтому наша любовь к чувственной красоте по своей сути является любовью к Богу, а поклонение [земной] красоте неотделимо от почитания Бога. Четверостишия Аух̣ад ад-Дӣна объясняют такие понятия, как созерцание (муша̄хадат), [неземной] смысл и [земная] форма и доказывают истинность его поступков. Вот одно из таких стихотворений:
Все те, которые меня отвергают, являются любителями ша̄хида,
если внимательно [на них] посмотреть, то денно и нощно
они заняты этим делом (т. е. ша̄хидом. — В. Д.)
На кого бы ты ни посмотрел, — все они любители ша̄хида,
которые из-за отсутствия храбрости [даже] не отрицают этого[3].
Знаменитый персидский суфийский поэт эпохи Тӣмӯридов (807—
907/1405—1502) Низ̣а̄м ад-Дӣн Мах̣мӯд Да̄‘ӣ-йи Шӣра̄зӣ (810 —
22-го дня месяца джума̄да̄ ал-ӯла̄ 870 г. л. х. / 1407—408 — 10 января 1466 г.) в своей поэме «‘Ишк̣-на̄ме» («Книга любви») также уделяет внимание взаимосвязи и взаимоотношению земной и истинной любви и той роли, которую играет ша̄хид для влюбленного в Бога мистика:
[1] Мана̄к̣иб-и Аух̣ад ад-Дӣн Х̣а̄мид... Указ. соч. С. 40.
[2]Х̣ак̣ӣк̣ат (араб. мн. ч. х̣ак̣а̄’ик̣, букв. истина) — мистическая, божественная или истинная реальность, истинное бытие, внутренние состояния и стоянки, достигаемые путником во время его путешествия к Богу и в Боге; это последняя ступень мистического пути (сулӯк, т̣арӣк̣), когда мистик, приобретая сверхъестественное прозрение, при помощи внутреннего духовного зрения (бас̣ӣрат) созерцает вещи и явления в их подлинном виде. См.: Chittick W. C. The Sufi Path of Love. The Spiritual Teachings of Rumī. N. Y., 1983. P. 10.
[3] Мана̄к̣иб-и Аух̣ад ад-Дӣн Х̣а̄мид... Указ. соч. С. 41.
380
Речь четвертая
Об истинной и земной любви[1]
Несмотря на то, что степень любви оказалась высокой, общение с людьми стало ей приятно. Хотя она всех прогоняет и ни в ком не нуждается, она [тем не менее] спускается повсюду, где пребывает. Сторониться любви не может ни одна пылинка, нет существа, которое не обольщается ею. Она ищет то Бога, то влюбленного, в сердце которого для нее есть место. И мечети засверкали благодаря ей, и питейный дом наполнен ее вином. Аскеты благодаря ей становятся совершенными, а гуляки постоянно пьют вино. Красавцы (ша̄хида̄н), лелеющие свои локоны и лица, делают это также благодаря любви. Благочестивые из-за нее становятся пьяницами, а сельские старосты завсегдатаями питейных домов. С помощью локонов красивого возлюбленного любовь расставляет сети на пути скупого богача, чтобы он почувствовал сильное смущение, какое бывает у разорившегося и влюбленного, изумленного и потерянного. Она раскрывает слабые нарциссы[2] на лице так же, как и усеянный тюльпанами луг с красавцами, чтобы с ее помощью муфтии[3] заставили ученых оставить медресе, юноша одним милым кокетливым взглядом зажег искры [любви] в целом городе, суфии в обители становились влюбленными, а пьяные с посохами в руках — безрассудными. Если кто-либо не стыдится упрека, то делом любви будет не что иное, как пленять его. Если любовь порицает, то повсюду суматоха, все в смятении, нервном возбуждении и волнении, а если [от нее исходит] кокетливый взгляд и ласка изящного луноликого [юноши], то из-за него (юноши. — В. Д.) соперники дерутся. Сети любви означают то, что сокол бросил из истинной любви зерно, а из земной — сети. Поэтому на пути к сердцу человек, приближенный к Богу (мард-и х̱уда̄), не отличает сети от зерна. По этой причине знаменитый суфий сказал, что мостом к истинной любви яв
[1] Истинная любовь — ‘ишк̣-и х̣ак̣ӣк̣ӣ — это любовь к Богу. Производная, метафорическая, мнимая или земная любовь — ‘шик̣-и маджа̄зӣ — это любовь ко всему остальному, кроме Бога. Поскольку истинной любовью является только любовь к Богу, то любовь к людям, вещам, предметам материального мира представляет собой лишь отражение, ответвление или производную от этой единственно существующей истинной любви.
[2] Т. e. глаза.
[3] Муфтий (араб. ал-муфтӣ) — авторитетный богослов-законовед, знаток и толкователь шариата, дающий разъяснение его основным положениям и принимающий решение по спорным вопросам в форме особого заключения — фетвы (араб. фатва̄), основываясь на принципах шариата и прецедентах, причем данное заключение должно даваться в письменном виде в общей форме применительно ко всем подобным случаям.
381
ляется земная[1]. Любовь к форме считай мостом к скрытой реальности вещей, через который тебе придется пройти к улице Друга. Но здесь присутствует познавший разные виды любви, считающий любовью не только истинную любовь, но наряду с абсолютной любовью, в которой нет ни локона, ни родинки, также и любовь к красивому возлюбленному. О уважаемый, когда ты окажешься в оковах на улице любви, [ты поймешь, что] оба вида любви существуют благодаря [истинной] любви (любви к Богу. — В. Д.). Эта ограниченная любовь (земная любовь. — В. Д.) сделает тебя зрелым и благородным, а затем заставит тебя страдать по абсолютной любви (любви к Богу. — В. Д.). Оба [вида любви] были предопределены Богом, а следовательно, ограниченная (земная. — В. Д.) любовь оказалась абсолютной (истинной божественной. — В. Д.). Несомненно, что в сердце каждого влюбленного человека земная любовь и истинная любовь составляют единство. Знаешь ли ты, отчего появились два вида любви? Из-за малодушия влюбленных. Когда любовь стали называть страстью, она пришла в земной мир из мира истинной реальности. А если любовь не называть страстью, то какая разница между земной и истинной любовью? Когда влюбленный больше не будет нуждаться в страсти, его любовь к форме превратится в любовь к скрытой реальности. И тогда от формы не останется никакого следа, ибо влюбленный будет смотреть на скрытую реальность вещей. Когда влюбленный полностью сжег свое бытие, ему не страшен даже огонь.
Рассказ
Слышал ли ты, что искренний шейх, идущий к Богу, святой и влюбленный, попал в сети любви к некоему царевичу, днем и ночью пребывая в оковах любви к нему. Шейх был влюбленным, а тот юноша, при помощи своей воспитанности заставивший его влюбиться в себя, — возлюбленным. Юноша выпустил из виду, что перед ним наставник [идущих к Богу], а подобное луне лицо [юноши] от благоговейного страха перед ним позеленело (ка̄хӣ, т. е. стало бледным. — В. Д.). Он (юноша. — В. Д.) выжигал клеймо рабства у себя на лбу, считая себя менее значительным, чем любой ученик. Он склонил голову веред знаменитым шейхом, но склонил ее так, как делает возлюбленный. В знак готовности служить [шейху] его белая рука опоясала поясом из локонов свой светлый лоб[2].
[1] Аллюзия на известное изречение: ал-маджа̄з к̣ант̣арат ал-х̣ак̣ӣк̣а «нереальный мир (или земная любовь) — мост к истинной (или мистической) реальности», т. е. к божественной любви, любви к Богу.
[2] Тем самым царевич дал понять, что признает шейха своим наставником и готов служить ему.
382
Он постоянно испытывал стыдливость из-за близости к шейху влюбленных. Каждый миг в красоте юноши шейх отчетливо видел сотню проявлений Бога. Однажды ночью в знак услужения и покорности юноша обнял ноги шейха. Он удалял усталость с его ног, а руки и ноги обоих были погружены в [божественный] свет. Огненная жаровня пылала, а шейх благодаря богоявлению был просветленным, а благодаря божественной тайне жизнерадостен, как будто он пребывал в священной долине (ва̄дӣ-йи мук̣аддас)[2]. Завистник сказал шаху об этом случае и с отвращением высказал скверную догадку. Он сказал: «О шах, не обманывай себя, не поддавайся на дьявольскую хитрость. Почему ты расположен к обманывающим тебя шейхам? Как может быть приближен к Богу шейх, любящий безбородых? И вот у тебя есть такой шейх, протянувший руки в желании [получить] красавца. Я видел, как он проводил ночь в вожделении, оставив ноги в объятиях царевича». Шах сказал: «У тебя нет стыда, оставь эту ложь, ибо в моем присутствии лжи не должно быть». [Завистник] сказал: «Я сразу же предъявлю тебе доказательство (сар-х̱ат̣т̣)[3], что ноги [шейха] все еще в его объятиях». Без всякого стыда завистник удалился, чтобы тайной дорогой отвести шаха на крышу обители. С крыши шах посмотрел внутрь, увидел их как раз в том положении и [в ярости] порвал воротник одежды. Он пришел в ярость, прикусил язык и сердцем и душой вознамерился убить шейха. Благодаря способности проникать в сокровенное (фира̄са)[4] наставнику в вере стало известно [о случившемся], и он вынул ноги из объятий того юноши. Опьяненный
[2]Ва̄дӣ-йи мук̣аддас или ва̄дӣ-йи айман — пустыня, в которой пророк Мӯса̄ услышал голос Бога и через которую были выведены сыны Израиля согласно повелению Господа (см. Коран 20:79(77)—81(78). У суфиев означает: 1) путь очищения сердца, которое должно воспринимать богоявление; 2) высший небесный мир; 3) указание на абсолютное единство Бога, т. е. место, где ничего нет, кроме возгласа «Я принадлежу Аллаху» и куда ничему другому нет доступа. См. Саджжа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и луг̣а̄т-и ис̣т̣ила̄ха̄т ва та‘бӣра̄т-и ‘ирфа̄нӣ (Словарь мистических терминов и выражений). 2-е изд. Тегеран, 1373/1995. С. 778.
[3]Сар-х̱ат̣т̣ (перс.) — документ о продаже или на право собственности, соглашение о найме на службу, договор.
[4]Фира̄са (араб.) — физиогномия, умение судить о мыслях по внешним проявлениям. У суфиев это наука, позволяющая получать сведения при помощи рассматривания с целью понять мысли человека, постичь признаки формы, имеющей отношение к сокрытому миру (г̣айб). Разница между физиогномией и вдохновением (илха̄м) состоит в том, что физиогномия снимает завесу со скрытых дел с помощью рассматривания (тафаррус) признаков формы, тогда как вдохновение — без его помощи. Вдохновение зависит от божественного откровения, а божественное откровение не зависит от вдохновения; святые (аулийа̄’) могут приобрести лишь вдохновение, а пророки (анбийа̄’) — божественное откровение. См.: Саджжа̄дӣ Саййид Джа‘фар. Фарханг-и… Указ. соч. С. 619—620.
383
чистым вином достоверного знания, он положил в огонь свои ноги, словно палки. Прошел час, огонь все пылал, а на его ногах не сгорело ни одной волосинки. Он воскликнул: «Да, рядом с Ним такому огню не сжечь никакой ноги. Любовь сначала сожгла нашу чувственность, а затем зажгла для нас [свое] лицо. Пробившийся пушок [усов и бороды] и щёки этих красавцев являются для нас зеленой травой и проточной водой. На берегу ручья и на зеленом лугу огню вожделения нечего делать». Шах вновь проникся доверием к шейху, подошел и остановился, прося извинения. Он сказал: «Возблагодарим Бога за то, что мой сын удостоился быть принятым Богом. Если внимание шейха направлено на этого человека, то нам хватит этого взгляда до Судного дня».
Когда влюбленные проявляют чувства любви, они тем самым ведут любовную игру. Они являются целомудренными и свободными от вожделения, сравниваясь по чистоте с ангелами. Люди, постигшие невидимую реальность вещей (ахл-и ма‘на̄), испытывают страсть к райской форме независимо от того, красивая она или безобразная. Влюбленные идут [к Богу] в соответствии с невидимой реальностью вещей (ма‘на̄), а не из-за поклонения форме (внешней красоте. — В. Д.). Влюбленный и ищущий [Бога] не стали для Друга кровеносными сосудами, кровью, плотью и кожей. Форма невидимой реальности, скрытая в их груди, отразилась в их внешней форме. Там, где отсутствовала форма невидимой реальности вещей, любая райская дева казалась им дивом (дӣв). А тот, чье сердце приходит в волнение, влюбляется и в некрасивое лицо: он влюбляется в этого [некрасивого] человека, ибо смысл невидимой реальности заключается в том, что она может и не иметь признаков благородных людей. Человек, приверженный [внешней] форме, вращаясь в нашем мире, влюбился в образ идолов. Если он не обращал внимания на невидимую реальность вещей, то он искал лишь более красивый образ. Вот такой человек, который влюбляется в человека (а не в скрытую реальность вещей и явлений. — В. Д.), является не влюбленным, а вожделеющим[1].
[1]Низ̣̄ам ад-Дӣн Да̄‘ӣ-йи Шӣра̄зӣ. ‘Ишк̣-на̄ме (Книга любви) // Бах̱ш-и аввал- и Куллиййа̄т-и Ша̄х Да̄‘ӣ-йи Шӣра̄зӣ ша̄‘ир ва ‘а̄риф-и на̄мӣ-йи к̣арн-и нухум- и хиджрӣ муштамил бар мас̱навӣха̄-йи шашга̄не машхӯр ба Ситте-йи Да̄‘ӣ (Первый том Полного собрания сочинений Ша̄ха Да̄‘и-йи Шӣра̄зӣ, знаменитого поэта и мистика 9-го века хиджры / XV в. н. э. Включает в себя 6 поэм, известных как «Шестерица Да̄‘ӣ»). Издал Мух̣аммад Дабӣр Сийа̄к̣ӣ. Тегеран, бахман 1339 г. с. х. / январь-февраль 1961 г. С. 269—273 (глава четвертая «Об истинной и земной любви»).
384
Если обратиться к использованию термина шāхид тремя выдающимися персидскими суфийскими поэтами: Сана̄’ӣ-йи Г̣азнавӣ (ум. 535/1140 или 545/1150), Фах̱р ад-Дӣном ‘Ира̄к̣ӣ (610—688/1213—1289) и Х̣а̄физ̣-и Шӣра̄зӣ (726—791/1325—1389), то мы увидим колебание между чисто религиозным значением и представлением о ша̄хиде как о физически красивом юноше, который может пониматься и в смысле истинной и в смысле земной любви. Так, Сана̄’ӣ в касыде «О порицании людей нашего времени» («Дар маз̱аммат-и ахл-и рӯзга̄р») с сарказмом пишет о суфиях:
Суфии следуют своим удовольствиям,
средоточием их желаний (к̣иблеша̄н) являются ша̄хид, свеча
и желудок[1].
Одна из газелей Сана̄’ӣ начинается следующими словами:
О беззаботный друг! Нам требуется вино,
и нужно этой ночью найти ключ от замка̣ нашего страдания:
ведь чаша, музыка и ша̄хид уже когда-то появлялись [здесь].
А эти суфийские плащи с претензиями [на любовь к Богу]
необходимо, собрав вместе, разорвать[2].
В нижеследующей газели Сана̄’ӣ описывает чувства влюбленного мистика, восторгающегося своим возлюбленным, причем упомянут и ша̄хидба̄з — любитель или почитатель шāхида, ибо для возлюбленного — ша̄хида очень важно, чтобы он воспринимался также и в смысле религиозной истинной любви:
О луноликий! В мире [распространился] слух о твоем голосе,
и дела влюбленных не налаживаются из-за [этой] твоей
мелодии.
Где бы ни звучали приятные стихи, там уже и рассказы
о любви к тебе,
где бы ни звучала красивая проза, там уже известно
о твоей нежности.
Сокол твоей любви поймал, как серую куропатку,
всех соколов в свою ловушку.
Тем соколом, который стал добычей твоего сокола,
является высокое стремление (‘а̄лӣ химмат).
[1] Дӣва̄н-и Х̣акӣм Сана̄йӣ-йи Г̣азнавӣ (Дӣва̄н Сана̄’ӣ Г̣азнавӣ). Введение, биография и стиль Сана̄’ӣ написаны Бадӣ‘ аз-Зама̄ном Фурӯза̄нфарром. Издание подготовил Парвӣз Ба̄ба̄йӣ. Тегеран, 1375/1996. С. 76.
[2] Дӣва̄н-и Х̣акӣм Сана̄йӣ… Указ. соч. С. 396.
385
Сотни тысяч сердец пусть будут принесены в жертву
[твоему] сердцу, которое из-за любви
из года в год, денно и нощно полностью отдает себя тому,
кто почитает тебя как ша̄хида (ша̄хидба̄з-и ту).
О красавец! Сердца всех людей пребывают в рабстве
из-за твоего кокетливого взгляда (г̣ундж).
О розоволикий! Жизни всех непорочных зависят от твоей
нежности.
Высокое (тунд) и гордое небо подчинено и покорно тебе,
жестокая (тунд) и своенравная судьба — кормилица твоего
товарища.
Куда бы ни смотрел проницательный глаз — [повсюду] дворец,
наполненный любовью к тебе,
где бы ни оказался человек с хорошим слухом — [повсюду]
он будет влюблен в твой голос[1].
В одной из касыд, посвященных восхвалению шейха суфийского ордена сухравардӣйа Баха̄’ ад-Дӣна Закарӣйа̄’ Мулта̄нӣ (578—666/
1182—1267—68), Фах̱р ад-Дӣн ‘Ира̄к̣ӣ говорит о ша̄хиде, отражающем божественный лик:
Его (Бога. — В. Д.) лик глаз сердца увидел благодаря
лицу ша̄хидов,
Его (Бога. — В. Д.) тайну услышало человеческое ухо
благодаря мелодии низкого (бам) и высокого звука (зӣр)[2].
Персидские поэты-суфии обычно искали своего возлюбленного — ша̄хида также и в питейном доме, и поэтому у ‘Ира̄к̣ӣ тоже присутствуют винные песни (х̱амриййа̄т). Но и в питейном доме, как и повсюду, ему является свет божества:
В красоте щеки красавцев я видел явным лишь Его,
В глазах прекраснолицых с совершенной прелестью я видел лишь Его.
В глазах каждого влюбленного лишь Он был достойным,
Во взглядах Ва̄мик̣а, который любил ‘Аз̱ру[1], я видел
лишь Его.
[1] Дӣва̄н-и Х̣акӣм Сана̄йӣ… Указ. соч. С. 356.
[2]‘Ира̄к̣ӣ, Фах̱р ад-Дӣн Ибра̄хӣм Хамада̄нӣ. Куллиййа̄т (Полное собрание сочинений). 2-е изд. Издал Са‘ӣд Нафӣсӣ. Тегеран, 1336/1957. С. 82.
386
Возлюбленный огорченных, утешитель опечаленных,
Помоги беспомощным! Повсюду я видел лишь Его.
Я нашел в мире желание Его взволнованного сердца,
У меня, опечаленного, была цель — в вещах увидеть лишь Его.
Я все осмотрел: и спереди, и сзади, но никого не увидел,
кроме Друга,
[Это] был Он, лишь Он и больше никого, я видел лишь Его.
Для успокоения огорченного сердца не выбирай никого,
кроме Друга,
Одним словом, смотри лишь на Него, ибо я видел лишь Его.
Я видел цветы садов, поля и степи:
Он был розариями, в полях я видел лишь Его.
Спеши, о сумасшедшее сердце! Шагай к питейному дому!
Ибо в винном кувшине и кружке с вином я видел явным
лишь Его.
В питейном доме и в кустарнике роз потягивай сверкающее
вино,
Вдыхай аромат розы и лилии, ибо в них я видел лишь Его.
В питейном доме стань виночерпием, пей вино и стань
вечно живущим [в Боге],
Отправляйся на поиски ‘Ира̄к̣ӣ, ибо в нем я видел лишь Его[2].
В нижеследующей газели ‘Ира̄к̣ӣ ша̄хид предстает как свидетель божественной красоты и даже как сама Истина:
Где же близкий друг, разделяющий печаль [моей] души?
А где тот Свидетель духа людей и джиннов?
А где же в конце концов та душа мира?
А где тот возлюбленный всего мира?
Полностью смущенные и обезумевшие от любви,
мы остановились.
А где же тот милый и ласковый друг?
Мы были счастливы вместе некоторое время,
А где же та радость и веселье и то время?
О безумно влюбленный, не хвастайся любовью к Нему,
Если ты искренний влюбленный, то где [Его] печать?
Если ты осведомлен о Нем, то какова Его печать?
А если не знаешь, то где стенание души?
Если ты почувствовал аромат любви,
То где кровавые слезы и глаза, их проливающие?
[1] Ва̄мик̣ и ‘Аз̱ра̄ — пара влюбленных, герои эпической поэмы «Ва̄мик̣ ва ‘Аз̱ра̄» персидского поэта газнийского литературного круга Абӯ ал-К̣а̄сима Х̣асана ибн Ах̣мада ‘Унс̣урӣ (ум. 431/1039—1040).
[2]‘Ира̄к̣ӣ, Фах̱р ад-Дӣн... Куллиййа̄т... Указ. соч. С. 229—230.
387
Если ты, так же, как и я, рыдаешь из-за разлуки,
То где раненое сердце и обессиленная душа?
О сердце, не смотри на ‘Ира̄к̣ӣ,
Не изумляйся, подобно слову «где»[1].
В нижеследующей гедонической газели лирический герой встречает ша̄хида в питейном доме:
В обители не помещается гуляка из питейного дома,
виночерпий, дай зороастрийцу осадок от зороастрийского вина.
Дай каландару дорогу на пир пьющих до дна,
покажи игроку путь в игорный дом,
чтобы отказался, как от обета, от каждого кумира,
которому поклонялся,
чтобы с благодарностью поставил на карту жизнь [так же легко],
как [выпивается] глоток вина,
чтобы вышел наружу из дома в поле, подобно [птице] ‘Анк̣а̄[2],
чтобы улетел от себя и оставил гнездо,
чтобы освободился от бытия и поклонения самому себе,
чтобы разрушил в опьянении добро и зло времени.
В уединении как приятно пить вино утром
с милым другом и единственным собеседником,
встречаться лицом к лицу со сладкоустым красавцем (ша̄хид),
[когда] в руке — утреннее вино, а в голове — ночное вино.
Виночерпий каждый миг давал вино из другой чаши,
музыкант каждый миг исполнял песню иначе.
Вино — предание о любимом, все остальное — сказки,
мелодия — крик опьяненных, все остальное — басни.
Предмет созерцания — лицо виночерпия, созерцатель —
‘Ира̄к̣ӣ,
винный погреб — вечная любовь, все остальное — притворство[3].
[1]‘Ира̄к̣ӣ, Фах̱р ад-Дӣн… Указ. соч. С. 260.
[2]‘Анк̣а̄ (араб.) = Сӣмург̣ (перс.) — мифическая птица, обитающая на горе К̣а̄ф. В суфизме ‘Анк̣ā часто символизирует дух святого или самого святого, тогда как гора К̣а̄ф — место божественного присутствия. Эта птица известна по имени, но не имеет тела, и поэтому она также использовалась как метафора для небытия. См.: Pellat Ch. ‘Anḳа̄’ // The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. 1. Leiden; London, 1960. Р. 509.
388
В «Дӣва̄не» Х̣а̄физ̣а в газелях также встречается термин ша̄хид, который, помимо религиозного значения, имеет у поэта и нерелигиозный смысл. Такова газель Х̣а̄физ̣а, в которой он насмехается над мусульманскими и суфийскими святошами и выступает в качестве товарища пьяниц и гуляк, осуждающих лицемерие представителей официального ислама и суфизма:
Суфий, давай вытащим х̱ирк̣у лицемерия
и до конца вымараем эту картину притворства.
Обет, данный обители, и ее милость поместим в вино,
одежду лицемерия омоем вином.
С лица божественной тайны, скрытой за покрывалом
сокровенного,
в опьянении стащим завесу.
Пьяные, прыгаем мы наружу и с пирушки претендующих
[на любовь к Богу]
похищаем вино и вытаскиваем красавца (ша̄хид) за дверь.
Будем наслаждаться жизнью, иначе по нам будут тосковать
в день, когда мы покинем этот мир.
Поскольку он (т. е. ша̄хид, прекрасный возлюбленный),
подобно молодому месяцу, бросает любовный взгляд
из под своих бровей,
мы положим мяч судьбы в загнутый конец его золотой
клюшки[2].
Завтра, если нам не дадут райский сад,
мы вытащим за ворота рая юношей и дев.
Хафиз! Не в наших правилах так хвастаться.
почему мы протягиваем ноги не по размеру своего ковра[3]?[4]
Еще в одной газели Х̣а̄физ̣а не без юмора сообщается о том, как некий суфийский старец — блюститель нравственности мусульман, увидев во сне ша̄хида, вспомнил свою молодость и, забыв о своих религиозных обязанностях, стал безумно влюбленным:
Блюститель [религиозной нравственности], сидящий
в уединении, вчера ночью пошел в питейный дом.
Он отказался от обета [не нарушать религиозный закон]
и пожелал чаши [с вином].
[2] Т. е. покоримся его воле, полностью ему отдадимся.
[3] Т. е. в своих действиях выходим за рамки дозволенного.
[4] Дӣва̄н-и Х̱а̄дже Х̣а̄физ̣-и Шӣра̄зӣ (Дӣва̄н Х̣а̄физа Шӣра̄зского) 2-е изд. / Изд. подгот. Саййид Абу ал-К̣а̄сим Инджавӣ-йи Шӣра̄зӣ. Тегеран, 1346/1967. С. 187—188.
389
Суфий [пришедший с религиозного] собрания, который вчера
разбивал чашу и бокал [с вином],
благодаря одному глотку вина снова стал разумным и мудрым.
Во сне к нему явился ша̄хид [его] юности,
и в своем преклонном возрасте он снова пожелал стать
влюбленным и безумным.
[Мимо] проходил некий зороастрийский мальчик,
похищая веру и сердце,
в результате чего все знакомое повсюду стало незнакомым.
Огонь [его] розовой щеки сжег все зерно соловья
(т. е. влюбленного суфия. — В. Д.),
смеющееся лицо свечи стало несчастьем для мотылька.
[Наши] рыдания, раздававшиеся вечером и ранним утром,
не были напрасными — возблагодарим за это Господа.
Капля нашего дождя (т. е. наших слез. — В. Д.) превратилась
в бесподобную жемчужину (т. е. стала нашей сущностью. —
В. Д.).
Нарцисс (т. е. глаза. — В. Д.) виночерпия призвали чудо
колдовства,
кружок, в котором произносились молитвы, стал собранием,
в котором звучат небылицы.
Ныне положение Х̣а̄физ̣а — это дворец величия,
[его] сердце ушло к тому, кто им владеет (дилда̄р), а душа
отправилась к возлюбленному (джа̄на̄не)[1].
Термин ша̄хид, изначально имевший несколько значений, постепенно оставил за собой лишь два из них: это небесный, истинный ша̄хид, свидетель божественной красоты и божественного величия, и земной, мнимый, ненастоящий, но в то же время необходимый и любимый. Иногда у одного и того же автора, например у Джа̄мӣ и ‘Ира̄к̣ӣ, в одних произведениях или стихотворениях выводится небесный ша̄хид, в других — земной, а ‘Айн ал-К̣уд̣а̄т Хамада̄нӣ практически в одном и том же месте своего произведения («Тамхӣда̄т») заявляет о необходимости каждому влюбленному иметь земного ша̄хида, ибо небесные очень редки, и тут же объясняет важность для совершенного мистика добиваться духовной связи с небесным ша̄хидом. Очень редко ша̄хид выступает в роли самого Господа, создателя мира и людей, как это имеет место у Джа̄мӣ в поэме «Тух̣фат ал-ах̣ра̄р» («Подарок благородных»), написанной под влиянием идей Ибн ‘Арабӣ. В персидской суфийской поэзии с XII—XIII вв. н. э.
[1] Дӣва̄н-и Х̱а̄дже Х̣а̄физ̣-и… Указ. соч. С. 64.
390
физически красивый человек стал появляться как важное звено в религиозной любви, и понятие ша̄хид стало широко использоваться суфийскими поэтами, причем часто уже невозможно было определить, о какой любви — земной или небесной — идет речь в соответствующих стихотворениях. Суфийские авторитеты осторожно относились к учению о ша̄хиде, осознавая, какую опасность оно несет для начинающих суфиев и обычных мусульман. Понятно, что противники суфиев, в частности ханбалитские ученые, резко осуждали приверженцев этой практики, обвиняя их в многобожии, разврате и т. д. Совершенно очевидно, что учение о ша̄хиде в средние века оказывало большое влияние на развитие прежде всего персидской суфийской поэзии и литературы, и даже противники этого учения из числа как суфиев, так и представителей официального ислама при всем желании не могли упразднить это направление религиозной мысли, которое в течение многих веков продолжало волновать сердца как исламских мистиков, так и рядовых мусульман.
 |
10 Об авторах |

|
391
Аль-Джанаби, Матем Мухаммед — доктор философских наук, профессор. Область научных интересов — проблемы истории философии, суфизма, истории религии, философии культуры, философии истории, политики, анализ идеологических течений арабского мира и России. Автор более тысячи публикаций, в том числе трех десятков монографий: «Политическая трагедия революционного утопизма» (Дамаск, 1990); «Аль-Газали: суфийский теолого-философский синтез: В 4 т.» (Бейрут; Дамаск, 1998); «Политический ислам в России» (Эр-Риад, 1999); «Мусульманская цивилизация: дух умеренности и достоверности» (Бейрут; Дамаск, 2006); «Философия будущего: В 3 т.» (Абу-Даби ОАЭ, 2010); «Философия современной мусульманской реформации» (М., 2014) и др.
Дроздов Владимир Альбертович — кандидат филологических наук, доцент кафедры иранской филологии Восточного факультета СПбГУ. Область научных интересов — исламский мистицизм, средневековая персидская литература. Автор многочисленных научных работ о представителях исламского мистицизма (Фахр ад-Дин Ираки, Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди, Сайф ад-Дин Бахарзи, ал-Кушайри и др.) и переводов с арабского и персидского.
Кузнецов Василий Александрович — кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Сфера научных интересов — средневековое арабо-мусульманское историописание, социальные и политические функции исторического знания, история и власть, современные социально-политические процессы в арабском мире. Автор ряда научных работ по классической арабо-мусульманской историографии и политическим процессам в современном Магрибе.
Лукашев Андрей Александрович — кандидат философских наук, научный сотрудник сектора философии исламского мира Института философии РАН. Иранист, исследователь средневековой персидской
392
суфийской поэзии. Специализируется в области перевода и исследования философско-поэтического наследия на персидском языке. Автор более 20 работ по истории исламской мысли, готовит к публикации монографию, посвященную творчеству средневекового персидского поэта Махмуда Шабистари, и перевод его философской поэмы «Цветник тайны».
Микульский Дмитрий Валентинович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН. Специалист по традиционным арабским историческим сочинениям, автор многочисленных научных трудов и переводов с арабского, в т. ч. «Социальное учение исламского возрожденчества» (М., 1990); «Арабский Геродот» (М., 1998; араб. пер. — Дамаск, 2006); «Ал-Мас‘уди. Золотые копи и россыпи самоцветов (История Аббасидской династии: 749—947)» (М., 2002); «Ал-Йа‘куби. Книга стран (Китаб ал-булдан)» (пер. Л. А. Семеновой, отв. ред. Д. В. Микульский. М., 2011, и др.).
Насыров Ильшат Рашитович — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора философии исламского мира Института философии РАН. Исследователь исламского мистицизма, автор ряда монографий, в т. ч. «Основания исламского мистицизма: генезис и эволюция» (М., 2009, 2012), и переводов классических произведений, в т. ч. «Ибн ‘Ата’ Аллаха аль-Искандари» (Книга мудростей) (Уфа, 2001); «ал-Газали. Возрождение наук о вере: В 3 т.» (Махачкала, 2011, в соавт. с А. С. Ацаевым); «Ибн Араби. Избранное. Т. 1» (М., 2013).
Пригарина Наталья Ильинична — доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН. Сфера научных интересов: история литературы, поэтика, стилистика, теоретические проблемы классической и постклассической персидской литературы; суфизм, ирфан, ислам и их отражение в литературе. Автор многочисленных научных работ и переводов, в т. ч. монографий «Поэзия Мухаммада Икбала» (М., 1972), «Мирза Галиб» (М., 1986, пер. на урду: Хайдарабад Декан, 1997 и Карачи, 1998, пер. на англ. OUP Карачи 2000), «Индийский стиль и его место в персидской литературе (вопросы поэтики)» (М., 1999), «Мир поэта — мир поэзии» (М., 2012), «Хафиз: Газели в филологическом переводе» (М., 2012, совм. с Н. Ю. Чалисовой и М. А. Русановым).
393
Псху Рузана Владимировна — кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Автор работ по арабской философской мысли, суфизму, классической индийской философии, в т. ч. монографий «Религиозно-философское учение Ямуначарьи». М., 2013 и «Становление вишишта-адвайта-веданты на материале “Ведартхасамграхи” Рамануджи» М., 2007.
Селезнев Николай Николаевич — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета. Специализируется по истории культуры сиро-арабского христианства и исламо-христианского наследия. Автор монографий, в т. ч. «Pax Christiana et Pax Islamica: Из истории межконфессиональных связей на средневековом Ближнем Востоке» (М., 2014. Сер. Orientalia et Classica), и редактор-составитель сборников: «Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие» (ИВКА РГГУ; Ruhr-Universität Bochum, Seminar für Orientalistik und Islamwissenschaft; совм. с Ю. Н. Аржановым; М., 2014), «Syriaca—Arabica—Iranica» («Символ» № 61; совм. с Н. Л. Мусхелишвили; М., 2012), «Syriaca & Arabica» («Символ» № 58; совм. с Н. Л. Мусхелишвили; М., 2010) и др.
Смирнов Андрей Вадимович — доктор философских наук, член-корреспондент РАН, зав. сектором философии исламского мира Института философии РАН. Сфера научных интересов — арабо-мусульманская философия и культура, логика смысла. Автор серий энциклопедических статей по арабо-мусульманской философии и исламской этике, монографий «Логика смысла» (М., 2001), «Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство» (М., 2005), «О подходе к сравнительному изучению культур» (СПб., 2009) и др., переводов Ибн ‘Арабӣ, Х̣амӣд ад-Дӣна ал-Кирма̄нӣ, Шейха озарения ас-Сухравардӣ и др. Ответственный редактор серии «Философская мысль исламского мира».
Федорова Юлия Евгеньевна — кандидат философских наук, научный сотрудник сектора философии исламского мира Института философии РАН. Ведет научные исследования в области историко-философской иранистики, занимается изучением исламской философской и культурной традиции, осуществляет комментированные переводы
394
с персидского языка средневековых памятников философской суфийской поэзии, готовит монографию, посвященную исследованию философских взглядов Фарид ад-Дина Аттара. Один из соавторов академической коллективной монографии «Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема» (2010).
Чалисова Наталья Юрьевна — кандидат филологических наук, профессор, руководитель Отдела научных исследований Института восточных культур и античности РГГУ, специалист в области истории персидской литературы и классической культуры Ирана. Специалист в области истории персидской литературы и культуры Ирана, автор исследований и переводов классических памятников, в т. ч.: «Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии» (М., 1985); «Шамс-и Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии» (М., 1997); «Низами. Лайли и Маджнун. Введение, перевод с персидского и комментарий» (в соавт. с М. А. Русановым. М., 2008); «Хафиз: Газели в филологическом переводе» (М., 2012, совм. с Н. И. Пригариной и М. А. Русановым).
Хосропанах ‘Абд ал-Хусейн — доктор исламских наук (калам), ректор Иранского института философии, автор монографий «Философия исламской философии», «Религиозный и политический плюрализм».
Шамилли Гюльтекин Байджановна — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора Теории музыки Государственного института искусствознания (Москва). Сфера научных интересов — проблемы музыкального мышления; теория музыкального текста; теория музыки греко-византийского мира и классической арабо-мусульманской культуры (X—XV вв.); текстология и жанровый канон трактатов о музыке на арабском, фарси и тюрки (XI—XIX вв.); традиционная музыка Ближнего и Среднего Востока; классическая музыка Ирана. Автор более 70 научных работ, в т. ч. монографии «Классическая музыка Ирана: правила познания и практики» (М.: Композитор, 2007), коллективной монографии «Очерки истории исламской цивилизации» (М.: РОСПЭН, 2008) и комментированных переводов персидских трактатов о музыке XII—XVII вв.
Ширвани, ‘Али — доктор философских наук, член ученого совета научно-исследовательского института «Хозех и университет», исследователь, специалист и переводчик книг по философии, фикху и усул
395
аль-фикх, автор перевода на фарси и комментария к произведениям Табатабаи «Бидайат ал-хикам» и «Нихайат ал-хикма».
Якубович Михаил Михайлович — кандидат исторических наук, доцент кафедры религиеведения и теологии Национального университета «Острожская академия». Автор полного перевода Корана на украинский язык (Медина, 2013), ряда переводов арабских философских текстов (трудов и фрагментов аль-Фараби, Мискавайха, Ибн Рушда, Ибн Халдуна), опубликовал ряд исследований по постклассической арабской философии на южноукраинских землях.
396
397
Книги, выпущенные в серии
«Философская мысль исламского мира»
Раздел «Переводы»
Том. 1. Ибн Араби. Избранное. Т. 1 / Пер. с араб., ввод. ст. и коммент.
И. Р. Насырова; отв. ред. А. В. Смирнов. М.: Языки славянской куль-
туры: ООО «Садра», 2013. — 216 с. — (Философская мысль исламского мира: Переводы. Т. 1)
ISBN 978-5-9551-0658-8, ISBN 978-5-906016-13-3
В первый том двухтомного собрания избранных трудов Ибн Араби (1165—1240), крупнейшего представителя средневековой арабо-мусульманской мысли, вошли сочинение «Составление окружностей» и фрагменты из его наиболее репрезентативных трудов — «Мекканских откровений» и «Гемм мудрости». Представленные тексты раскрывают основные положения его философского учения, оказавшего глубокое влияние на интеллектуальную мысль эпохи классического ислама. Работа снабжена предметным и именным указателями, списком арабоязычных терминов и понятий.
Том. 2. Ибн Араби. Избранное. Т. 2 / Пер. с араб., ввод. ст. и коммент. А. В. Смирнова. — М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2014. — 400 с. — (Философская мысль исламского мира: Переводы. Т. 2)
ISBN 978-5-9551-0667-0, ISBN 978-5-906016-16-4
Второй том «Избранного» Ибн Араби содержит отрывки из «Мекканских откровений» — самого значительного труда Величайшего шейха. Это «Тезисы», в которых дано авторское изложение учения Ибн Араби; «Вопросы и ответы», где раскрываются центральные положения его учения; «Наставления ищущему Бога», обращенные к ученикам, вставшим на путь суфизма.
В исследовательской части книги дана экспликация процессуальной логики и ее законов, рассмотрено ее соотношение с логикой Аристотеля, предназначенной для работы с субстанциями. В комментарии подробно продемонстрировано значение учета процессуальной логики для понимания смысла текстов Ибн Араби.
398
Том. 3. Сеййид Хусейн Наср. Философы ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби / Пер. с англ., предисл. и коммент. Р. Псху; отв. ред. И. Р. Насыров. — М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2014. — 152 с. — (Философская мысль исламского мира: Переводы. Т. 3)
ISBN 978-5-9551-0673-1, ISBN 978-5-906016-14-0
Книга известного современного мусульманского философа С. Х. Насра посвящена трем крупнейшим фигурам в истории исламской мысли — Ибн Сине (Авиценне), ас-Сухраварди и Ибн Араби. Автор обращается к творчеству этих выдающихся мыслителей, чтобы раскрыть основные положения фальсафы, ишракизма и суфизма — влиятельных направлений арабо-мусульманской философии эпохи классического ислама. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей интеллектуальной мысли исламского мира.
Раздел «Исследования»
Том. 1. Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция) / Отв. ред. А. В. Смирнов. — М.: Языки славянских культур, 2009. — 552 с.
ISBN 9785955103365. Второе издание: 2012 г.
Работа посвящена исследованию онтологических и гносеологических оснований одного из ведущих направлений классической арабо-мусульманской философии — суфизма. В книге исследуются причины возникновения мистического течения в исламе и его превращения в философский суфизм. На основе обширного текстологического материала суфизм рассматривается во всех исторических формах его бытования как единое явление.
В центре внимания автора — экспозиция основных суфийских концепций в свете их становления и развития. Книга снабжена предметным и именным указателями, списком арабоязычных терминов и понятий.
Том. 2. Фролова Е. А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. — М.: Языки славянских культур, 2010. — 464 с. (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 2)
ISBN 978-5-9551-0422-5
Двенадцать веков разделяют зарождение философии в Арабском мире и ее сегодняшнее бытование. Это и время расцвета арабской мудрости, оказавшей влияние на средневековую Европу, это и период ее упадка и застоя, когда на Ближнем и Среднем Востоке владычествовала Оттоманская империя. Это и оживление духовной жизни в Арабском мире, стремление возродить его славу и войти в современность наряду
399
с развитыми странами. Богатая философская мысль прошлого и поиски интеллектуалов XX и XXI веков, их разнообразные попытки ответить на проблемы наших дней — все это отражено в данной книге.
Том. 3. Исламская философия и философское исламоведение: перспективы исследования / Отв. ред. А. В. Смирнов. — М.: Языки славянских культур, 2012. — 128 с. (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 3)
ISBN 978-5-9551-0567-5
Вниманию читателя предлагаются переработанные тексты докладов, сделанных на конференции «Исламская философия и философское исламоведение: перспективы развития». Здесь представлены разные традиции исламоведения. Мы очень рады, что можем познакомить читателя с тем, как воспринимается, оценивается и изучается традиция исламской философии не только в западной и отечественной науке, но и в современном Иране: в составе сборника — статьи, написанные двумя крупнейшими иранскими учеными, специалистами по ас-Сухраварди, и посвященные философии ишракизма.
Том. 4. Е. А.Фролова. Дискурс современной арабской философии. Ч. 1. — М.: Языки славянских культур, 2012. — 72 с. (Философская мысль исламского мира: Исследования. Т. 4)
ISBN 978-5-9551-0579-6
Автор выделяет в современном арабском философском дискурсе основные темы, систематизирует рассуждения арабских философов вокруг центральных концептов. Ряд проблем удивительно созвучен тем, что обсуждаются сегодня в публичном пространстве России. Книга будет интересна как специалистам-исламоведам, так и всем, кто интересуется проблемами модернизации не-западных обществ.
Раздел «Учебники»
История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А. В. Смирнова. — М.: Академический Проект, 2013. — 255 с.
ISBN 978-5-8291-1463-3
Учебник охватывает весь спектр исламской философской мысли, освещая ее развитие с момента зарождения философской рефлексии до настоящего времени. Рассмотрены основные направления и школы классического периода: мутазилизм, фальсафа, философия озарения, философские учения исмаилитов и суфиев. Концепция Ибн Халдуна и философия сефевидской эпохи представляют постклассический этап. Подробно освещены философские поиски арабо-мусульманских мыслителей современности. В учебнике рассмотрены особенности авто
400
ритетных текстов ислама (Корана и сунны), основные черты исламского вероучения, права и этики, имеющие определяющее значение для мировоззрения мусульман. В соответствии со структурой учебника авторами составлена антология арабо-мусульманской философии.
История арабо-мусульманской философии: Антология / Под ред. А. В. Смирнова. — М.: Академический Проект, 2013. — 267 с.
ISBN 978-5-8291-1464-0 оглавление
Книга включает тексты, подобранные и расположенные в соответствии со структурой учебника «История арабо-мусульманской философии». Многие переводы выполнены специально для данного издания или публикуются в новой редакции и с обновленными комментариями. Впервые под одной обложкой собраны произведения, представляющие всю традицию арабо-мусульманской философии от ее зарождения до настоящего времени.
Книги, готовящиеся к печати в серии
«Философская мысль исламского мира»
Раздел «Переводы»
Том. 4. Ибн Халдун. Мукаддима (избранное) / Пер. с араб. и коммент. А. В. Смирнова / Отв. ред. Д. В. Микульский
Том. 5. Шабистари. Цветник тайн / Пер. с перс. и коммент. А. А. Лукашева
Раздел «Исследования»
Том. 5. Шамилли Г. Б. Философия музыки исламского мира: классическая теория (IX—XV вв.) и современная практика / Отв. ред. А. В. Смирнов
Том. 6. Нофал Ф. О. Ибрахим б. Саййар ан-Наззам
Том. 8. Фролова Е. А. Дискурс современной арабской философии (полный текст)