




|
Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл |
| ББК | 87.2 |
| УДК | 1/14 |
| Авторский знак | С 50 |
| Автор | Смирнов Андрей Вадимович |
| Заглавие | Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл |
| Гриф | Институт философии Российской академии наук |
| Рецензирование | доктор филос. наук, проф. Н. В. Мотрошилова доктор филос. наук, проф. М. М. Аль-Джанаби |
| Город | Москва |
| Издательство | Языки славянской культуры |
| Год | 2015 |
| Объем | 712 |
| Серия | Studia philosophica |
| ISBN | 978-5-94457-235-6 |
| Аннотация | Стержневая проблематика книги — субъект-предикатный комплекс, взятый как ядерная форма сознания в его основных аспектах: самосознание, чувственное восприятие, дискурсивное мышление. Обоснована принципиальная возможность осмысления любой субъект-предикатной конструкции в двух логиках — субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной, эксплицирована процессуальная логика смысла. Показана необходимость дополнения традиционных методов анализа до логико-смысловых, позволяющих учесть вариативность логик осмысления. На материале арабского языка и арабо-мусульманской культуры продемонстрирована эффективность анализа смысловых конструкций в процессуально-ориентированной перспективе на основе соответствующей логики. |
1
STUDIA PHILOSOPHICA

2
3
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
А. В. СМИРНОВ
СОЗНАНИЕ
ЛОГИКА
ЯЗЫК
КУЛЬТУРА
СМЫСЛ

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2015
4
|
УДК ББК |
1/14 87.2 C 50 |
16+ |
|
|
|
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ проект № 15-03-16006 |
|
|
|
|
Утверждено к печати решением |
|
|
|
|
Рецензенты: доктор филос. наук, проф. Н. В. Мотрошилова доктор филос. наук, проф. М. М. аль-Джанаби |
|
|
|
С 50 |
Смирнов А. В. Смирнов А. В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл. М.: Языки славянской культуры, 2015. — 712 c. — (Studia philosophica). ISBN 978-5-94457-235-6 Стержневая проблематика книги — субъект-предикатный комплекс, взятый как ядерная форма сознания в его основных аспектах: самосознание, чувственное восприятие, дискурсивное мышление. Обоснована принципиальная возможность осмысления любой субъект-предикатной конструкции в двух логиках — субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной, эксплицирована процессуальная логика смысла. Показана необходимость дополнения традиционных методов анализа до логико-смысловых, позволяющих учесть вариативность логик осмысления. На материале арабского языка и арабо-мусульманской культуры продемонстрирована эффективность анализа смысловых конструкций в процессуально-ориентированной перспективе на основе соответствующей логики. УДК 1/14 |
||
|
Научное издание Андрей Вадимович Смирнов СОЗНАНИЕ. ЛОГИКА. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. СМЫСЛ Корректор Е. Сметанникова. Оригина-макет подготовлен Е. Морозовой Художественное оформление преплета С. Жигалкина Подписан в печать 13.11.2015. Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс. Усл. Печ. л. 57,4. Тираж 700 экз. Заказ № Издтельство «Языки славянской культуры». № госрегистрации 1037739118449 Тел.: + 7(495) 624-95-32. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис» Тел.: +7 (499) 255-77-57. E-mail: gnosis@pochta.ru Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.). Адрес: Москва, Турчанинов пер., д. 4 |
|
|
ISBN 978-5-94457-235-6 |
© Институт философии РАН, 2015 © А. В. Смирнов, 2015 © Языки славянской культуры, 2015 |
 |

|
5
Сознание как смыслополагание. Культура и мышление*13
Смыслополагание и инаковость культур*71
Шкатулка скупца, или почему мы верим в законы логики∗159
О логической интуиции арабо-мусульманской культуры*209
Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных атрибутов*226
Философия перевода и перевод философии*259
Как возможен перевод? Язык, мышление и логика смысла*281
Можно ли строго говорить о непереводимости?*296
Где спотыкается перевод: логико-смысловой излом*308
Логическая неопределенность перевода: грамматика языка и грамматика мысли329
IV. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ347
Существует ли «всемирная философия», или проблема преодоления чуждости чужого*349
Сравнительная философия как философская дисциплина*359
Новый гуманизм как новый универсализм?*369
О методологии изучения незападных культур*378
Общечеловеческое и всечеловеческое, или чему сегодня нас может научить Н. Я. Данилевский*397
6
А. Прикладные логико-смысловые исследования457
Архитектоника мусульманской этики*459
Справедливость (опыт контрастного понимания)*483
Светоносный мир: логико-смысловой анализ оснований философии ас-Сухравардӣ*569
Бог-и-мир и Истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Арабӣ*582
Ибн Х̱алдӯн и его новая наука*602
Б. Работы по арабо-мусульманской философии625
От доктрины к логосу: рождение арабской философской традиции*627
Основные черты философского учения Х̣амӣд ад-Дӣна ал-Кирма̄нӣ*634
В. Из учебника «История арабо-мусульманской философии»647
Эпистема классической арабо-мусульманской культуры*649
Философский суфизм: учение Ибн ‘Арабӣ*666
 |
2 ВВЕДЕНИЕ |

|
7
Говорят, что философские проблемы не могут быть решены, что дело философии — поставить их, показать как проблему. Проблематичность — это мышление, а решенность проблемы — конец мысли. Это верно; проблематичность должна всегда оставаться; но кто сказал, что она должна быть всегда одной и той же? Если бы философия не давала вовсе никаких решений, если бы она всегда начинала все сначала, возвращаясь, как вечный двоечник, каждую осень в один и тот же класс, это было бы в самом деле бесплодным хождением по кругу.
Самая главная проблема философии — смысл; настолько главная, что она до сих пор толком не была поставлена. Хотя бы потому, что смысл всегда отодвигался «на потом» и ни у кого не играл роль начала. Между тем смысл — дело философии, и только философии, потому что смысл и есть начало; наука же никогда не занимается проблемой начала, она может лишь разрабатывать данное ей начало.
Мощь науки — в том, что она в конечном счете доводит свое дело до технологии, с помощью техники превращая мир в «постав», если использовать передачу В. В. Бибихиным мысли М. Хайдеггера. Но проблема начала — не проблема науки; это — проблема философии. Ведь подлинность начала — в его безначальности, в том, что оно ничем не обосновано; но как то, что не имеет начала, получит силу обосновать всё, для чего служит началом? В этой книге сделан шаг к тому, чтобы поставить проблему безначального начала как проблему смысла; проблему различенности, которая не создает различия; проблему, которая названа проблемой то же иначе. Это именно проблема: вопрос о том, как можно ухватить неухватываемое, как можно укротить эту безумную антиномичность.
Оставаясь проблемой, этот вопрос рождает решения; собственно, проблема поставлена не тогда, когда любое решение бесплодно, а тогда, когда любое плодотворное решение разрешает ее лишь отчасти, не до конца. В книге проведено различие между смыслом и осмысленностью, между неухватываемым безначальным началом (тем, что может быть только названо словосочетанием то же иначе) и тем, что схватывается в привычных формах субъект-предикатных конструкций (тем, что взяло свое начало в то же иначе).
Если смысл — подлинное начало, то нам стоит отбросить вековую привычку ставить «смысл» на последнее место в ряду понятий, начинающихся «внешним миром», который дан нам как условие и в отношении к которому мы располагаем себя. Нет никакого сомнения в том, что любой человек, в том числе и автор этих строк, строит свое поведение, исходя именно из этого убеждения: мир дан как условие, иначе говоря, он задан нам, и наша задача — постичь его, чтобы приспособиться к нему и выстроить свое поведение максимально эффективно. Это очевидно.
8
Однако совсем не очевидно, что так оно и есть на самом деле и что стихийное убеждение любого человека, не отличающееся в этом отношении от «убеждения» любого живого существа (каждое из них приспосабливается к заданности мира), да и неживой материи также (у нее совсем нет никакого «убеждения», но она точно так же реагирует на внешний, заданный для нее мир: камень катится по склону, сталь плавится в печи, т. д.), — что это стихийное убеждение уже и воплощает истину устройства этого самого «мира». Ведь не менее очевидно, что мы не обладаем ничем, кроме своего сознания, что любая убежденность в заданности внешнего мира, как и сам заданный для нас мир, — не более чем содержание нашего сознания. Вопрос о смысле и осмысленности есть вопрос о том, как это содержание возникает, т. е. каковы его условия и по каким законам оно выстраивается. Это вопрос о том, каково движение от смысла — к осмысленности, от начала — к тому, что этим началом задано.
Вопрос о смысле и осмысленности — это вопрос о том, что мы можем знать о своем сознании, а значит, и знать о мире. Наше знание о мире всегда опосредовано, и чтобы мы могли найти что-то в мире, это «что-то» должно быть прежде того полагаемо нашим сознанием. Мир никогда не навязывает себя, он послушно укладывается в те возможности, которые приготовляет для него наше сознание. Но вот какое дело: эти возможности задаются нашим сознанием, но не нами. Наше сознание не равно нашей субъектности, пусть субъектность и неотъемлема от сознания. Сознание, т. е. способность полагать осмысленность, имеет собственные законы, и эти законы могут быть открыты, когда мы исследуем результаты деятельности сознания. Вопрос о смысле и осмысленности — это вопрос о том, каковы законы, управляющие деятельностью сознания.
На пути от смысла к осмысленности, от безначального начала к тому, что этим началом задано, и совершается эта бесподобная метаморфоза: неухватываемое начало обретает плоть, смысл предстает как осмысленность. Как именно это происходит — об этом и пойдет речь в книге. Но главное заключается в том, что мы способны понять, как наше сознание проходит свой путь от условий (смысла) к содержанию (осмысленности). Безусловно, данный «путь» — реконструкция, и ничем другим он не может быть; и все же эта реконструкция отвечает на вопрос о том, как возможно содержание нашего сознания и почему оно выстроено именно так, как мы это неизменно обнаруживаем.
И еще одно. Если путь от смысла к осмысленности, от условий сознания к его содержанию закономерен, то он поддается упорядоченному исчислению. Это не расколдовывает волшебство смысла, но дает возможность работать с осмысленностью как с содержательностью, понимая закономерности ее выстраивания. Работа с текстом, работа с понятием, работа с проблемой, работа с миром (филология, философия и наука) может быть технологичной, если она опирается на знание законов выстраивания осмысленности.
Путь от смысла к осмысленности типологически не однороден. Иначе говоря, есть как минимум две взаимно-инаковые возможности пройти его. Это заставляет
9
говорить о двух разных логиках выстраивания осмысленности; о разных логиках работы сознания. О том, как именно и почему такой разговор возможен и, более того, необходим, и пойдет речь в книге.
Мы можем пройти путь от смысла к осмысленности по любой из этих альтернативных дорог, но не по обеим сразу. Где исток и этой альтернативности, и неизбежности выбора? И каковы следствия того и другого, т.е. самого факта альтернативной возможности понимания и осмысления, во-первых, и неизбежного выбора в условиях этой альтернативности, во-вторых, для нашего опыта — для тех констелляций значений, из которых соткан мир вокруг нас? Эти два вопроса определяют два разнонаправленных вектора рассуждения в этой книге.
Первый ведет в область исследования условий сознания. Второй — в область опыта. Эти два разнонаправленных вектора разворачивают в линию проблематику книги, чем оправдывается ее структура. Вместе с тем такое разворачивание никогда не удается до конца: «сжатость» проблематики, где одно неизбежно увязано и переплетено с другим, не позволяет окончательно расчленить рассуждение и разнести его по отдельным главам и параграфам. Структура книги в какой-то степени условна, поскольку вопрос о смыслополагании — это единый вопрос, и различные его аспекты могут быть выделены лишь относительно.
Первой «остановкой» на нашем пути от смысла к осмысленности, от условий сознания к его содержанию станет экспликация двух логик задания осмысленности. Хотя сами логики априорны, они всегда погружены в материал, языковой и текстовой. Поэтому следующим шагом будет исследование вопросов, связанных с языком и языковыми формами смыслофиксации. Альтернативность логик не может не просвечивать и сквозь языковую «материю», коль скоро мы ведем речь о языках, хорошо приспособленных для выражения альтернативных стратегий смыслополагания, а проблема перевода, взятая как таковая, не может не отсылать к самому началу — к смыслу как к той «территории», которая единственно может служить межъязыковым посредником. Что касается культуры, то арабистические исследования всегда были для меня, помимо и даже прежде всего прочего, притягательными потому, что давали волшебную возможность прикоснуться к другой, незнакомой организации мышления, к иной логике культуры — столь же мощной и столь же фундаментальной, как и привычная по собственному опыту, но демонстрирующей иные силовые линии выстраивания осмысленности. Поэтому культура и методология ее изучения — еще один узловой пункт рассуждения о смысле и смыслополагании.
Таков путь разворачивания рассуждения в этой книге, от сознания к логике, языку и культуре. Этим завершается теоретическая часть книги; ее итоги суммированы в Заключении.
Все, что сказано в теоретической части книги о возможности просчитать содержательность, сказано всерьез. Приложение показывает, как именно это может быть сделано на конкретном материале при сегодняшнем уровне развития технологии логико-смысловой работы. Шаг за шагом, применяя теоретические положения,
10
развитые и обоснованные в первой части книги, мы будем в Приложении выстраивать содержательность и анализировать ее. Так еще никогда не делали; я могу с полным на то правом утверждать, что стал первым, кто прошел по этому пути.
За вычетом нескольких, работы, составившие эту книгу, были опубликованы в свое время в разных сборниках и журналах; в начале каждой даны соответствующие отсылки. Все они были пересмотрены и отредактированы, а некоторые существенно переработаны, не говоря уже о правке, носившей формальный характер.
Я рад, что имею возможность высказать свою благодарность всем моим учителям, друзьям и коллегам-арабистам, с которыми я обсуждал идеи этой книги и которые отнеслись к ним с пониманием или с критикой. Моя признательность — всем моим коллегам в Институте философии РАН, где мне посчастливилось работать более четверти века и где была создана удивительная, самая благоприятная творческая атмосфера взаимного уважения и взаимной требовательности. Особая благодарность — всем, кто работает со мной в секторе философии исламского мира нашего Института: обсуждения и споры у нас всегда носили неформальный характер и помогли мне многое понять и улучшить. И вряд ли я когда-нибудь сумею выразить словами все, чем обязан моей жене Саше, которая стойко переносила все эти годы мою захваченность арабистикой и философией: без ее любви, терпения и заботы эта книга не могла бы состояться.
июнь 2015
 |

|
 |

|
13
Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный.
Ф. М. Достоевский. Скверный анекдот
Этот текст, как увидит читатель, развивается не линейно; мы будем возвращаться в вопросам, уже поднятым, чтобы взглянуть на них с новой или слегка измененной точки зрения, или же просто чтобы углубить их понимание. Какие-то понятия рассмотрены более подробно, какие-то только намечены, но не разработаны, и это не случайно: здесь — лишь набросок, задача которого — дать целостное видение и целостное понимание, оставляя подробную разработку для другого места или опираясь на то, что уже было сделано, и не повторяя этого здесь.
Целостное видение и целостное понимание — чего? Я бы ответил так: это вопрос о том, как возможно сознание. Сознание не может быть понято пред-посылочно; я хочу сказать, что его пониманию не может быть предпослано нечто уже сформулированное: тогда оказалось бы, что сознание предшествует самому себе, потому что любая формулировка предполагает осознанность и осмысленность. Понимание сознания должно вырастать как будто из ничего — но при этом быть всем, потому что наше сознание — это то самое Всё, чем мы владеем и что нам дано. Старая проблема совпадения крайних противоположностей, послание великого Кузанца; самое интересное из всего, с чем можно иметь дело, и совсем не чуждое философскому предприятию, а скорее даже составляющее его дух и сердцевину: попытка дойти до предельных оснований, парадоксальная в самой своей сути, — ведь основание, схваченное мыслью, тем самым уже, кажется, перестает быть предельным.
Но решение есть, более того, оно лежит почти на поверхности; во всяком случае, сказанного в истории мысли достаточно, чтобы его найти. Попробуем сделать это.
14
Культура
О культуре нередко говорят как о способе осмысления мира. Это очень близко к тому, как термин «культура» будет пониматься здесь. Скажем в первом приближении так: культура — это способность разворачивать смыслы.
Термин «смысл» будем трактовать просто и незамысловато: это не нечто трансцендентное, не что-то открываемое за чем-то, как когда говорят: «В чем смысл этого?». Смысл — это то, что делает возможным наше сознание: осмысленность — среда сознания, и о сознании можно говорить как о работе с осмысленностью. «Смысл» и «осмысленность» — не одно и то же, но об их различии мы поговорим позже1. Сейчас же главное заключается в том, что культура и сознание, как они понимаются здесь, не просто близки, а внутренне связаны, переплетены порой до неразличимости. Ведь культуру мы будем понимать как способ смыслополагания, а значит — как проявление работы сознания, как некую, если угодно, его функцию. «Смыслополагание» — категория, которая будет предложена как фундаментальная, как такая, к которой сводятся или через которую объясняются многие категории и понятия, традиционно используемые для описания сознания и мышления. Что такое смыслополагание и насколько успешным может быть предложенное предприятие: понять сознание как смыслополагание и объяснить мышление как осуществление законов смыслополагания (а суть дела в том, что смыслополагание — деятельность, опирающаяся на строгие законы, некоторые из которых нам предстоит открыть), — именно это нам и предстоит выяснить в данной работе.
Однако культура — не просто способность разворачивать смыслы, а значит, не просто проявление способности смыслополагания. Культура — попытка последовательного, в идеале «бесшовного», осмысления мира. Конечно, этот идеал никогда не достигается, но от этого он не перестает быть идеалом. Он не теряет своей власти, поскольку его власть укоренена в нашей внутренней убежденности в единстве и устойчивости мира, в его законосообразности. Будь иначе, мы просто не смогли бы прожить и дня: мы можем сомневаться в чем угодно, но только не в том, что наше Я сегодня — то же самое, что было вчера и будет завтра. Речь, конечно, о психологической, глубинной, чаще всего не осознаваемой убежденности, определяющей наше поведение, а не о религиозных или философских учениях. Устойчивость и неизменность Я коррелирует с нашей убежденностью в устойчивости и глубинной (конечно же, не поверхностной) неизменности мира: будь иначе, никто не стал бы строить планы на будущее и не мог бы ощущать ответственности за прошлое. Вся пестрота и мозаичность мира, который мы видим вокруг, вся карнавальность и диалогичность культуры возможны только и именно потому, что
15
предполагают некий общий стержень, некую устойчивость, некое пространство, в котором они могут располагаться и заявлять о себе. Это пространство культуры поддерживает диалог и удерживает его от рассыпания на серию монологов. Схожим образом наше сознание не дает мозаике мира распасться, образовав хаотичную груду цветных обломков. Пространство культуры задано ее глубинной логикой; точно так же мы видим мир единым, придавая ему фундаментальную логику. И то и другое, конечно, не формальная логика в ее современном понимании; речь о логике мышления, а значит, о смысловой логике, о логике смысла.
Связность мира и связность речи
Бесшовное, плавное осмысление мира никогда не удается нам; попытка представить мир как единый сразу же сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Первое из них мы встречаем в языке. Слова, которыми мы пользуемся, разнесены по категориям. Категории — как будто ящички, в которые ссыпаны разные ярлычки; эти ярлычки мы наклеиваем на ту текучесть многообразия, которая предстает для нашего сознания. Мы знаем по опыту своего языка, что бывают имена существительные и имена прилагательные, что бывают глаголы и наречия, числительные и местоимения. Границы между ними как таковыми непреодолимы: существительное, например, не может стать прилагательным, не перестав быть собой, а числительное никак не превратится в местоимение.
Это с одной стороны. А с другой, мы не менее точно знаем, что слова можно связывать, получая предложения. С этим удивительным свойством связности мы встречаемся ежедневно по многу раз, совершенно не обращая на него внимания, как будто связность естественна и неизбежна. Между тем это совсем не так, и из того, что существует слово, никак не вытекает, что должно существовать и связное предложение. Верно, что слова также являют нам связность, иначе невозможны были бы ни словоизменение, ни словообразование. И все же связность предложения — это нечто совсем иное, нежели связность слова.
В чем разница? Разница в том, что слова еще не погружены в связность мира. Мир, предстающий нашему сознанию как сырой материал, текуч; не случайно говорят о потоке сознания как о неконтролируемом и необработанном. Слова выхватывают отдельные моменты этой текучести, фиксируя их: капельки потока застывают, как смола, своей прозрачностью намекая на континуальность породившего их потока, а отвердевшей поверхностью — на собственную ограниченность. Так текучесть схватывается как ограниченность отдельного; так отдельное выхватывается из континуального потока. Это отдельное — именно отдельно, то есть отделено: неназванная текучесть прерывается как названность несвязного; только так и возможно слово.
Несвязность, таким образом — отрицание текучести; наш первый шаг на пути фиксации осмысленности. Этот шаг необходим, как любой первый шаг. Но чтобы стать первым, он должен повлечь за собой следующие.
16
Предложение погружает ярлыки слов в расплавленную магму времени, возвращая застывшие капельки в породивший их поток. Но они теперь не растворяются в нем, не возвращаются в текучесть. Предложение — это то, благодаря чему возможна связность. Связность — попытка возродить континуальность, перелив смысла, — но уже для того, что названо; для того, что схвачено словом.
Глагольная фраза, которая возможна в русском, английском, французском, арабском (и многих других) языках, делает это удивительным образом. Она идеально соответствует той естественной связности, которую мы замечаем в нашем спонтанном восприятии мира, как он представлен в нашем сознании и в естественном речевом потоке. Здесь одно перетекает в другое: здесь одно не совпадает с другим, не растворяется в другом, но и не отделено от него. «Одно» и «другое» связаны: например, дерево растет в земле, а его ветви колышет ветер, на них садятся птицы и клюют ягоды, а затем вспархивают и улетают. И так далее.
Когда я любуюсь такой картиной или наблюдаю великолепный закат солнца, медленно садящегося за лес и окрашивающего бегущие по небу облака в целый сонм перетекающих один в другой цветов от ярко красного до темно-фиолетового, мне нет никакого дела до того, что глагол (например, «летать», «закатываться» или «сидеть») относится к другой категории, нежели имя существительное («солнце» и «птица») и что они — по идее формальной логики (этой апостериорной, отрефлектированной попытки найти единство) — должны были бы быть связаны связкой «есть»: «птица есть садящаяся на ветку» или «солнце есть закатывающееся за лес» с субстанциализацией картины мира; в естественной речи я прекрасно обхожусь без связки и говорю «птица садится на ветку» или «солнце заходит», окунаясь в связность, для которой нет никаких категориальных границ. Такое использование глаголов исключает связку1: ее тут некуда вставить, потому что в такой естественной речи мы имеем дело с естественной, стихийной связностью, а не с теоретически конструируемым единством, восстанавливающим связность после осознания ее невозможности. Естественная речь, как будто не замечающая категориальных границ, не обязана и преодолевать их с помощью искусственных приемов (в приведенном примере — приемов субстанциализации; такими же могут быть и приемы процессуализации2).
17
Под естественной связностью я понимаю текучесть названного: того, что названо словом, а значит, как-то зафиксировано для нашего сознания, но вместе с тем не потеряло изначальной смысловой континуальности. Это потом слова будут собраны в словари, для каждого указано какое-то «значение»; они будут разделены грамматиками по категориям, и для каждого определены правила синтаксиса. Но это все потом, когда наука начнет вырабатывать понятие языка как системы формальных средств. Пока же, в своей речи, для которой нет никаких формальных средств, а значит, нет и языка в этом значении термина, я не обязан задумываться обо всем этом: об определенных значениях каждого слова, о его категориальной принадлежности и синтаксических обязательствах. Для меня все это неважно, коль скоро моя речь — естественна и следует текучести естественного восприятия мира, отражая ее как естественную связность. Ее удивительное свойство — сохранять континуальность, стирать границы наряду с называнием, а значит, и с приданием какой-то смысловой определенности, гнездящейся в слове.
Можем ли мы мыслить естественную связность, а не только выражать ее в повседневной речи? Поднимается ли наша мысль до уровня нашей речи?
Как отвечать на этот вопрос и имеет ли он право на то, чтобы быть заданным? Ведь читатель наверняка привык к тому, что мысль ставят выше языка, считая последний простым средством, орудием ее выражения; любые игры с языком ведутся лишь для того, чтобы, вынырнув из языковой стихии, подчинить ее формально-отточенной мысли философа. — Но все дело в том, что это рассуждение — не о соотношении мысли и языка, а о соотношении мысли и речи. Это — совсем другая постановка вопроса, что ясно хотя бы из следующего.
Если мы говорим о мысли и языке, нам нетрудно поставить мысль на первое место, истолковав язык как ее средство, тем более если он понимается как система формальных средств. Тогда мысль мыслится как нечто изначально невысказанное — и лишь затем обретающее некую форму в высказывании. Тогда можно искать форму, наиболее адекватную мысли, оттачивать язык с тем, чтобы он эффективно играл свою роль удобного средства выражения мысли.
Однако делать это можно лишь потому, что мысль каким-то образом дана нам до того, как она обрела свою языковую форму, причем дана настолько настоятельно,
18
что мы можем сверять с ней, с этой еще-не-оформленной мыслью, формальное языковое выражение. Будь иначе, мы были бы абсолютными пленниками языка, связанными по рукам и ногам путами сепир-уорфовской гипотезы и способными мыслить лишь в формах языка1. Поскольку это не так, мы должны спросить себя: как же дана нам мысль до того, как она обрела языковую форму?
Связность мысли
Мысль дана нам как связность. Эта связность мысли, которая уже — мысль, но еще не влита в языковую форму, и составляет собственно мысль. Мы не случайно говорим «связная мысль» и «связная речь», но никак не «связный язык»: связность мысли разворачивается в речи, и речь превышает язык ровно на связность. Можно сказать и так: в речи нет ничего, чего не было бы в языке, кроме связности. Это примерно то же, что сказать: в физическом теле человека можно обнаружить все, что будет найдено в живом человеке, кроме жизни. Язык имеет средства выражения связности, но это не то же самое, что сама связность; точно так же тело человека оснащено всеми органами для поддержания жизни, но эти органы — отнюдь не то же самое, что жизнь.
Мы ощущаем мысль еще до того, как она высказана: мы ощущаем ее как связность, как то, что имеет внутреннюю логику и что способно раскрыться, развернуться в предложение или последовательность предложений. Высказанную мысль мы сверяем с этим изначальным ощущением связности, как будто задавая себе вопрос: в самом ли деле высказано все то, что предугадано в мысли как связность? Отвечая на него, мы чувствуем власть чего-то, что подсказывает нам, как можно строить мысль, а как нельзя: мы ощущаем власть законов мысли, или законов смыслополагания, которые незримо управляют разворачиванием мысли в речь (но исчезают в языке2).
Дело вот в чем: речь становится осмысленной, только если «сработали» законы смыслополагания, — иначе осмысленности нет. Эти законы объективны, а не субъективны; они, иначе говоря, работают в любом случае, неважно, знаем мы о них или нет. Можно говорить об осмысленном и бессмысленном: в первом случае эти законы выполнены, во втором нет. Уже на поле осмысленного задаются истина и ложь, противоречие и т. д. — также в соответствии с логико-смысловыми законами, так что формальная логика оказывается усеченным случаем логики смысла.
Вернемся к нашему вопросу о мысли и речи как глагольном предложении. Мы можем теперь сформулировать его точнее. В глагольном предложении есть
19
и названность, и текучесть: определенность, порождаемая названностью (использованием слова), не становится здесь ограниченностью. Формальным показателем этого служит тот факт, что связку «есть» в глагольной фразе просто некуда вставить: в ней нет зазора, нет щели между словами, которые плавно и без видимых усилий перетекают друг в друга. Такое состояние назовем континуальностью: здесь смысловое богатство играет всеми своими красками, здесь любая фраза как будто содержит в себе любую другую, предполагая — в конечном счете — и ее как момент своего разворачивания. В глагольной фразе, иначе говоря, связность дана нам непосредственно — почти столь же непосредственно, как в еще-не-высказанной мысли, в мысли, представляющей собой чистую связность. Вопрос, следовательно, в том, можем ли мы не только предчувствовать эту чистую связность в нашей невысказанной мысли, не только окунаться в нее в глагольной речи, — но и работать с ней формально, т. е. мыслить ее как уже-высказанную? Можем ли мы, иными словами, работать с ней теоретически, т. е. не только иметь ее как предчувствие, но и мыслить ее как развернутость? Можем ли мы выстроить развернутую, отрефлектированную мысль, которая являла бы континуальность смысла так же, как ее являет глагольная фраза, соединяя названность с перетеканием через категориальные границы?
Отвечая на этот вопрос, мы увидим, что существуют законы, заставляющие нас мыслить так, а не иначе, выстраивая осмысленность по определенной логике. Эта логика — не формальная; формальная логика возможна как освобождение от власти содержательности (хотя такое освобождение никогда не может быть полным), а у нас речь идет о тех законах, которые вытекают из строения осмысленности. Это, таким образом, логика смысла, и мы будем говорить о логико-смысловых законах.
Изменение
Называние, осуществляемое благодаря слову, достигает удивительного результата: оно приостанавливает текучесть. Но не любое слово имеется здесь в виду: речь о назывании именем. Адам в присутствии Бога называет все вещи по их именам; а в коранической версии этой ветхозаветной истории Бог передает первочеловеку совершенное знание, уча его именам. Почему именно именам? А не местоимениям или глаголам? Почему не частицам или союзам? И как Адам обходился с таким странным средством выражения своего всеведения, не зная, как сочетать и соединять эти имена, как связывать их в речь; не зная законов связности? Ему как будто достаточно было только имен вещей, чтобы иметь полное знание; как если бы он был чистой воды платоником, обретшим благодаря именам абсолютное знание чистых идей, которые и в самом деле постигаются именем. А «имя Бога», ставшее для еврейских и исламских мистиков не просто обозначением абсолютного знания, но и самим таким знанием, тем более притягательным, чем менее оно достижимо? Наука стремится найти термины, точно схватывающие предмет ее исследования: это, конечно же, имена. Философия строит категориальный каркас своего здания, раскрывая смысл имен, а не чего-нибудь
20
иного. Имя обладает неизбывной притягательностью для всех, кто хочет обрести высказанное, раскрытое знание; только вот наша речь не удовлетворяется именем, и если и позволяет высказываться назывными предложениями — такими, которые лишь называют, то есть именуют, свой предмет, — то в качестве какой-то уступки, расценивая подобные предложения как всего лишь усеченную форму полного, «настоящего» предложения, подлинность и настоящесть которого заключены в связности, как раз именем и обрываемой.
Почему же именно имя? Только потому, что имя изымает названное из потока времени. Только оно способно и назвать, и отвлечь от временных перемен: остальные слова либо не называют (как частицы, союзы и т. п.), либо погружают во время, а не отвлекают от него (как глаголы). Притягательность имени для мысли заключается в этой его двойной функции, точнее даже, двуединой: назвать-и-изъять из времени.
Для еще-свернутой мысли естественной и спонтанно-избираемой формой выражения в речи служит глагольная фраза: «чашка кофе стоит на столе», «компьютер работает», «слова складываются в предложения», «по улице идут люди». Предметы вокруг нас действуют: они погружены в поток времени, в глагольной фразе они уже названы, но еще не изъяты из своей изначальной стихии — из текучести смыслового потока, в котором границы если и намечены называющими словами, то еще не затвердели, не прервали связности целой фразы, встав выше ее и диктуя ей свою волю.
Но границы должны затвердеть, чтобы мысль развернулась, перестала быть спонтанной и осмыслила саму себя — свое содержание. Почему? Потому что мы не умеем мыслить текучесть; мы не можем мыслить даже естественную (в речи — глагольную) связность; мы можем мыслить только изменение.
Текучесть смыслового потока, как он дан нам в спонтанном восприятии, не имеет отношения к нашему волевому усилию, к проявлению нашей воли. «Объективный мир», как он дан нам в нашем восприятии, потому и «объективен», что никак не зависит от нас: он дан нам помимо нашего желания. Точно так же и мысль, спонтанно рождающаяся у нас, мысль как чистая связность, рождается как будто сама собой: мы не контролируем непосредственно ее рождение. Но вот возможность мыслить (или, если угодно, с-мыслить: рождать смысл), то есть способность нашего волевого разворачивания смысла (а не спонтанности его предощущения как свернутости и не спонтанного его разворачивания в глагольной фразе), — эта способность, безусловно, имеет отношение к нашей воле, к нашему сознательному усилию. Мы как будто вмешиваемся во временной поток спонтанной текучести, останавливая его, как будто выхватывая из него то, что нам заблагорассудится, чтобы затем это выхваченное заставить затвердеть и стать вещью, представленной на наше рассмотрение.
Такое выхватывание, такое останавливание временного потока — акт мысли; но он невозможен без акта называния. Только названное, причем названное именно именем, может быть остановлено и взято в рассмотрение. Мысль и речь идут тут рука об руку, одно помогает другому и невозможно без него.
21
Чем же отличается изменение от текучести? Чем, таким образом, мысль как подчиненное нашему волевому усилию разворачивание смысла отличается от естественной континуальности смыслового потока, как он дан нам в нашем спонтанном (не потревоженном) сознании или спонтанной глагольной речи?
Только одним: изменение имеет дело с одной и той же вещью, тогда как текучесть еще не фиксирует вещь. В текучести, пожалуй, можно говорить об одном и другом, но там нельзя говорить об одной вещи и другой вещи. Понятие «вещь» — это то, что схватывает устойчивость наряду с текучестью, что выхвачено из потока текучести, — но тем не менее сохранило память об этом потоке. Вещь, доведенная до абсолютности, превращенная в идею, совершенно исключающая какую-либо текучесть, — это то, в чем задан предел для всякой нашей мысли, способной мыслить фиксированность только наряду с текучестью; но не одно или другое по отдельности.
Это подводит нас к крайне важному наблюдению. Мы не можем мыслить то, в чем нет фиксированности, схваченности; но точно так же мы не можем мыслить то, в чем нет текучести. Это не значит, что абсолютно текучее или абсолютно неизменное не могут быть нам даны. Вовсе нет. Мы можем, возвращаясь к нашему опыту открытости сознания, как будто вернуть это ощущение чистой текучести, удерживая его как память. Мы можем представить себе чистую идею. Но чтобы начать мыслить, мы должны прервать текучесть чистого, континуального потока сознания, выхватив из него неизменность при помощи имени; мы должны заставить чистую идею двигаться, теряя свою фиксированность и растворяясь в текучести. Мысль оказывается между абсолютной неназванностью и спонтанностью, с одной стороны, и абсолютной фиксированностью именем — с другой.
Почему изменение — предмет мысли; почему она вынуждена располагать себя между совершенной текучестью и совершенной фиксированностью?
«Полотно импрессиониста»
Текучесть дана нам. Она дана как абсолютный фон. Абсолютный фон, взятый как совершенная редукция того полотна осмысленности, которое разворачивает для нас наше сознание.
Текучесть — сырой материал. Мы можем представить себе, что это такое, если сознательным усилием отвлечемся ото всех форм, что привыкли воспринимать как сами собой разумеющиеся; отвлечемся ото всего, к чему мы привыкли привязывать великолепное многообразие цветов, вкусов, запахов, звуков, которое окружает нас. Это все равно что приблизиться вплотную к картине, написанной в манере некоторых импрессионистов: что мы увидим, кроме многообразия, пестрого полотна бессмысленных красок? Но отойдем чуть назад, отодвинемся на нужное расстояние — и все встанет на свои места: как по волшебству возникнут предметы, как будто ниоткуда; картина обретет смысл. Каждый знает, что в темноте еда и питье никак не могут найти свой вкус; они меняют или даже теряют его, иногда полностью: терпкость вина или сладкая горечь шоколада обессмысливаются без восприятия
22
предмета. Как трудно в такой ситуации осмыслить свои ощущения, имеющиеся как чистый фон; как трудно из них сделать что-то осмысленное! Этот сырой материал ощущений, видимо, не производится нашим сознанием; но этот сырой фон — вовсе не мир; чтобы превратиться в окружающий мир, он должен быть подвергнут работе нашего сознания. Должно произойти то, что испытывали все мы, когда, разглядывая хаотичное нагромождение пятен и линий в лесу или в углу захламленной комнаты, никак не могли понять, что перед нами — и вдруг все вставало на свои места; вдруг мы понимали, что это. Сырой материал ощущений, бессмысленный сам по себе, обретал смысл; он становился чем-то.
Попробуем разобраться, как это происходит; что именно совершает наше сознание, когда добивается того же, чего добиваемся мы, отступая на пару шагов от картины импрессиониста.
Предметы — то, к чему привязано текучее многообразие красок, — не даны нам изначально, помимо деятельности нашего сознания. Напротив, есть все основания полагать, что упорядочение этого многообразия — функция нашего сознания, что возникновение связной картины мира — результат его работы. И о «мире», и о «картине мира» часто говорят так, как будто они даны нам, а не произведены нами. Но это, конечно, не так; сохранить веру в данность мира — веру, вполне возможную еще сотню лет назад, — сегодня вряд ли удастся. То, что мы называем «миром», сделано нашим сознанием; вопрос в том, как именно.
Назовем для краткости чистую текучесть красок (т. е. цветов, запахов, черт, ощущений и т. п.), данную до и вне всякого волевого усилия нашего сознания и составляющую его вечный фон, «полотно импрессиониста». Полотно импрессиониста составляет чистую данность сознания, т. е. такую данность, которая не может быть устранена или сведена к чему-то другому. Я не способен придумать ни одного нового цвета, запаха или вкуса: все это будет лишь перегруппировкой красок, которые я найду на этом полотне. И, напротив, никаким волевым усилием, никакой активностью сознания невозможно устранить ни одну из красок полотна импрессиониста: я не могу сделать эту палитру беднее, как бы ни старался. (Точно так же невозможно перестать понимать речь на языке, который нам известен; дальше мы увидим, какой смысл имеет эта параллель.)
Чистое Я
Однако чистая данность сознания не ограничивается полотном импрессиониста. Мое сознание невозможно без данности совсем другого рода — данности Я. Как и полотно импрессиониста, Я дано мне до и вне какой-либо активности моего сознания; оно — такое же непременное условие моего сознания. Замечательный мысленный эксперимент Ибн Сӣны установил это со всей определенностью. Смысл его состоит в том, что Авиценна предлагает читателю последовательно отказаться ото всех источников знания, которые признает традиционная философия. Одно за другим мы выводим за скобки всю нашу память (представь себе, говорит
23
Ибн Сӣна̄, что ты только что сотворен), внешний мир (ты распростерт в «чистом воздухе», добавляет Авиценна, что для него, не признававшего вслед за Аристотелем пустоту, равнозначно «чистому ничто») и собственное тело (одни части твоего тела не касаются других, завершает он).
Когда мы не воспринимаем ничего телесного, даже собственное тело, а значит, не можем отвлечь от этого никаких форм, и когда мы лишены памяти как хранилища форм, которые могли бы быть получены ранее, — что остается? Если что-то останется после такой кардинальной редукции, это «что-то» никак не будет зависеть, во-первых, ни от каких традиционно признаваемых источников познания и, во-вторых, от мира, включающего наше собственное тело. Такой остаток — Я; не помня и не воспринимая ничего, говорит Ибн Сӣна̄, ты непременно воспринимаешь собственное Я.
Суть этого мысленного эксперимента в том, чтобы выяснить, (1) зависит ли восприятие Я от восприятия чего-либо другого и (2) познается ли Я так же, теми же путями (органами и силами познания), как и все прочее. На оба вопроса Ибн Сӣна̄ дает отрицательный ответ. Наше Я, сообщает нам его мысленный эксперимент, дано совершенно независимо ни от чего другого; и наше Я дано нам иначе, нежели дан весь телесный мир, составленный из материи и формы. Чтобы отличить этот способ схватывания Я от всех прочих способов схватывания и познания, которые приложимы к миру (но не к Я), Ибн Сӣна̄ использует термин х̣адс — «прямое усмотрение», «интуиция».
Как термин теории познания х̣адс парадоксален: ведь по-знание не может не предполагать получения чего-то, чего у нас нет, перехода от какого-то исходного состояния к последующему. Но х̣адс именно это и исключает: здесь нет и не может быть никакого приращения знания. Более того, Ибн Сӣна̄ настаивает на том, что х̣адс не может бездействовать: если Я открыто прямому схватыванию, оно не может не схватываться1. Иначе говоря, мы не можем волевым усилием отказаться от схватывания Я: его открытость нам не зависит от нас.
Не зависит потому, добавлю я от себя, что такая открытость Я составляет условие нашего сознания, а вовсе не его содержание. Ибн Сӣна̄ не говорит об этом; его внимание направлено на другое — на то, чтобы исследовать применимость х̣адс к другим «предметам познания» (приходится брать в кавычки: для интуиции, прямого схватывания, когда отсутствует субъект-объектная разделенность, нет и не может быть «предмета» в собственном смысле слова), таким как Бог или вообще любая вещь мира. Здесь путь Ибн Сӣны отклоняется от того, которым хочу следовать я. Я думаю, что Ибн Сӣна̄ увлекся, пытаясь распространить свое
24
замечательное, великое открытие — открытие безусловной явленности Я — на все прочие «предметы» познания.
А между тем это открытие в самом деле было эпохальным по своей сути, хотя, к сожалению, не по своим последствиям и не по своему влиянию: об этом мысленном эксперименте Ибн Сӣны вспоминают сегодня в учебниках и специальных исламоведческих работах, но не в трудах по философии сознания. Нередко этот мысленный эксперимент Ибн Сӣны сравнивают с декартовским cogito, конечно же, оговариваясь, что между ними имеются различия, но хронологическое предшествование Ибн Сӣны должно быть зачтено ему в плюс и таким образом сделать ему честь, хотя никакого абсолютного и непреходящего значения в мысленном эксперименте Ибн Сӣны обычно не усматривают, как если бы он представлял исключительно исторический интерес, тогда как декартовское открытие снимало бы авиценновское и давало бы более зрелую форму все той же мысли. Однако между тем и другим — такое различие, что скорее следовало бы говорить о полном несходстве двух позиций, нежели о каких-то параллелях между ними. Для Ибн Сӣны вовсе не стоит вопрос о бытии, и он никоим образом не стремится найти абсолютное обоснование, позволяющее отринуть какие-либо сомнения относительно бытия. Речь вовсе не об этом; речь не о сомнении и не о его устранении, речь о том, что я могу знать до и независимо ото всего остального, то есть о том, что имеет абсолютное основание в самом себе. Иначе говоря, речь о том, зависит ли познание Я от познания чего-либо другого или же Я дано нам принципиально иначе, нежели все прочее. Эта данность Я, эта его открытость — вовсе не его бытие; говорить о бытии Я в авиценновском контексте1 значило бы с самого начала допустить существеннейшее искажение. Весь контекст декартовской мысли — другой: для Декарта важно установить несомненность бытия; а что именно «я» обладает такой несомненностью — вопрос второй, хотя и немаловажный и приводящий на следующем шаге к разведению интенциональности, сжатости (термин, по иронии историко-философской судьбы прямо связанный с латинскими переводами Ибн Сӣны) и экстенсинальности, протяженности. Если бы (как ни трудно представить себе условия этого «бы») несомненность бытия оказалась сопряжена не с «я» и его мыслью (заметим — вовсе не с чистым Я; значение этого различения прояснится позже), а с чем-то другим, от этого декартовское утверждение не изменило бы своей логики и своей сути, хотя поменяло бы свое содержание. А вот авиценновское рассуждение изначально нацелено на Я и его абсолютность — а вовсе не на то, несомненность чего стремится установить Картезий.
Итак, мысленный эксперимент Ибн Сӣны абсолютен в том смысле, что, во-первых, не может быть опровергнут, а, напротив, должен быть признан любым,
25
кто возьмется его провести, и, во-вторых, его выводы имеют собственную, не сводящуюся к чему-либо иному ценность. Мы можем и должны заключить, что Ибн Сӣна̄ с несомненностью доказал независимость данности нашего Я от каких-либо источников познания и его пред-посланность любому познанию мира. Это — именно то, что я называю условием сознания. Если под сознанием понимать ту деятельность, благодаря которой мы имеем возможность располагать себя в поле осмысленности, тогда сознание возможно (в том числе, но не исключительно) благодаря пред-данности Я. Такая пред-данность Я составляет второе из двух условий смыслополагающей деятельности, которую мы называем сознанием.
Однако условие сознания следует ясно отличать от его деятельности и от его содержания. Если бы Ибн Сӣна̄ и те, кто последовали за ним, прежде всего основатель ишракизма ас-Сухравардӣ, были правы, оказалось бы, что все содержание нашего сознания стало бы его условием; или, напротив, его условие оказалось бы неотличимым от его содержания. В «озаренческой сопряженности» (ид̣а̄фа ишра̄к̣иййа) они хотели достичь столь же абсолютной данности и явленности Первоначала и мира, сколь абсолютна данность Я; но, поскольку такая открытость Я составляет условие нашего сознания, получилось бы, что в число условий сознания включено все то, что мы считаем его содержанием. Собственно, мы тогда парадоксальным образом имели бы условие без обусловленного; вся деятельность нашего сознания была бы уже завершена, ибо все ее результаты (содержание сознания) переместились бы в область абсолютно достигнутого, превратившись в условие, т. е. пред-данность сознания. Возможно такое или нет — вопрос другой; его можно изучать отдельно, исследуя под этим углом зрения состояние сознания мистика. Однако очевидно, что это — не общий, не наш с тобой, дорогой читатель, случай: вряд ли эти заметки привлекли бы внимание того, кто сумел (если, конечно, это вообще достижимо) превратить содержание своего сознания в его условие, достигнув абсолютной явленности любого смысла. Для всех нас, обычных людей, верно другое: абсолютна и ни от чего не зависит пред-данность нашего Я, тогда как содержание нашего сознания представляет собой непрестанное изменение.
Интенциональность
Интенциональность нашего сознания; его постоянная направленность на что-то. — Но откуда берется это что-то, чтобы сознание стало деятельностью, направленной на это?
Условие сознания не может стать его содержанием. Любой может провести простой эксперимент: сосредоточиться на собственном Я, попробовав откинуть все остальное, забыть все прочее, оставив для своего созерцания только свое Я. Сделав это всерьез, почувствуем, как земля уходит из-под ног; собственно, почувствуем, что и уходить-то нечему, потому что ничего не остается. Сосредоточенность на собственном Я, проведенная по-настоящему, попросту «выключает»
26
все содержание сознания, оставляя только его условие; но условие не может стать содержанием. Так мы теряем осмысленность, мы оказываемся в поле бес-смысл-енного — там, где смысла нет, потому что Я — не смысл, а только его условие. Эта бессмысленность угнетает нас; оказаться без смысла — значит для нас потерять все, поскольку все, чем мы владеем, все, чем обладаем, — это осмысленность. Но то поле осмысленности, которое мы имеем благодаря деятельности нашего сознания, — это не Я и не чистая текучесть (полотно импрессиониста). Как бессмысленно чистое Я, так же бессмысленна чистая текучесть, и если мы попробуем вывести за скобки все, включая собственное Я, оставив только текучее полотно красок, мы окажемся в той же бес-смыслице, в какой оказались, оставляя для созерцания только собственное Я. Если Я затягивает нас как будто в черную дыру, где в абсолютной точке исчезает всякая осмысленность (поскольку осмысленность — это развернутость, это изменение), то полотно импрессиониста, напротив, лишает нас всякой точки опоры: растекаясь в чистой текучести, мы теряем и собственное Я, и все, что составляет для нас осмысленность.
Итак, мы можем сосредоточиться и на Я, и на текучести, сделав и то и другое единственным предметом мысли, — и получим бессмыслицу, отсутствие смысла и мысли. Здесь невозможно изменение и невозможна интенциональность. На Я невозможно направить наше внимание, потому что нет расстояния между тем, кто направляет, и тем, куда оно направляется; собственно, нет и этих двух, потому что их различение исключено чистым Я. Но и текучесть исключает то, на что можно было бы направить внимание, что можно было бы сделать предметом мысли. Ни Я, ни чистая текучесть не представляют собой «что-то».
Интенциональность — это направленность на вещь, на что-то; но откуда берется эта вещность, это «что-то-чность»?
Вещь
Вещь — это всегда субъект-предикатный комплекс. Собственно, вещь и есть целая фраза: когда мы говорим, мы говорим о чем-то, т. е. о вещи; пытаясь высказать вещь максимально полно, мы и разворачиваем фразу. «Птица сидит на ветке» — о чем здесь сказано, кроме «птицы»? «Птица» и есть вещь — точка, привлекшая наше внимание и определившая его направленность. Здесь вещь развернута как веер красок, прикрепленных к некоему центру, — к тому что, которое стянуло к себе все многообразие предикатов.
Вещь вместе с тем — всегда субъект. Ведь вещь всегда — подлежащее; вещь — отблеск нашей чистой субъектности; что-то бесплотное, лишенное всяких красок. Вещь как чистое начало сгущения содержательности.
Каков путь от этой бесплотной субъектности — к полновесной развернутости субъект-предикатного комплекса? Каков, иначе говоря, путь вещи — а вместе с ним и путь, который проходит наше сознание от своих условий — к своей развернутости? От смысла — к осмысленности?
27
Смысл
Только когда чистая текучесть загадочным образом встречается с пред-данностью Я — только тогда возникает смысл. Мы можем определить смысл как место встречи абсолютной неразличенной содержательности (наше полотно импрессиониста) и абсолютной субъектности.
Смысл — это сжатая пружина, способная развернуться и развернуть осмысленность. Смысл — чистая встреча тождественного, но абсолютно различного; в этой способности без-различной различенности — бесконечная потенция разворачивания осмысленности.
Эти формулировки только кажутся неожиданными; на самом же деле они подготовлены всем ходом нашего рассуждения, и то, что в них зафиксировано, уже было высказано другими словами. Если Я и чистая текучесть — условия нашего сознания, то этих условий — два или же оно одно?
Конечно, Я и чистую текучесть, Я и полотно импрессиониста невозможно спутать, и любой подтвердит это, сославшись на свой внутренний опыт, подтвердит совершенно безошибочно. Но можем ли мы их различить?
Можно ли указать на некий признак, который мы могли бы приписать нашему интуитивному, непосредственному ощущению своего Я, с одной стороны, и столь же непосредственному обладанию полотном импрессиониста — с другой? Могли ли бы мы приписать такой признак или признаки, наличие и отсутствие которых отличало бы одно от другого?
На этот вопрос возможен только отрицательный ответ. Ведь любой признак был бы неким содержанием, а значит, вводил бы Я или чистую текучесть в область содержания нашего сознания. Но тогда они утеряли бы свою функцию условия — того, что делает возможным содержание сознания, но что не служит частью этого содержания и над чем сознание не властно. И Я, и чистая текучесть интуитивны, к их непосредственной схваченности невозможно ничего прибавить. — Но это значит, что мы не можем их различить.
Без-различная различенность
Именно это я и подразумеваю под без-различной различенностью, или различенностью, которая не создает никаких различий. Я и полотно импрессиониста — не одно и то же, и в этом нет никакого сомнения; но столь же несомненно, что они — не два различных, что одно — то же, что и другое, притом что имеется «одно» и имеется «другое». Мы иногда слышим намек на это, когда вдруг ощутим свою причастность всему; или даже свою тождественность всему. Мы как будто равны всему миру; и это тем более удивительно и невозможно, что наше Я никогда не бывает не только равно чему-то другому, но и не бывает открыто самому себе иначе, нежели как чистое Я. Это парадоксальное равенство совершенно неравного, более того, неприравниваемого имеет своим основанием неразличенность
28
несовпадающего, Я и чистой текучести: когда мир редуцируется до полотна импрессиониста, когда он сбрасывает свои формы и обнажает свою основу, тогда к нашему Я возвращается это ощущение изначальной слитости и нераздельности того, что не сливается и не совпадает.
Эта неразличенность абсолютной субъектности и абсолютного начала содержательности, которые вместе с тем бесконечно разведены и несмешиваемы, эта без-различность различного служит источником всех различений и любых определенностей, которые мы встречаем в мире; а точнее, которые мы встречаем как мир.
Неразличенность различного, безразличная различенность — изначальный парадокс. Источник любых приравниваний неравного; источник бесконечного разнообразия. Именно здесь — тождественность нетождественного: они не просто встречаются, а становятся отличимы-и-неотличимы друг от друга. Я и непрестанная текучесть красок полотна импрессиониста неразличимы, но бесконечно различны; в этой возможности различить-не-различное — изначальная сила бесконечного различения. Тождество безусловно, наитвердейше верно; но тождество бесплодно, оно совершенно ни о чем не говорит. Даже аналитическое суждение бесплодно — постольку, поскольку оно стекается все в то же твердокаменное тождество. Нам хотелось бы узнать, как возможны синтетические суждения; как можно узнавать новое — и вместе с тем узнавать его истинно? Новое прорывает рамки тождества, оно выводит туда, куда тождество не простирает свою власть; но нам бы хотелось, прорвав эти рамки, сохранить всю ту уверенность, которую они дают; иначе говоря, сохранить уверенность тождественного. Очень старая проблема; и вот — тождественность нетождественного. Тождество нетождественного — вот искомое.
Встреча субъектности и содержательности как изменение
Взаимное движение Я и полотна импрессиониста навстречу друг другу; их встреча, которая и оказывается тождеством нетождественного. Они не могут не встретиться, поскольку неразличимы; и где бы они ни встретились, их встреча будет истинной, поскольку они не могут не совпасть. Но вот, собственно, вопрос: что значит, что Я и текучесть «встречаются» — как если бы они могли встречаться в разных местах или встречаться по-разному? Что есть такого в самом Я и в самом полотне импрессиониста, что дает возможность этого различия; почему Я может быть вброшено в разные «места» полотна импрессиониста и почему вбросы эти могут повторяться? И что означает такой «вброс» — ведь для того чтобы Я могло быть «вброшено» на полотно чистой текучести красок, оно должно отстраниться от него и остранить его; оно должно максимально осуществить свое несовпадение с ним — но только для того, чтобы потом совпасть?
Значит ли это, что здесь мы предугадываем что-то вроде пространственной и временной координат? Или, скорее, так: то, что дает возможность различия «вбросов» субъектности в бессубъектную текучесть красок абсолютного полотна, —
29
не будет ли это осмыслено как пространство, поскольку пространство — это возможность сразу-наличия, т. е. сразу-различения; а то, что дает возможность повторения Я- вбросов на бесконечное полотно текучих красок, — не будет ли это осмыслено как время, поскольку время — это возможность смены, т. е. различения, основанного на повторении?
Время столь же сжато и неуловимо, как Я; и в этой своей сжатости оно столь же бесконечно богато. И вместе с тем время — ничто: у нас только настоящее, но это настоящее всегда уже исчезло или еще не наступило. Времени никогда нет; и в то же время оно есть всегда, потому что «никогда» и «всегда» — абсолютные отрицание и утверждение того же самого времени. Точно так же и Я: стоит прикоснуться к нему, как его уже нет; Я рассыпается в бесконечное множество маленьких «я», всех этих состояний меня, которые я не могу не отождествлять с самим собой, т. е. со своим Я, хотя всегда отличаю их от него. Эти «я» преходящи и текучи, они никогда не остаются сами собой; но они всегда отнесены к моему Я, и только потому они возникают как «я».
Я рассыпается множеством «я» только благодаря повторению, т. е. благодаря смене одного «я» другим. Ни одно «я» не может сосуществовать с другим, оно непременно его сменяет. Если у меня много социальных ролей, я никогда не играю их сразу, они непременно сменяют одна другую; пусть и на самое малое мгновение, но между ними всегда есть зазор, который позволяет различить их благодаря смене, оставив и сохранив единственность моего Я. Я рассыпается во множественность во времени, не в пространстве; в пространстве если что и рассыпается, то отстраненная от Я субъектность. Это она может быть множественна сразу, и чуть ниже мы поговорим о том, что можно понимать под этим термином; что можно понимать под местоимениями не-первого лица.
Но пока остановимся на минуту, чтобы подвести итог сказанному. Мы увидели два принципа различения: смена и сразу. Смена необходима лишь потому, что различается то же, т. е. само-тождественное: Я как начало абсолютного тождества может быть различено, может рассыпаться во множество «я» (а такое рассыпание — несомненный факт внутреннего опыта, открытый любому) только благодаря их смене друг другом. Сразу необходимо лишь потому, что полотно импрессиониста как начало абсолютного различия требует одного вместе с другим, так сказать, бок о бок, чтобы различие состоялось. И сразу, и смена — способы различения; но само различие здесь устроено по-разному, и мы встречаемся здесь с различием самого различия. Различие различия берет начало в различности (хотя и неразличенности) Я и полотна импрессиониста, и оно столько же без-различно, сколь без-различна различенность этих двух условий сознания, которые не образуют двоицу.
Я рассыпается множеством «я», т. е. различается: начало абсолютной тождественности подвергается различению. Напротив, полотно импрессиониста, это начало абсолютного различия, фиксируется благодаря сразу в само-тождественности как то, что может быть подвергнуто смене. Сразу и смена (которые могут быть осмыслены как принципы пространства и времени) встречаются, чтобы своей встречей породить
30
определенность — зыбкую уравновешенность сразу и смены, уравновешенность, которая будет тут же нарушена. Эта определенность как задание границы сама определена тем, как именно встретятся сразу и смена, каким будет конкретное сочетание этих принципов различения.
Сразу и смена будут осмыслены как пространство и время; но это не значит, что мы должны поддаться соблазну начать с этих двух. Пространство и время нельзя мыслить как априорные формы или как абсолютные вместилища, их вообще нельзя мыслить как предельное. Предельным служит принцип различения, обнаруженный и найденный нами благодаря открытию без-различной различенности условий сознания, Я и абсолютной текучести. Ни одно из различений, которые мы сделали до сих пор, не было произвольным, каждое из них стало не более чем разворачиванием этого абсолютного источника любого различения, неотличимого вместе с тем от тождественности и восходящего к тождественности. Ни одно из понятий, введенных до сих пор, не возникло ниоткуда, не взялось, как по мановению волшебной палочки, просто потому, что понадобилось автору, чтобы сделать еще один шаг по его пути. Нет, любое из них возникло как необходимое, как неизбежное сгущение тех линий различения-без-различия, которое мы обнаружили как неизбежное, как необходимое движение, вызванное к жизни совершенным совпадением и бесконечным различием двух условий сознания. Если и может быть найден вечный двигатель, то только в этом неисчерпаемо парадоксальном и удивительном совпадении несовпадающего, поскольку оно не может не требовать безграничного движения вперед.
Граница
Абсолютная субъектность не может встретиться и совпасть с абсолютной содержательностью, не утратив своей абсолютности; то же относится и к другой стороне, к чистой содержательности. Субъектность в этой встрече утрачивает свою точечность, растекается, наполняясь содержательностью; содержательность же теряет изначальную неуловимость, беспредельную размазанность и замыкается, привязанная к субъектности. Такова логика этой встречи, этого совпадения двух несовпадающих условий нашего сознания, совпадения, порождающего — в своей бесконечной флуктуации — все его столь же бесконечное содержание. Но как могут совпасть несовпадающие, да к тому же абсолютные, ничем не ограниченные (и потому и не могущие совпасть) условия сознания — абсолютная субъектность и абсолютная содержательность?
Абсолютная субъектность Я — это вечное напряжение, направленное внутрь: ин-тенс-ивность, внутренняя напряженность; пружина, сжатая до конца, абсолютная потенциальность, ждущая возможности броска, возможности растратить и воплотить вовне свою энергию. Абсолютная содержательность, напротив, — это экс-тенс-ивность, внешняя разжатость; пружина, уже распрямившаяся до конца и полностью себя раскрывшая, променявшая потенциальность на совершенную
31
актуальность, размазанность по полотну без всяких границ. Ни то ни другое не ограничено: Я — потому что оно еще не вошло ни в какую границу; абсолютная текучесть — потому что она уже утратила всякую границу. Абсолютность того и другого имеет разный смысл: одно — до всякой границы, другое — уже после. Потому ни то ни другое не достижимо для нашего сознания, которое умеет двигаться только в том, для чего задана граница, — в изменяющемся, в том, в чем схвачена встреча двух безграничностей: той, что до всякой границы, и той, что после. (Чуть ниже мы скажем об этом так: наше сознание способно разворачивать целостность.) Введение чистой содержательности в границы и тем самым — ее сжатие, придание ей интенсивности, возвращение некоторой сжатости этой разжатой до конца пружине; и, напротив, придание бесконечно сжатой пружине Я некоторой содержательности, осуществленности и, следовательно, разжатости, некоторое ее ослабление — вот то поле, в котором способно двигаться наше сознание.
Сжатость Я и его готовность к броску, в котором оно приобретет определенность благодаря вхождению в границы, а значит, и утратит себя в той мере, в какой утратит свою абсолютность, — его постоянное состояние; оно не может не выходить из своей абсолютности, не может не утрачивать своей функции условия нашего сознания, постоянно переходя в область его содержания. Мы обнаруживаем мир, потому что обнаруживаем субъектность вне нас. Вещь — это вброс субъектности на полотно импрессиониста; абсолютная точка, утратившая свою абсолютность и растекшаяся радужной кляксой. Вещь невозможна без субъектности; но вещь точно так же невозможна без содержательности, без своей — так и хочется сказать: осязаемой — начинки. Однако остережемся отождествлять «вещь» и «субстанцию», вообще остережемся отождествлять вещь с чем-то «материальным». Вещь — не более чем субъектность, оторвавшаяся от Я и попавшая на полотно абсолютных красок и благодаря этому обладающая способностью сгущения, притягивания к себе размытой, без-граничной и никак не определенной содержательности. Эта сила субъектности — сила задания границы, введения в эту границу тех красок нашего абсолютного полотна, которые она сможет захватить.
Предикация и осмысленность
Мы не можем мыслить (что означает: не можем с-мыслить, не можем развернуть как осмысленность) абсолютную неизменность и абсолютную текучесть. Первое для нас — наше Я, второе — чистая содержательность нашего сознания, которую мы получаем после совершенной редукции. О первом нельзя ничего сказать, потому что ему нельзя ничего приписать; о втором нельзя ничего сказать, потому что там нечему приписывать. Возможность предицировать — это возможность заставить встретиться эти два условия нашего сознания, отстранив их друг от друга и остранив их друг для друга, с тем чтобы они породили его содержание. Предикация — не только способ нашей речи, то, как она устроена; предикация — способ нашего мышления (смысл-ения), то, как устроена осмысленность.
32
Это и значит, что мы можем сделать содержанием своего сознания только изменение. Изменение и есть встреча субъектности, абсолютной фиксированности — и текучести как абсолютной нефиксированности.
Наша мысль может быть отделена от нашей речи, пусть даже лишь в мысли: мы можем мыслить свою мысль как будто бессловесной, — или в речи: мы можем высказать такую мысль о бессловесной мысли. Это бес-словесное, или до-словесное, состояние мысли — особый предмет: такое состояние не может быть развернутостью, не может быть ясным состоянием нашего сознания. Будь так, мы составляли бы свою речь из слов-кирпичиков, тратя на это по необходимости гораздо большее время, нежели то, которое требуется, чтобы такую речь произнести. Всякий знает по своему опыту, что это не так; если мы и «подбираем слова», то лишь потому, что хотим изменить что-то в уже сложившейся, но еще не высказанной вслух речи, когда мы особым усилием задерживаем ее спонтанное высказывание; или же когда что-то ломается в механизме спонтанного складывания речи, выражающей до-словесное состояние мысли. Эта свернутая до-словесность, невысказанность — смысл, который мы ощущаем (говорим же мы, что мысль высказана точно, а то и не совсем точно: откуда знаем мы это, если не обладаем уже этой мыслью, причем обладаем совершенно точно и полно, до того, как она высказана в словах?), который властно руководит нами, до которого мы так стремимся добраться, то ли воспарив в горний мир в умном созерцании, то ли отдавшись поэтической стихии, но который мы не в состоянии высказать как таковой. То, что мы высказываем и что отчетливо мыслим, — это развернутость, а не свернутость, дискретность, а не континуальность; это осмысленность, а не смысл.
Смысл до-словесен, а осмысленность требует развернутой предикационной формы, причем такой, которая — как мы увидим ниже — предполагает использование имени. Однако на границе между смыслом и осмысленностью, между дискретностью и континуальностью, между свернутостью и развернутостью живет глагол — совершенно удивительное образование нашей речи; а в области мысли мы находим ему полное соответствие — категорию действия.
Глагол и действие; местоимение и имя
Текучесть обращается в действие при минимальном добавлении субъектности. Нам достаточно как будто спроецировать свое Я на текучее полотно вечно-меняющихся красок, чтобы в том месте, куда (без этого «куда» никак не обойтись) оказалось направленным наше внимание, возникло что-то осмысленное. Мы заметим тогда, что это не просто беспорядочные тени бегут на пестром и бессмысленном фоне, а что это, например, колышутся листья: мы увидим действие, непременно связанное с субъектом и невозможное без него.
Субъектность действователя, без которой действие невозможно, непременно соотнесена с нашей собственной субъектностью. Местоимения замещают не имена (скорее, наоборот, имена встают на место местоимений — мы увидим это), а нашу
33
субъектность, спроецированную вовне, на абсолютное полотно красок, и им следовало бы дать соответствующее название. Это видно хотя бы из того, что любое из них может легко превратиться в «я» (или даже в Я): субъектность конвертируема, все зависит от точки зрения, и то, что (или те, кого) мы называем «он», «она», «они» и т. п., для самих себя выступают как Я, а для нас в своей речи — как «я». В мире действуют мириады «я»: абсолютная субъектность, рассыпавшаяся в сразу-повторении и повторении-смене (в том, что мы назовем пространственным и временным умножением Я).
Местоимение (сохраним за ним традиционное название, помня, что это — слово, употребляющееся вместо Я, а вовсе не вместо имени) органично слито только с глаголом. Лишь в глаголе местоимение составляет его неотъемлемую часть и действительно что-то сообщает нам. Так — потому, что глагол и есть чистая субъектность, в минимальной степени утратившая свою абсолютность взамен на обретенную содержательность, и в силу этого содержательность слита здесь с субъектностью так, что их невозможно разделить. «Иду» и «я иду» — одно и то же: глагол как будто вбирает в себя целую фразу, он один — речь, он один — высказывание, которое может, конечно, развернуться с аналитическим разделением единиц речи (как это случается в языках, утративших или не знавших синтетизма глагола так, как его знают русский или арабский языки), но которое от этого ничего не выигрывает в своей силе. Остановив взгляд на бессмысленной игре красок, теней и света, мы вдруг замечаем, что «оно» (он, оно, ты — некое местоимение, занявшее место абсолютной субъектности нашего Я) «колышется». Мы узнаем это еще до того, как увидим, что «оно» — это «лист дерева»; сперва мы лишь замечаем возможность увидеть субъектность и нанизать на нее какую-то часть спектра красок, сделав их осмысленными. Собственно, мы видим, что «оно зеленеет», что «оно имеет-продолговатую-форму» (представим себе такой глагол) и так далее: «лист дерева», замещающий затем в нашей речи местоимение «оно» и встающий на его место («оно колышется» → «лист дерева колышется»), служит не более чем стяжкой целого веера глаголов.
Так возникает имя как замена множества глаголов; в имени скрывается, как будто исчезает, субъектность, прежде очевидная в глаголах, бывшая такой, которую невозможно скрыть или не заметить. Этот набравший вес субъект вдруг появляется на сцене, чтобы стать отдельным, самостоятельным именем: мы уже говорим не «он колышется», а «лист колышется». Но «лист» колышется только потому, что прежде «он зеленел», «он имел продолговатость (= продолговател)» и т. д. Имя возможно только потому, что глаголы собрали всю эту содержательность с полотна импрессиониста, как вездесущие пчелы — нектар с медоносов, и стянули ее к субъектности: то, что было прежде разбросано там и тут в совершенно неосмысленном виде, вдруг затвердело именем. Так и нектар, разбросанный на многих тысячах цветков, вдруг загустевает прозрачной медовой массой.
Глагол как будто замещает собой всю речь. Послушаем, как определяет его словарь Даля: «Слово, речь, выражение; словесная речь человека, разумный говор,
34
язык». И только следующим дано грамматическое значение: «Часть речи, разряд слов, выражающих действие, состояние, страдание». Мы как будто слышим подсказку: язык следует понимать прежде всего как речь и говор, и лишь затем — как набор формальных средств, как категориальную разметку и синтаксис. И подсказка эта как нельзя более уместна: в речи живет мышление и связность, исчезающие в наборе формальных средств точно так же, как в разъятом на части живом теле исчезает жизнь.
Субъектность и текучесть выражены в глаголе непосредственно: субъектность неотрывна от глагола, текучесть застывает в нем как его содержательность. Глагол не может избавиться от этой изменчивости: он сам и есть изменчивость. Глаголу не нужны никакие дополнительные средства, чтобы «отразить» изменчивость: нет нужды отражать то, чем и так являешься, не нужно притворяться там, где все естественно.
Поэтому в глаголе, который может служить целой фразой, или в глагольной фразе, где субъектность выражена явно, будь то местоимением или даже заместившим его именем, есть связность, но нет связки. Связка, с одной стороны, не нужна здесь: глагол и так связен, лишь аналитическая процедура вычленяет в нем субъект, который как будто отделяется от содержательности. А с другой — она здесь и невозможна: куда бы можно было поместить здесь эту эрзац-связность, этот костыль вместо живого сустава? В глагольной фразе нет места для связки, и мы никак не можем вообразить здесь какой-либо зазор между субъектом и предикатом, который был бы заполнен связкой: естественная, бесшовная связность глагола выталкивает связку, как живое тело выталкивает чужеродный предмет.
Имя и предикация
«В одну и ту же реку нельзя войти дважды» — едва ли кто-то не слышал эту расхожую формулу. Ее обычно приводят как пример непрестанной изменчивости: образ текущей реки, сменяющихся вод как нельзя лучше подходит для того, чтобы указать на постоянную, беспрерывную перемену. Мы легко представляем себе несущийся поток или спокойно текущую медленную реку; но в любом случае мы никогда не войдем в одну и ту же воду — и потому, что сама вода в текущей реке все время сменяется, и потому, что сменяется ее внешний облик. Текучесть, следовательно, оказывается дважды текучестью: водяной субстрат — всегда другой, чем был только что, и внешняя форма его никогда не бывает постоянной.
Но обратим внимание: в Гераклитовой формуле речь идет не о воде, а о реке; более того, об одной и той же реке. Почему-то нам необходима «одна и та же река», чтобы мы могли отрицать ее существование. Парадоксальная вещь: желая сказать, что всё в мире переменчиво, мы должны сперва допустить неизменность, фиксированность, — то есть допустить именно то, что хотим отрицать. Более того, такое допущение оказывается необходимым условием отрицания, к которому мы стремимся: мы не можем говорить о том, что река никогда не остается самой
35
собой, если прежде не утвердим именно эту «саму-по-себе реку», которую хотим отрицать.
Ничего не изменится, если мы вернемся к воде как к «реальному», материальному субстрату, оставив в стороне гипостазированную «реку». Все равно, чтобы отрицать постоянство воды, протекающей прямо перед нашими глазами и даже, если хотите, обтекающей наше тело, погруженное в эту воду, нам придется сперва иметь понятие воды как таковой, одной и той же воды, чтобы затем мы могли сказать, что вода все время другая, а не та же самая; не будь этого, перед нами было бы множество разных вод, но не было бы другой воды.
Если бы нашей целью была чистая текучесть, мы не испытывали бы столь странной потребности сперва сделать то, от чего тут же откажемся. Чистая текучесть не требует столь причудливых ходов; чтобы погрузиться в нее, надо как раз отвлечься от всякой сформулированной мысли, вынести ее за скобки. Но если мы хотим мыслить и формулировать мысль, если мы хотим высказывать ее, нам надо оставить текучесть и создать смысловое пространство изменения.
Остановив чистую текучесть мира, прервав ее поток, мы получим как будто мгновенный снимок. Прервав этот поток иначе, в другом месте, мы получим другую картинку. Эти две картинки будут разными, в чем мы убедимся, наложив одну на другую и увидев, что они не совпадают (так не совпадут две фотографии улицы, полной машин и пешеходов, сделанные одна за другой). В таком случае мы можем говорить, что перед нами две разные картинки, два разных мира; но мы не можем говорить, что перед нами изменившийся мир. Чтобы иметь не просто два разных, а одно изменившееся — чтобы иметь право говорить об изменении, — мы обязаны прежде утвердить неизменность.
Этот логико-смысловой Гераклитов закон абсолютен: никто не может ускользнуть из-под его власти. Мы просто не можем мыслить иначе; если мы мыслим, то мыслим изменение, а это значит: мы фиксируем нечто как неизменное, выхватывая так заданную вещь из континуального смыслового потока, и лишь затем и на этой основе говорим о ней как об изменяющейся. Мыслить — значит предицировать, мыслить — значит разворачивать осмысленность по формуле «субъект + предикат».
Глагольная речь, что была приведена выше как пример отражения естественной текучести мира, также может быть формализована по схеме «субъект + предикат». С точки зрения лингвиста, предикат может быть каким угодно, он может быть выражен в том числе и глаголом. Например, «птица садится на ветку» — это предложение, которое имеет форму «имя + предикат»: выраженный именем субъект «птица» и предикат «садится на ветку». Не отрицая пользы такого рода формализации и вообще не вторгаясь в ту область, в которой работает лингвистика (для лингвистики важны языковые формы или фонетика: в этих областях она обнаруживает ясные законы, тогда как смысл редуцирован здесь до невнятной «семантики»), я вместе с тем не откажусь от права задать собственное поле логико-смыслового рассуждения, на котором только и могут быть вскрыты логико-смысловые законы, управляющие мыслью. Тогда станет видна принципиальная разница
36
между двумя предложениями, двумя типами предикации — глагольной и именной: «Птица садится на ветку» и «Птица есть садящаяся на ветку», которые для сверхобобщающего лингвистического взгляда едва ли не одинаковы по своей форме. Связка «есть» — вовсе не одна в ряду разнообразных и (якобы) на равной ноге функционирующих связок: только связка «есть» делает возможной субстанциальную картину мира; она, таким образом, фундаментальна для этой картины мира, тогда как остальные маргинальны в той или иной степени. В именном типе предикации, когда и субъект, и предикат выражены именем, имя фиксирует; имя вынимает вещь из временного потока, придает ей точность и стремится замкнуть в заданных границах; предикат размыкает замкнутость, стремясь вернуть вещи — хотя бы отчасти — ту континуальность, которую она утеряла, задав саму себя как неизменную и определенную. Осколки подлинной континуальности представлены в нашей речи предложениями вроде «Вечерело», а предчувствия абсолютной идеальности — фразами «Нельзя курить» и им подобными: в них нет субъекта, схваченного рамками имени и готового изменяться, они построены по другой смысловой логике, они не подчиняются императиву Гераклитова закона. Не подчиняются только потому, что оказались на полях той картины мира, которую рисует нам мысль, задавая его как изменяющийся: «Вечерело» слишком континуально, слишком текуче, чтобы быть изменением; а «Нельзя курить» слишком абсолютно и фиксировано. Гераклитов закон абсолютен только для мысли, разворачивающей себя в субъект-предикатной форме; для мысли, схватывающей единство изменяющегося мира.
Почему возможна предикация:
без-различная различенность условий сознания
Субъект предикации может быть выражен местоимением — тем, что напрямую схватывает субъектность (а вовсе не стоит «вместо имени», как подсказывает этимология), — а может быть выражен именем (когда уже оно замещает субъектность местоимения). Предикат может быть выражен глаголом — и тогда предикация не предполагает связку: мысль связывается, субъектность сплавляется с содержательностью бесшовно, органично. Здесь — главная загадка смыслообразования: как и почему субъектность сплавляется с содержательностью, почему осмысленность возникает? Эти два условия нашего сознания — абсолютное Я и абсолютная текучесть красок — не могут не встречаться, поскольку они — не два разных; но они не могут совпасть, поскольку они не одинаковы. Не одинаковые, но и не разные: эта различенность без различий требует, чтобы сплав субъектности с содержательностью бесконечно варьировался.
Если смыслообразование — это всегда сплавление субъектности с содержательностью, то понятно, почему мысль всегда предикационна и почему мы мыслим только изменение, но никогда не фиксированность и не текучесть. Невозможно мыслить «пять»; «пять» можно сделать предметом медитации или интуиции, но никак не мысли. Можно мыслить «пятью пять — двадцать пять»: это — изменение,
37
возможное как сплав субъектности, т. е. абсолютной фиксированности, с содержательностью, которая эту фиксированность нарушает, добавляя к ней то, чего в ней как будто нет, но что может быть добавлено. Изменение заставляет сплавлять субъектность и содержательность так, что они оказываются движущимися от одного состояния к другому; это движение мы и называем мыслью.
Два типа предикации — глагольный и именной
Можно говорить о двух типах предикационной сплавленности субъектности и содержательности. Первая представлена глагольной фразой, другая — именной. Современная лингвистика и логика подчас бывают склонны не замечать существенного различия между двумя типами предикации, рассматривая их как варианты некой единой формы связи субъекта и предиката. Но это не так; говорить о связи субъекта и предиката «вообще» — слишком сильная абстракция, отвлекающая от того, от чего отвлечься как раз нельзя — от силовых линий, вдоль которых движется смыслообразование, представляющее собой сплавление субъектности и содержательности.
Глагол, как мы сказали, — это первая «остановка» на пути от состояния разъятости двух условий нашего сознания, когда мы — чисто теоретически, конечно же, — рассматриваем их отдельно одно от другого, к их естественной сплавленности, которая и составляет стихию нашего сознания. Говоря о глаголе, мы говорим о нашей речи; в плане смыслообразования глаголу соответствует действие. И глагол, и действие предполагают непосредственную, прямую субъектность: нет такого глагола и такого действия, которые исключали бы возможность представить действователя как «меня», «тебя», «ее» и т. д., иначе говоря, исключали бы возможность представить субъект в языковых формах местоимения. Местоимение столь же необходимо в речи, как и глагол; и столь же ясным оказывается соответствие ему, которое находим в области сознания.
Имя, как мы видели, служит интегрантом суммы глагольных фраз. Мы ставим «лист» вместо «он зеленеет», «он растет» и т. д. Любое имя может быть раскрыто таким образом, поскольку любое может быть представлено как такой интегрант.
Но у имени есть и другая функция. Мы все знаем о ней, поскольку знаем, что любую глагольную фразу можно превратить в именную. Я называю фразы глагольной и именной по типу предикации, т. е. в зависимости от того, выражен ли предикат глаголом или именем: во втором случае «есть», чаще всего опускаемое в русской речи, выполняет роль связки двух имен, а не является глаголом-предикатом. Сам факт наличия глагольной и именной фраз в нашем языке — удивителен, но мимо него обычно проходят, не обращая на него внимания или даже стараясь его затушевать; вообще стараются не обратить внимания на смысл и возможность работы с ним.
В самом деле, я могу сказать: «Он приехал», а могу — «Он есть приехавший», и так для любого глагола. Такое превращение в речи — совершенно нормальное,
38
обычное явление. Если фраза типа «Он есть приехавший» и звучит непривычно для уха, не слышавшего ничего, кроме литературного языка, то она от этого не становится неестественной для носителя русского языка вообще. Там, где я обычно провожу лето, говорят как раз такими, а вовсе не глагольными фразами. Тут скажут: «Он приехадши» — с чередованием в-д, с усеченной формой причастия и, конечно же, с опущением связки; все эти метаморфозы совершенно нормальны в русском языке. Точно так же мы услышим «он умерши[й]» вместо «он умер», «он поевши[й]» вместо «он поел» и т. п. Интересно, что такая нелитературная форма оказывается ближе к логической форме «S есть P», нежели требуемая литературной нормой русского языка глагольная фраза.
Языковые формы и смыслополагание
Таким образом, рассмотренные три формы: глагол, местоимение и имя — совершенно необходимы в речи с точки зрения смыслополагания. (Речь, с одной стороны, отражает смыслополагание, протекающее в доречевой или внеречевой форме, как, например, чувственное восприятие; с другой — сама является смыслополаганием. «Смыслополагание» здесь — общий термин: закономерности смыслополагания едины для его внеречевых и речевых модусов.) Грамматики могут выделять другие языковые формы или не выделять эти, но исследование смыслополагания неизбежно выявит их, и именно их. Более того, как раз разговор о смыслополагании дает возможность выйти на универсальный уровень, на котором мы можем говорить о том существенном, что стоит за вечно-изменчивыми языковыми формами и что только и делает их языковыми, — говорить о смысле и осмысленности и законах их разворачивания.
Совпадение и различие
Вернемся к тому, что было сказано о без-различной различенности. Я и полотно импрессиониста, точечность нашей абсолютной субъектности и безграничная широта не вошедших ни в какие границы красок мира различены лишь потому, что мы не можем сказать, что они совпадают: против этого протестует весь наш внутренний опыт. Но мы не можем сказать и того, что они различны — в том смысле слова «различны», который применим к ситуации, когда мы говорим, что «“это” — не “то”». «Это» и «то» в таком случае — вещи; а под вещью можно понимать одно из двух: либо то, что способно служить объектом остенсивного определения, не нуждаясь ни в каких других, либо то, что выступает как субъект в субъект-предикатном комплексе.
В первом случае мы просто указываем пальцем на нечто (такое не-что и превращается благодаря этому во что-то, обретая свою что-йность, точнее, обретая ее основание — то, благодаря чему о вещи можно говорить как о чем-то) и утверждаем, что «это» (объект нашего указания) отлично от «того», где «то» — другая вещь
39
либо в первом смысле этого слова (объект остенсивного определения), либо во втором (описанная в субъект-предикатном высказывании). Указывая так на «это», мы обходимся без того, чтобы сделать «это» субъектом в субъект-предикатном высказывании, поскольку предполагаем, что собеседнику абсолютно ясно такое указание и он не нуждается в том, чтобы оно было пояснено субъект-предикатным высказыванием. Насколько такая уверенность обманчива, показывает известный аргумент Куайна, однако он не устраняет ни возможности верить в ясность такого определения, во всяком случае, в некоторых ситуациях, ни безусловной ясности такого определения для самого определяющего. Такое указание на «что-то» сродни указанию на «оно»: «вот это», «оно», «нечто» в данном случае — синонимы. За счет такого указания мы как будто выделяем какую-то из красок мира и придаем ей субъектность: «оно» выделено благодаря нашему указанию.
Однако Я и абсолютное полотно красок — не вещи, они не могут служить объектом остенсивного определения. Тем более они — не вещи во втором смысле этого слова: они не могут оказаться субъектом субъект-предикатного высказывания, когда бы мы различили их благодаря приписыванию несовпадающих предикатов. Конечно, можно построить субъект-предикатные высказывания, сделав «Я» и «полотно импрессиониста» их субъектами, но такие высказывания перенесут на них (на Я и полотно красок) то, условием чего они служат: саму возможность субъект-предикатного высказывания. Та совершенно удивительная, до сих пор удовлетворительно не объясненная способность слов сплавляться в нечто единое (хотя и сложносоставное), то есть в высказывание, имеющее собственный смысл, не складывающийся из обыкновенной суммы составляющих его частей, — эта способность имеет своим основанием без-различную различенность Я и полотна импрессиониста, и полагать, что мы можем различить их, опираясь на способность, которая ими же и обоснована, значит допускать petitio principii.
Различенность и различие
Я и полотно красок, абсолютная субъектность и абсолютная содержательность различены, но не различны.
Они различены потому, что мы не можем сказать о них, что они — одно и то же, что Я и полотно красок — одно, а не два, что наша абсолютная субъектность и не менее абсолютная содержательность (которая окажется для нашего сознания содержательностью всего прочего) — одно. Мы сопротивляемся такому утверждению, во-первых, потому, что оно очевидно противоречит всему нашему опыту: мы просто не можем его принять. Но мы сопротивляемся ему, во-вторых, и потому, что принято думать, будто Я — это что-то «наше», сугубо интимное, внутреннее, собственное, не передаваемое другому (более того, служащее основанием для отличения от Другого), наконец, не принадлежащее «миру», не объективируемое, тогда как абсолютное полотно красок если и ассоциируется с чем-то, то именно с внешним, с тем, что предстает для нас как «мир» (хотя само это полотно — вовсе
40
не «мир», а только его возможность; или же его редукция: редукция его вещности и различия, устанавливаемых как субъект-предикатный комплекс).
Однако такое разведение Я и полотна импрессиониста обманчиво; точнее, обманчиво основание, которое лежит в его основе. Ведь Я не подчиняется нам ничуть не меньше, чем палитра чистых красок мира: я не волен оставить в стороне свое Я, отвлечься от него, отодвинуть его в сторону, одним словом, избавиться от него — все это я могу сделать, только перестав быть собой, утратив вместе с Я и свою самость. Не я придумал это Я, не я породил его; не случайно ведь Ибн Сӣна̄ говорит, что я ни на мгновение не могу перестать воспринимать свое Я, то есть забыть, что я — это Я. Мое Я дано мне, но оно мне не принадлежит. Может быть, и верно, что оно внутреннее, «мое»; но не менее верно и то, что оно — не мое, потому что я ни на йоту не волен им распоряжаться. Мы всё же привыкли называть «своим» то, чем владеем и чем можем распорядиться; а как считать своим то, над чем я вовсе не волен, что я не могу изменить и даже не способен утратить? (Пожалуй, утратой Я можно было бы считать смерть, если бы мы хотя бы что-то знали о ней, а не просто страшились ее; смерть все еще — по ту сторону космоса современного человека, она — хаос, недоступный порядку и сознанию, не освоенный человеком и не присвоенный им. Смерть — территория, которая так легко осваивается мифологией, религией и прочими типами смыслопорождающей деятельности, которые не задаются вопросом об оправданности и внутренней согласованности построений.) Я, взятое как условие сознания, ничуть не подчиняется моей воле, и в этом смысле оно — не мое, не присвоено мной. Оно не просто дано, оно задано мне; оно — условие, граница, которую я не могу перешагнуть и в пределах которой я только и могу находиться. (Освоить и при-своить свое Я, которое только тогда действительно и станет моим, — задача, которую мы еще не в состоянии не только решить, но и по-настоящему поставить. Мы отчуждены от себя, от своего Я более всего; точнее, эта отчужденность — основание всех других отчуждений и отчужденностей.)
Между Я и набором чистых красок мира мы можем установить различенность, но не различие. Их различенность дает нам основание сказать, что они не одно. Однако отсутствие различия дает нам основание столь же уверенно утверждать, что их не два. Не одно и не два; пограничная территория между совершенной неразличенностью, полным безразличием — и ясным различением, четкой разделенностью. Между совпадением и разделением, между единицей и двоицей. Разведенность, не доходящая до арифметической двоицы, и совпадение, не приводящее к арифметической единице.
Целостность как условие сознания
Как можно мыслить — как можно с-мыслить — это странное — что? «состояние»? «вещь»? «положение»? — нет; это ни то, ни другое, ни третье, это, скорее всего, вообще ничто из того, к чему привык наш терминологический язык и к чему он пригнан. Он привык мыслить изменчивость; это значит, что он привык мыслить
41
вещь и ее предикаты. Мысль принимает форму субъект-предикатного комплекса, причем такого, в котором предикат выражен именем. Возможны, как уже говорилось и как еще будет сказано, два принципиально разных типа субъект-предикатного конструирования: глагольный и именной; но дело в том, что глагольный всегда может быть преобразован в именной. В любом случае непременным условием субъект-предикатного комплекса служит наличие субъекта — вещи. Однако у нас речь идет о том, что до всякой вещи; что до того, что может быть схвачено как изменение. Значит, у нас речь о том, что выходит за пределы привычной сферы мышления (или: сферы привычного мышления); именно поэтому так трудно найти правильное слово, ведь все «правильные» слова принадлежат области привычного мышления. Можно сказать и так: мы привыкли работать с содержанием сознания, а сейчас речь идет о его условиях. Граничные условия — то, что делает сознание возможным, но что не принадлежит его содержанию.
Естественно, мы не можем с-мыслить (ухватить смысл) эти граничные условия так же, по той же методике и теми же приемами, которые годны для работы с тем, что возможно благодаря этой границе. В самом деле, любые мыслительные операции протекают как субъект-предикатное конструирование; а что делать, если оно не может быть применено? Скажем, обобщение: оно предполагает возможность построить субъект-предикатный комплекс и в самом простом случае сводится к общности предиката для разных субъектов. Мы не можем обобщать иначе, нежели выполняя субъект-предикатное конструирование, т. е. обладая самой его возможностью; а без обобщения мы не можем ни мыслить, ни использовать язык. В самом деле, какое право мы имеем относить одно и то же слово хотя бы к двум (а если к трем? или больше?) разным предметам? — а предметы ведь всегда разные, одинаковых никогда не бывает. И тем не менее двух разных людей мы называем «человек»; двух разных лошадей — «лошадь», и две разные стены — «стена». Почему, на каком основании? Только потому, что эти имена служат предикатами этих разных вещей, которые сперва увидены как вещи, а затем, благодаря общности предиката, — как одни и те же вещи. Лишь открыв рот и произнеся фразу, мы совершили неимоверной сложности мыслительные операции, совершенно об этом не задумавшись; так же точно мы не задумываемся о тех невероятно сложных физико-химических процессах, происходящих в нашем теле, когда мы думаем, поглощаем пищу, двигаем рукой или просто ничего не делаем.
И все же: как можно мыслить на границах мысли — там, где нормальные (ставшие нормой) приемы мысли не имеют права быть задействованы? Где невозможна изменчивость, взятая как субъект-предикатный комплекс? И может ли изменчивость быть взята иначе — иным образом, нежели это сделано в субъект-предикатном комплексе? — ведь именно изменчивость — стихия мысли; неизменность-и-изменение, остановка-и-движение, взятые неотрывно друг от друга. Слово «мыслить» слишком заужено в своем значении, под ним обычно понимают только теоретическую деятельность. Что, если возвратить его в более широкий контекст; что, если «мыслить» понимать как «с-мыслить», то есть формировать,
42
полагать осмысленность? В самом деле, можем ли мы не только мыслить, но и воспринимать мир иначе, нежели останавливая его движение — и тут же вновь погружая ставшее в смысловой поток? Можем ли мы воспринимать мир иначе, нежели как мир вещей, тем самым полагая вещи уже на уровне чувственного восприятия, а затем мысля их? Но все это — субъект-предикатные формы, без которых невозможна осмысленность, возьмем ли мы ее как чувственное восприятие или как теоретическое мышление. Изменчивость — стихия и чувства, и мысли, и слова. Однако здесь, в области содержания сознания, это всегда — изменчивость чего-то, изменчивость, конкретизированная благодаря схватыванию вещи. Но что такое изменчивость как таковая, изменчивость, взятая независимо от своего осуществления, независимо от того, что именно схвачено и остановлено, независимо от полагаемой вещи?
Спрашивать, что такое изменчивость как таковая, — значит спрашивать, что такое мысль как таковая, — что такое та способность, благодаря которой мы обладаем осмысленностью, благодаря которой развернуто содержание нашего сознания, благодаря которой возможно смыслополагание. Изменчивость как таковая — это, конечно, сила изменчивости, а не изменчивость чего-то; не осуществленная изменчивость, а то, что делает любую изменчивость возможной. Мысль, которая еще не стала; та самая свернутая мысль, которая, разворачиваясь, находит сама себя; которую мы можем сверять с развернутым выражением, решая, точно ли она схвачена в нем.
Абсолютное Я и абсолютное полотно красок; не одно, но и не два. Каждое из них — то же, что другое, но взятое иначе. Я и полотно красок противоположны, ни в чем не совпадая; но мы не можем их различить, и в этом смысле они — одно. То же в силу неразличия, иначе в силу несовпадения. Несовпадение, неотличимое от неразличия. Абсолютная изменчивость: зафиксированность, тут же растекающаяся; податливость твердости: схваченность, ускользающая из рук, определенность, которую невозможно удержать.
Принцип то же иначе. Здесь также — изменчивость; та же изменчивость, реализованная иначе, нежели субъект-предикатный комплекс. (Это значит, что принцип то же иначе саморефлективен; из этого вытекает многое, но мы сейчас оставим это в стороне. Как оставим в стороне и размышление о том, что то же иначе, будучи принципом изменчивости, служит тем самым принципом мышления, а значит, может быть положен в основу рассуждения: можно — и нужно — научиться строить мысль, отталкиваясь от него.) То же иначе и есть сама изменчивость, сама мысль; мысль как таковая, а не мысль о чем-то. «Что-то» — вещь, которая станет предметом мысли, — возможно благодаря разворачиванию то же иначе, благодаря застыванию прежде-не-схватываемой изменчивости. Только тогда мысль будет мыслью о чем-то; но мысль как таковая — здесь, в чистой изменчивости, в этом сплаве Я и абсолютного полотна красок — сплаве условий сознания.
Этот сплав должен быть назван целостностью. Не «целым», конечно же; ведь целое — это всегда «что-то», это всегда вещь. Между тем на границах сознания
43
мы еще не обладаем никакой вещью; нам надо понять, как становится возможной вещь и какой она может быть. Целостность — это изменчивость как таковая; то, где различие неотличимо от неразличия, хотя и не совпадает с ним; то, что способно разворачиваться, но что не является ничем из развернутого.
Целостность — не что-то иное, нежели Я и абсолютное полотно красок. Нередуцируемые условия нашего сознания, условия, которых и не два, и не одно, — это и есть целостность. Это — наша собственная, внутренняя, если угодно, сила смыслополагания. Я и полотно красок нельзя представлять как два предмета, лежащих в разных углах комнаты. Абсолютная субъектность и абсолютная содержательность — не два, но и не одно; не два условия сознания, но и не единственное условие. Это, странным образом, такое условие, которое и есть обусловленное: что такое развернутость сознания, как не реализация этой силы целостности, той связности, которую она таит в себе, которой она начинена и от которой, собственно, неотличима? Условие, которое — не «что-то»: будь так, мы имели бы условие сознания как вещь, тогда как вещью оно никак не может быть, ведь вещь — это то, что обнаружит себя в процессе смыслополагания, т. е. в процессе разворачивания связности, в процессе реализации целостности.
И последнее. Я и полотно импрессиониста различены; но мы не имеем права сказать, что они противоположны. Противоположенность имеет место только тогда, когда появляется граница: противоположность располагает себя внутри того пространства, которое полагается заданием границы — границы, которая тем самым задает и единство. Так целостность реализуется как противоположение-и-объединение; но противоположение-и-объединение всегда конкретны, т. е. всегда «сделаны» по конкретной логике. Целостность и реализация целостности — не одно и то же, как не одно и то же — условие сознания и оно само (его содержание). Хотя, как мы видели, условие не является чем-то отличным от самого сознания: если сознание возможно благодаря заданию границы, благодаря конкретизации целостности в той или иной логике смысла, то условия сознания и суть такая граница.
Субъект-предикатная склейка
Субъект-предикатная склейка, которую мы обнаруживаем как основную форму в области содержания, а не условий сознания, имеет своим основанием это удивительное состояние совпадения-и-несовпадения условий нашего сознания — то, что может быть иначе названо связностью, целостностью, изменчивостью как таковой. Мы видим мир как совокупность фактов, это верно; однако каждый факт «сделан» из вещей, наделенных каким-то содержанием. Это — самое общее наблюдение, пока максимально абстрактное и неуточненное. Но и самое фундаментальное: мы не можем обойтись без этой субъект-предикатной склейки; попробовав редуцировать ее, мы тут же оказываемся не в области содержания сознания, а в области его условий. Мы как будто выскакиваем за пределы поля, в котором можем располагаться на тех уровнях, которые традиционно считаются качественно разными
44
уровнями познания и схватывания «мира»: на уровнях чувственного восприятия и рационального мышления. Редуцировать субъект-предикатную склейку — значит подойти вплотную к картине, перестать видеть предметы и размонтировать их, с одной стороны, до невнятных и совершенно аморфных «красок», а с другой — оставшись с чистым Я, устранив с таким размонтированием всю субъектность мира. Иначе говоря, с устранением субъект-предикатной склейки мы оказываемся с чистыми условиями сознания, но не с его содержанием.
Различение без различия, которое мы обнаруживаем как условие нашего сознания, как то, что остается после всей редукции мира, это удивительное состояние безразличной различенности, совпадения-и-несовпадения, в котором одно (совпадение) неотличимо от другого (несовпадения), объясняет и замечательное свойство субъекта и предиката связываться, склеиваться во что-то как будто одно, но вместе с тем и двуединое.
Эта удивительная способность становится необъяснимой, как только мы заходим с противоположного конца, рассматривая субъект и предикат как отдельные слова, как единицы, разнесенные по языковым категориям. То, что (якобы) изначально существует раздельно и что отделено одно от другого, — как может соединиться? Откуда такому раздельному взять силу преодолеть собственные границы, совершить невозможное, выйдя за пределы самого себя? Нет, такая разграниченность слов, каждое из которых пронумеровано языковедами и занесено в реестры, — это не начальный, а конечный шаг, абстракция, уносящая нас далеко от истока смыслополагания. Конечно, таким отдельным и отделенным друг от друга словам не соединиться в предложение. Мы можем переставлять и комбинировать их, как кубики детского конструктора, но как построить из них живое предложение? Не хватает чего-то на первый взгляд незначительного, но, как оказывается, очень важного — того, что можно уподобить связывающему материалу, скрепляющему кирпичи здания. Кубики детского конструктора рассыпаются, потому что их ничто не скрепляет; так и в конструкциях из слов, приставляемых одно к другому, отсутствует связность. Так неуклюже манипулирует мертвыми словами иностранец, едва освоивший грамоту незнакомого языка: кубики уже под рукой, их можно переставлять и так и эдак, беда лишь в том, что нет связующего материала, без которого все эти конструкции рассыплются от малейшего дуновения.
Но ведь на деле мы отправляемся не от готовых слов. Желая сказать что-то, мы вовсе не перебираем словарный состав языка и не конструируем из отобранных слов фразы. Возникновение фразы никак не связано ни с синтезом, ни с анализом, ни с конструированием. (Собственно, подсказка нашего языка, когда мы говорим: «Я строю фразу», — ложна.) Эти операции, проводимые с готовыми смысловыми единицами, не могут ничего объяснить здесь, где мы имеем дело с рождением осмысленности, а не с изменением уже-ставших и застывших значений. Ни индуктивно, ни дедуктивно, ни конструктивно мы не выстраиваем свою речь. В основе всех этих операций, каждая из которых предполагает связность, опирается на нее и невозможна без нее, но которую никакая из них не может объяснить, —
45
в основе всех этих операций лежит то, что составляет исток осмысленности, место ее рождения. Этот исток — безразличная различенность. Полагание безразличной различенности и есть полагание связности.
Безразличная различенность, которую мы увидели как двуединое условие нашего сознания, как целостность, — это не что-то. Фраза, рождающаяся как будто спонтанно, рождается не из чего-то — она рождается благодаря нашему усилию полагания связности, полагания безразличной различенности. В этом узловом моменте условия сознания рождают его содержание. Фраза рождается из связности, и только потом застывает, обретая плоть слов. Вот так мы идем не от конца к началу, а, напротив, начинаем с начала.
Местоимение и текучесть
Почему порой бывает так трудно выразить словами то, что мы воспринимаем чувствами? Мы открываем глаза — и видим красный шар солнца у линии горизонта. Такое чувственное восприятие лучше всего будет выражено глаголом; например, мы скажем: «Краснеется» (как говорим: «Вечереет», «Холодает», «Смеркается», выражая чистое чувственное восприятие); или: «Там краснеется». Мы употребим глагол, который лучше всего отражает чистую текучесть мира. Это уже — не чистая, никак не оформленная содержательность, не палитра художника; тут некий выбор уже сделан, пятно краски уже брошено на холст; мы уже отошли на полшага от полотна, и бессмысленные пятна начали обретать свои очертания. Пока смутно; субъектность только угадывается, она еще не проступила отчетливо. «Краснеется» — немного искусственный глагол, но тем не менее понятный; и если бы мы действительно поставили себе задачу выразить чувственное восприятие садящегося и раскрасневшегося солнца максимально абстрактно, так, как если бы на полмига открыли глаза, до того ничего не видя, и тут же зафиксировали свое впечатление, — мы сказали бы именно: «Там краснеется».
«Краснеется» предполагает субъектность, но она еще скрыта в этом глаголе (немного детском, надо признать; но детская речь бывает порой удивительно близка к истоку смыслообразования, потому что дети еще не выучены правилам, для них речь еще слишком естественна, они думают, что ее можно строить как угодно, лишь бы она наилучшим образом отражала то, что они чувствуют). Конечно, это «оно»: «оно краснеется»; такая скрытая субъектность легко восстанавливается.
Однако «оно краснеется» уже совсем не столь нейтрально, не столь наивно, как просто «краснеется». «Краснеется» — это чистый мазок краски; уже не палитра, но еще не картина; полшага от полотна импрессиониста: очертания начинают угадываться, но еще не сложились. А вот «оно краснеется» — совсем другое дело: тут явна субъектность; глагол, чистое действие, чистая текучесть выделили из себя местоимение: то, что было скрытым в чистом глаголе («краснеется»), стало явным, обнаружило себя. Местоимение, которое потом станет именем (путь к этому —
46
неблизкий, и было бы крайне интересно проследить его во всех деталях, однако здесь этим невозможно заняться; выше было сказано о том, как он выстраивается); но здесь оно уже представлено нам. А раз так, мы можем спросить: «Что “оно”; чем является то, что “краснеется”?» Мы можем уточнить субъектность, которая обнаружила себя в этом чистом действии, в чистой текучести.
Смыслополагание
Смыслополагание — это всегда активность, деятельность, поскольку это — непрестанное разворачивание целостности в виде субъект-предикатных комплексов. Мы не можем осмысливать мир иначе, нежели фиксируя в нем вещи и придавая им те или иные характеристики. Вещь и ее характеристики, т. е. некое состояние дел в мире, — это то, что мы всегда видим в мире, это то, из чего состоит мир. Этому соответствует — в области языка — фраза, развернутая как субъект-предикатный комплекс.
Под «субъект-предикатным комплексом» будем понимать минимальную целостную структуру «субъект-связка-предикат». Слово «связка» указывает на сам факт связанности субъекта и предиката, т. е. такого их состояния, когда они как будто и не одно (ведь очевидно, что субъект и предикат не образуют никакого арифметического единства), но и не просто два (субъект-предикатный комплекс — это не два слова, поставленные рядом). Их связанность — нечто большее, нежели просто эксплицитная связка вроде связки «есть», естественно употребляющейся или искусственно восстанавливаемой. Смыслополагание может быть ближайшим образом определено как полагание субъект-предикатных комплексов.
Показать логику смыслополагания — значит показать, как разворачивается чистая целостность; как Я и полотно чистых красок обретают определенность (входят в границы), давая субъект-предикатные комплексы. Грубый набросок этого пути разбивает его на две стадии. Первая — это стадия чистой текучести; в нашей речи она получает отражение как глагольная фраза, в которой субъект едва намечен (если намечен вовсе): «Смеркается», «Вечереет», «[Что-то] зеленеет» и т. п. Вторая — стадия полагания вещи; в нашей речи она получает отражение как именная фраза, в которой и субъект, и предикат выражены именем: «Сумерки непроглядны», «Вечер был теплым», «Лист зелен» и т. п. Между этими двумя стадиями нет непроходимой границы; скорее наоборот, они лишь выделены из целого ряда последовательных «шагов», «ступеней» смыслополагания.
Смыслополагание — это формирование субъект-предикатного комплекса. Это — процесс, в котором мы можем различать как минимум две стороны — полагание субъекта и полагание предиката; каждый из этих двух представляет собой не нечто простое, но комплексное, единое и в месте с тем сложносоставное, так что можно без преувеличения говорить о субъектном комплексе и предикатном комплексе. Полагание субъекта (субъектного комплекса) — это процесс постепенной кристаллизации содержания, его постепенного наращивания и стягивания к тому,
47
что сперва представляет собой лишь проекцию чистой субъектности (нашего чистого Я) и выступает в виде местоимения («оно», «что-то», т. п.), а затем загустевает содержанием и превращается в полноценную «вещь».
Часто думают, что видеть «вещь» в мире — акт тривиальный, даже такой, который в каком-то смысле конститурует сознание (сознание интенционально, без направленности на вещи не может быть сознания); да к тому же «вещи» полагают именно как субстанциальные, как если бы субстанциальность вещей была столь же самоочевидной, как и их данность.
(В самом полагании «вещи в себе» как недостижимой для познания, но именно имеющейся «там», ясно проглядывает эта императивность и как будто заданность субстанциально понятых вещей. Даже отказ от «вещей» в пользу «фактов», «состояний дел» ничего принципиально не меняет: «факт» остается лишь системой субстанциально понятых вещей1. Можно отвернуться от мира вещей, то есть от мира субстанций, — это «то есть» очевидно в контексте западной мысли, — для того, чтобы работать с миром собственных переживаний человека, противопоставляя его мертвому миру вещей, или даже с собственной телесностью; или же для того, чтобы говорить о процессе как о том, что противоположно субстанциально понятым вещам и что являет некую «энергию» движения, которую невозможно разглядеть в субстанции, — но в любом случае здесь разговор идет не о вещи, а о чем-то, что вещью не является и не может быть ею. Просто потому, что везде здесь место «вещи» занято «субстанциально понятой вещью».)
Однако вещь, а тем более вещь, взятая субстанциально, — это не исходный шаг смыслополагания. Путь к вещи, во-первых, — это творческий путь (путь активности, деятельности, полагания, результат которых не предсказан заранее, а формируется усилием смыслополагания), а во-вторых, путь, не заданный однозначно, путь с неединственной станцией назначения. Вещи могут полагаться по-разному, то есть — не только субстанциально. Вещи могут полагаться и процессуально. О том, что это значит (то есть — что значит полагать вещь субстанциально либо полагать ее процессуально) и что такое «процессуально-понятая вещь», нам и предстоит поговорить.
Закон исключенного третьего в его позитивной формулировке упомянут здесь так, как если бы он был сам собою разумеющимся (как если бы само собой разумелось, что «пятно в поле зрения», то, что краснеется — это непременно предикат субстанции или субстанциально понятого субъекта) и не требовал принятия целой системы предпосылок, прежде всего — положения о субстанциальном характере вещи, как если бы такое принятие было необходимым, а не альтернативным, допускающим иное полагание вещи. Вещи как процесса, что требует перестройки всего субъект-предикатного комплекса.
48
Что значит «полагать вещь»? Полагание вещи — это полагание субъект-предикатного комплекса. В каком-то смысле вся деятельность нашего сознания может быть понята как полагание субъект-предикатного комплекса. Это — многосоставный и многоаспектный процесс; это значит, что он проходит ряд последовательных шагов, и каждый из них конституирован «событиями», которые и наращивают содержание субъект-предикатного комплекса, и задают и развивают его логику. Здесь мы сможем наметить только самые общие контуры этого процесса. Узнать, как совершается смыслополагание, а значит, узнать, как работает сознание.
Чистая текучесть, столь удачно выражаемая глаголом, который легко составляет целую фразу («Вечереет»), чревата субъектностью, которая угадывается не в таком глаголе-фразе (нельзя сказать, что «вечереет» — это просто бессмысленно), но в очень близких глаголах-фразах, которые не обходятся без местоимения. «Что-то виднеется»: здесь не обойтись без «что-то» или «оно» («оно виднеется»), хотя мы не знаем, что именно «виднеется» и виднеется ли что-то (или это просто обман зрения). В этом смысле субъект тут лишь намечен, но робко и намеком, так, что это предположение-намек легко взять назад, сказав: «Ничего не виднеется». Косвенный падеж слова «ничего» (а не именительный «ничто») как будто уничтожает любую субъектность, служит ее абсолютный отрицанием. Сказав: «Ничто не виднеется», мы бы все же парадоксальным образом полагали «ничто» субъектом такого высказывания, в котором его субъектность отрицалась бы, так что полагание субъекта стало бы условием его отрицания. Употребив косвенный падеж, мы избавляем себя от этой парадоксальности, мы изначально отрицаем субъектность. Эта возможность взять назад предложенную субъектность («что-то виднеется»), дав ее абсолютное отрицание («ничего не виднеется»), показывает, сколь хрупка субъектность, едва намеченная, едва показавшаяся над поверхностью текучести глагольной фразы и готовая нырнуть назад, растворившись в ней вновь без остатка.
Субъектность должна набрать силу, окрепнуть, чтобы ее нельзя было так легко уничтожить; чтобы субъект-предикатный комплекс появился и пошел в рост. Субъектность должна оказаться не «чем-то»; не неопределенное «оно», фиксирующее лишь сам факт субъектности, но не говорящее более ничего, нужно для этого. В вопросе о местоимениях много путаницы; величайшей из них является смешение Я и «я» — абсолютного Я, которое не может быть субъектом в субъект-предикатном комплексе, и «маленького» «я», которое выступает таким субъектом в неисчислимом разнообразии предикатных конструкций. Это субъектное «я» на деле мало чем отличается от любого другого местоимения, как и от любого другого «полноценного» субъекта, выраженного именем, — разве что своей близостью к абсолютному Я, отсветом и бликом которого оно служит. Считать, что «я» — это Я, значит превращать свою абсолютную точечность, не приемлющую никакого раскрытия, в множественность конкретных содержательных интерпретаций. Абсолютное Я служит приведению к единству всех субъектных «я» — но оно никогда не равно им, как и они не равны между собой. (Ведь «я» сегодня — тот же, что «я» вчера, но эти два «я» ни в коем случае не равны; точно так же «я» как наставник
49
и «я» как ученик, «я» как сын и «я» как отец, сосуществующие во мне, — то же самое, но никак не равное между собой.) Такое смешение стало чуть ли не общим местом в философии; между тем совершенно ясно, что Я как условие сознания никак не может быть равно «я», формирующему его содержание, поскольку стать субъектом в субъект-предикатном комплексе — совсем не то же самое, что никогда им не быть. Как соотносится Я и «я», равно как Я и другие типы субъектности, выраженные как местоимением, так и именем, — это один из самых существенных вопросов в описании смыслополагания, в определенном смысле — один из ключевых (а потому пройти мимо него, просто не заметив разницы между Я и «я» и отождествив их, значит проявить легкомыслие). Это — отдельная тема, и мы не будем сейчас на ней останавливаться; здесь важно лишь подчеркнуть отсутствие той субстанциальной границы, которая бы разделяла Я и «я», Я и «ты», Я и «он(о)», равно как Я и прочие, «ставшие» и окрепшие в своей застывшей содержательности субъекты в субъект-предикатных комплексах. Все, что мы называем субъектом, — все это служит отблеском Я. Интересно, что «тема местоимений» не так давно была воспринята западной философией под воздействием прежде всего еврейской традиции, где она — равно как и в арабо-мусульманской мысли — достаточно активно обсуждалась на протяжении многих веков, в том числе в классический период (совпадающий с европейским средневековьем): в этих двух традициях, построенных на интересе к действователю, а не к субстанциальности, «тема местоимений» органична, поскольку позволяет обсудить центральные, в каком-то смысле парадигмально-заданные вопросы (проблема гармонизации человеческой и божественной воль для еврейской традиции, проблема единства действователя — для арабо-мусульманской). Здесь, в своей органичной среде, «тема местоимений» отражает прежде всего возможность задать отношения взаимодействия между разными действователями, равно как и обсудить саму возможность такой постановки вопроса. В мыслительной среде европейской традиции эта тема неизбежно субстанциализируется — не в силу некоего осознанного желания видеть в местоимении что-то субстанциальное (такого желания, напротив, нет), а в силу самой логики, которой следует эта традиция и которая исходно задана для субстанциально-понятых вещей. «Тема местоимений» приобретает здесь изначально несвойственный ей субстанциальный оттенок: вопрос о неизбежных субстанциальных границах (иначе субъект не может быть конституирован) сталкивается в данном случае с вопросом об их размывании, о необходимости их преодоления, которая вытекает из самой сути любого местоимения как всегда-сопоставленного с моим «я» — и дает в изобилии рассуждения о трагической отделенности «я», его заброшенности, пустынности, неспособности преодолеть отделенность от Другого. «Другой», вместо того чтобы изначально, по определению быть действователем, связанным с «я», приобретает черты субстанциальной отделенности и загадочности, отделяясь перегородкой, которую теперь надо преодолевать. Эти интересные метаморфозы вызваны не чем иным, как сменой логико-смысловой перспективы, при прочих равных условиях. Вот это важно: содержательность (в данном случае — содержательность
50
постановки проблем в рамках «темы местоимений») определена отнюдь не только проблемой самой по себе, как обычно думают (квинтэссенция этого взгляда — известная философская вера в «анализ понятий», вскрывающий суть вещей), но также (а может быть, и прежде всего) — логико-смысловым основанием, или перспективой, в которой эти построения разворачиваются. Логико-смысловую перспективу можно понимать как определенную (модусную, вариативную) заданность процесса формирования субъект-предикатного комплекса. Обратим внимание на выделенные слова («при прочих равных условиях»): проблематика изменяется кардинально без какого-либо изменения содержательности, поскольку («прочие равные условия») мы меняем только логико-смысловую перспективу. Мы увидим более подробно, как это происходит, когда будем разбирать задачу на предикацию.
Местоимение имеет нулевую содержательность. Мы не можем сказать, что такое «оно», которое «виднеется» где-то там; мы, собственно, не уверены даже, что «оно» действительно имеется, а не представляет собой плод нашей фантазии. Прежде чем сказать хоть что-то об этом «оно», нам приходится это «оно» задать, то есть задать именно как бессодержательное: не зная, что оно такое, не зная даже, имеется ли оно на самом деле, мы вынуждены, чтобы начать это обсуждать, вбросить в поле нашего разговора это бессодержательное, пустое «оно». Содержательность схвачена именем; местоимение потому и названо так, что оно занимает место имени, именем не являясь. Здесь подсказка нашей грамматической терминологии верна: местоимение и имя различаются как схваченность содержательности и ее отсутствие. Чтобы сказать, что такое это самое «оно», мы непременно должны поместить его в субъект-предикатную конструкцию; например, «оно красное». В отличие от этого, имя как будто и не нуждается ни в чем подобном: «яблоко» уже «красное» (или «зеленое», и вообще «не-красное»; а также — «спелое»; «круглое»; «вкусное»; «маленькое» и т. д.) — только потому, что оно — «яблоко». Однако движение смыслополагания начинается не с имени, а с местоимения (здесь подсказка языка, отводящая местоимению роль второго плана, неверна): местоимение — отблеск Я, реализация этого условия сознания, требующего субъектности (сознание всегда интенционально).
Местоимение требует того, чтобы быть помещенным в контекст субъект-предикатного комплекса: без этого оно как будто не удерживается в нашей речи. «Оно»; что «оно»? Мы не можем сказать просто «оно», — это лишь слово из словаря, но не речь. Иное дело «Вечереет», — конечно, это слово из словаря; но это и речь. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» — тоже речь. Однако «оно» непременно требует предиката, чтобы стать речью. Но дело не только в речи; речь позволяет нам увидеть, что происходит в области содержания нашего сознания (хотя она тоже — такое содержание), поскольку отражает те же законы смыслополагания. Мы не можем встретить некое «оно»; мы не можем увидеть «его» или «ее». Мы всегда воспринимаем человека, животное, предмет, событие, — но не «его» или «ее». «Он», «она», «оно» — лишь отблески Я, у них нет никакой другой реальности. То же относится и к «тебе»: «ты» лишь потому «ты» (а не «человек», «Бог»,
51
«моя любимая собака» или «мой отчий дом»), что на всем том, к чему я обращаюсь на «ты», лежит отблеск Я. Я никогда не вижу «тебя»: я вижу человека (Бога, свой дом или свою собаку), на которых лег отблеск моего абсолютного Я. Более того, то же относится и к «я». Сказав: «я — автор», я лишь увидел и установил отблеск, блик моего Я на том, кого назвал «я». (В самом деле, у меня нет никакого другого основания отождествлять между собой и с самим собой ту бесконечную вереницу имен, обозначающих, диахронически и синхронически, столь разных людей, порой не обнаруживающих между собой никакого сходства или обнаруживающих его в несравненно меньшей степени, нежели сходство любого из них с кем-нибудь другим, — людей, которыми «я» являюсь на протяжении «своей» жизни.)
Давайте уточним: «я не вижу тебя» не в том смысле, что не вижу человека, который передо мной и к которому я обращаюсь на «ты»; не в том, конечно, смысле, что этот человек существует только потому, что является тенью моего Я. Наоборот: нельзя сомневаться, что я вижу человека, к которому обращаюсь на «ты»; но все дело в том, что «ты» никогда не дано мне в чувственных ощущениях. Человек — дан: я вижу его облик, слышу его голос, ощущаю тепло руки и т. д. Но где здесь место «ты»? Его, конечно, нет; «ты» непостижимо чувствами, хотя безусловно дано нам; не менее безусловно, чем постигаемый чувствами человек, а в определенном смысле и более однозначно: человек меняется на протяжении жизни, но «ты», которое мы говорим матери, жене или детям, остается тем же. Более того, «ты» никогда не сводимо к чувственно постигаемой человеческой оболочке или ее душевно-духовной начинке, в нем всегда не только что-то большее, но — что-то иное, нежели телесные и духовные проявления человека.
Что верно для «ты», верно для любого местоимения, в том числе для «я». Случай с «я» — особый, ведь отождествить «ты» (или «он», т. д.) с Я вряд ли возможно, тогда как увидеть несомненную близость между «я» и Я не только возможно, но и необходимо, а значит, и поставить вопрос об их тождестве. Мы прекрасно знаем уже, что они не могут быть отождествлены; но они не могут быть и объявлены чем-то различным. Между абсолютностью (невозможностью служить субъектом субъект-предикатного комплекса) и феноменальностью (способностью играть роль субъекта в субъект-предикатном комплексе) здесь — отношение, которое можно было бы обозначить добрым старым термином «неиное»: «я» и Я не тождественны, но они и не инаковы в отношении друг друга. «Ты» отстоит от Я, конечно же, на большее расстояние, оно сильнее удалено от него — и тем не менее для него верно то же, что верно для «я»: «ты» не может быть понято иначе, нежели как неиное для Я. Любое местоимение, любая чистая субъектность (еще не обросшая содержательностью) может быть понята только как отблеск Я. Я выступает в качестве условия сознания потому, что оно выступает как условие любой субъектности.
Это значит, что любая субъектность начинается с Я, поскольку Я составляет начало субъектности, без которого она невозможна. Чистое эфемерное «оно», которое мы фиксируем и в нашей речи («что-то (= оно) виднеется»), и в нашем
52
чувственном восприятии (мы думаем, что видим что-то, но не знаем, что именно: чувство схватывает некое «оно», точнее, то, что мы не можем облечь в плоть красок, но чему уже можем присвоить субъектность), служит первым шагом кристаллизации субъектности. Уже на этом шаге мы видим, что субъектность не дана чувствам; то, что называют чувственным восприятием, — это организация красок (взятых с «полотна импрессиониста» — той абсолютной содержательности, которая также составляет условие сознания), как будто их кристаллизация вокруг некоего стержня, или некой точки (хорошо подошло бы понятие аттрактора, если бы не было уже задействовано в совсем другой области). И то и другое, и задание стержня — субъектности, и сгущение красок и их застывание как чего-то осмысленного (а не просто бессмысленное абсолютное их полотно), — полагания, которые совершаются до того, как мы можем сказать, что обладаем каким-то (очень-очень неопределенным: «что-то виднеется») чувственным восприятием. «До», конечно, в логическом смысле, не во временном.
Глагол дает нам всего одну краску. «Оно виднеется»: мы можем сказать об этом «оно» пока что только то, что оно — виднеющееся, доступное зрению. Мы можем, далее, заметить, что оно «краснеет»: еще один глагол добавляет еще одну краску. Мы можем продолжать так очень долго: «оно висит на ветке», «оно прячется в листве» и т. п. Мы можем привязать много, очень много красок к «оно». Однако все эти краски остаются разрозненными, они не собираются во что-то одно. Верно, что все они привязаны к «оно»; но так же верно, что они не привязаны друг к другу. Старая добрая проблема общего чувства: мы можем сказать, что «оно источает приятный запах», что «оно обладает гладкой поверхностью» и т. д.; но откуда мы знаем, относятся ли все эти действия к одному и тому же субъекту или нет? «Оно», которое «виднеется», — это то же самое «оно», которое «гладко на ощупь», или нет?
Отвечая на этот вопрос, мы не можем ссылаться на чувство: «оно» не дано чувственному восприятию (хотя выстраивает его, поскольку без «оно» краски не могли бы никак собраться во что-то осмысленное). «Оно» — отблеск Я, «оно» обеспечено одним из двух условий сознания, тогда как множественность предикатов (множественность красок) — другим его условием. Заданный вопрос останется без ответа, пока мы не сделаем еще один шаг смыслополагания.
Более того, сама возможность задать его обусловлена именно тем, следующим шагом, поскольку ставить вопрос о единстве «оно», о его тождестве можно, только обладая этими понятиями; но они никак не вытекают ни из Я, ни из абсолютного полотна красок. Здесь нет ни единства, ни множественности, ни отдельного, ни целого, ни отрицания.
Целостность, наша внутренняя, столь же не редуцируемая ни к чему способность, сколь не редуцируемы Я и абсолютное полотно красок. Точнее, наша способность полагать целостность.
Способность полагать целостность — это способность поместить содержательность, которую любой глагол приносит и привязывает к «оно», в структуру противоположения-и-объединения. При этом утрачивается форма глагола, и на его
53
месте мы находим имя. Это — интересный и крайне существенный факт: глагольная текучесть действия уступает место фиксированности, схваченности именем. Глагол как будто разменивает свою текучесть на связность целостности. Помещенное в целостность противоположения-и-объединения, имя говорит больше, нежели говорит прямо: помимо своей прямой содержательности, унаследованной от глагола, оно сообщает нам связность. Именно здесь — исток логики (ниже скажем об этом).
«Оно краснеет»: в этой фразе «оно» — пусто, бессодержательно; вся содержательность заключена в «краснеет». «Краснеет» может превратиться в имя двояким образом. «Оно краснеет» может означать «оно — красное», а может означать «оно — краснение». Будем помнить, что «оно» — это еще не вещь, это не какой-то предмет; «оно» — это то, на что направлено наше внимание, это — намек на субъектность, которой еще предстоит стать вещью. Мы видим «краснение»; или же мы видим «красное». И то и другое возможно; более того, они равновозможны. В этой точке выбора, на этой развилке нет ничего, что пред-определило бы наше дальнейшее движение. «Оно краснеет» → «оно — красное» и «оно краснеет» → «оно — краснение»: эти преобразования равновозможны. (Мы можем выразить их краткой формулой «Глагол → Имя1» и «Глагол → Имя2», или «Глагол → ИмяС» и «Глагол → ИмяП», или, еще короче, «Г → ИС» и «Г → ИП», где индексы «с» и «п» означают субстанциальную и процессуальную ориентированность имен.1)
Однако эта точка — точка именно развилки: мы вынуждены сделать выбор. До сих пор у нас была как будто одна-единственная дорога: мы говорили о смыслополагании в универсальном ключе, или, что то же самое, в ключе единственно-возможного развития событий. Однако, начиная с этой точки, мы вынуждены выбрать один из двух путей; мы не можем следовать по обоим одновременно. Все дальнейшие результаты смыслополагания будут лежать либо на одной, либо на другой линии: разговор об универсальности уступает место разговору о вариативности.
«То, что» мы видим, оказывается либо «красным», либо «краснением». Так «оно» становится именем: мы полагаем именную природу субъекта. «Оно — красное» отождествляет субъект с «красным». Точно так же «оно — краснение» отождествляет субъект с «краснением». «Красное» — это то, что мы называем субстанцией: «что-то красное», где в «что-то» мыслится устойчивость, т. е. способность служить точкой сбора разных предикатов. «Краснение чего-то» — это процесс, не действие. «Краснеет» — в самом деле действие, которое совершается во времени, может быть начатым, продолженным или законченным. Однако «краснение» — вне времени. Мы не знаем, когда оно началось, продолжается или уже закончилось. Точнее, «краснение» таково, что оно выше всех этих временных модусов. Процесс
54
выносит нас за пределы времени, в область ставшего, — так же (достигая тех же результатов), как это делает субстанция, но иначе (иным образом).
Нет сомнения в том, что в обоих случаях речь идет об одном и том же (преобразования «Г → ИС» и «Г → ИП» имеют одну и ту же исходную точку). «Оно краснеет» совершенно одинаково, независимо от того, видим ли мы «что-то красное» или «краснение чего-то». Даже не одинаково, потому что «одинаково» наводит на мысль о возможности какого-то различия и отождествления, здесь же речь не об одинаковом, а об одном и том же. И тем не менее развилка неизбежна, мы обязаны выбрать один из путей (как увидим — одну из логик). Это раздвоение — неизбежное следствие той вариативности, которая заложена в механизмах смыслополагания. Этого раздвоения нельзя избежать; о нем надо знать и уметь видеть возможную вариативность смыслополагания, различая содержательность, «данную» нам, и содержательность, которая определена этой вариативностью.
Что означает неизбежность такого раздвоения при несомненной тожести ситуации — вопрос особый, который невозможно обсуждать здесь. Сейчас я хочу подчеркнуть и ясно обозначить следующее: любые именные субъект-предикатные конструкции всегда и неизбежно вариативны. Это очевидно и непреложно истинно, как любая математическая истина; даже более очевидно, чем любая строчка в таблице умножения. Думаю, нет такого глагола, который не мог бы быть преобразован одним из двух типов преобразований, что обозначены выше, давая качество субстанции или процесс, запущенный действователем. Мы можем поэкспериментировать: даже если соответствующих форм нет в составе нашего языка или они не употребляются, мы легко помыслим эти значения, а значит, и образуем необходимые языковые формы. Это значит, что во временнóм протекании нет такого действия (а всё протекание — действия), которое не могло бы быть схвачено (остановлено и зафиксировано) одним из этих двух способов, субстанциально-ориентированным или процессуально-ориентированным. Каждый из них требует своей логики: логико-смысловая вариативность неизбежна, поскольку неизбежна вариативность субстанциального и процессуального вариантов смыслополагания.
Европейская теоретическая мысль воспитана со времен греков в русле субстанциальности. Но это не значит, что процессуальность каким-то образом принципиально закрыта от нее или непостижима для нее. Из того, что сказано, должно быть совершенно ясно обратное: мы всегда можем вернуться к развилке, к точке, где путь смыслополагания раздваивается, и, сделав усилие и научившись видеть вещи процессуально, продолжить это усилие и научиться применять соответствующую логику, т. е. мыслить процессуально. Первое (видеть вещи процессуально) совсем нетрудно; второе труднее, т. к. привычка к субстанциальной логике и к построению теоретических конструкций согласно этой логике воспитана в нас культурой; это — культурная, вовсе не врожденная привычка. Культура, взятая как способ смыслополагания, выстраивает себя вдоль одного из двух возможных путей, субстанциально-ориентированного и процессуально-ориентированного. Есть много, неисчислимо много других культурных различий, но они не меняют и не отменяют
55
главного — этой точки раздвоения — и выстраивают себя уже на одном из выбранных на этой развилке путей, используя соответствующую логику. Когда мы говорим об «увядании» или «расцветании», мы говорим о процессах; во всяком случае, в нашей речи отображаются эти первичные полагания вещей как процессов.
Я утверждаю, что видеть вещи процессуально совсем несложно; более того, мы чуть ли не все время именно так их и видим. Например, если «хождение доллара» запрещено в экономике, то это значит, что мы говорим о процессе, не о субстанции. Молочко, предназначенное для «питания детей», также вводит в поле нашего внимания процесс.
Я подчеркну, что понимаю под процессом именно то, что было определено выше: вынесенность за пределы времени. Это не то, что обычно именуют процессом в европейской мысли, подразумевая под ним временнóе изменение субстанций. Такой процесс возможен в уже заданной субстанциальной перспективе, он характеризует субстанции. Процесс, о котором говорю я, задает перспективу мышления (я называю ее процессуально-ориентированной), а не разрабатывает уже заданную. Различие должно быть достаточно ясным из того, что было сказано выше: процесс, о котором идет речь, — это одно из двух возможных истолкований действия (т. е. преобразование «Г → ИП», а не «Г → ИС»), которые в нашей речи отображаются как преобразования глагольной фразы в именную. Конечно, процесс, вынесенный за пределы времени, — это идеализация; но идеализация ровно такая, какой является категория субстанции.
Заметим (хотя эта тема нуждается в более подробной разработке), что должны быть выделены разные типы процессов. Среди них есть такие, которые видны глазу и воспринимаются чувствами (краснение, движение, покачивание, пение, кряхтение, шуршание и т. д.). Есть такие, которые как будто не воспринимаются «напрямую», но могут быть разложены на чувственно воспринимаемые составляющие (хождение, писание и т. д. — их можно разложить на воспринимаемые чувствами движения тела или руки, назвав отдельные движения особыми именами). Есть, наконец, такие, которые вовсе лишены связи с чувством (например, познавание, мышление). Однако все они — процессы, т. е. осмысляются по одной и той же логике. (Точно так же субстанции могут быть материальными, чувственно воспринимаемыми индивидуальными вещами, а могут быть иными, нематериальными, какова, к примеру, душа.)
Примеров таких полаганий в самом деле нетрудно привести в избытке. Что гораздо сложнее, так это мыслить процессуально. Ведь полаганием вещи-процесса дело вовсе не заканчивается; собственно, оно с этого только начинается. Вернемся к нашему примеру; думаю, читатель давно догадался, что «краснеет», «прячется в листве», «источает приятный запах» спелое яблоко, которое мы разглядели на ветке яблони. Итак, мы заметили «краснение яблока», мы увидели вещь-процесс; что дальше? Наверное, большинство, если не все, скажут, что, хотя «краснение яблока» и можно увидеть (или постараться увидеть), это значит всего лишь, что «яблоко — красное». Это крайне интересный и важный момент; именно тут происходит перевод рассуждения из процессуального русла в субстанциальное. «Яблоко» остается тем же яблоком, висящим на ветке (если, конечно, мы верим в объективность того, что
56
называют внешним миром); но весь вопрос в том, в какую из двух формул — «что-то красное» или «краснение чего-то» — оно будет поставлено вместо «что-то». В ходе чувственного восприятия мы можем более или менее естественно увидеть «краснение» как процесс. Но как только мы принимаемся рассуждать, т. е. теоретизировать, задумываясь над тем, «что это значит» и «что из этого следует», так выясняется, что мы переключаемся на субстанциально-ориентированное рассуждение, считая «яблоко» не действователем, которое запустило процесс «краснение» и отвечает за него, а субстанцией, обладающей признаком (или качеством) «красноты». Вот тут вступает в дело витгенштейновский афоризм (ЛФТ 2.0131; см. примеч. 1 на с. 47): оказывается, что воспринимать действие «краснеть» — значит полагать, что «пятно в поле зрения» имеет красный цвет (или любой другой, но непременно «цвет»). Это и значит поместить ту содержательность, которая принесена глаголом («краснеть»), в определенным образом модифицированную целостность, т. е. структуру противоположения-и-объединения, предварительно произведя преобразование «краснеет» → «что-то красное» (преобразование «Г → ИС»). Вот тогда, и только тогда, действительно необходимо, чтобы «пятно в поле зрения» имело непременно какой-то цвет, либо красный, либо не-красный: «цвет» будет объединять подчиненные ему области «красное» и «не-красное», которые противоположны и вместе исчерпывающим образом покрывают исходную область «цвет». Только тогда закон исключенного третьего в его положительной формулировке (А есть непременно либо Б, либо не-Б) будет действительно верен. Витгенштейну представляется, что может быть так и только так (это легко увидеть из контекста данного афоризма, да и из всего текста «Логико-философского трактата»); это значит, что он думает, будто субстанциально-ориентированная перспектива рассуждения — единственно возможная и что преобразование «Г → ИС» безальтернативно. Что это не так, уже было сказано: альтернативное преобразование «Г → ИП» по меньшей мере теоретически возможно (ирония в том, что, согласно известному постулату Витгенштейна, это мыслимое должно быть взято как возможно-сущее, что уже опровергает молчаливо полагаемую им безальтернативность преобразования «Г → ИС»). Что оно не только возможно, как всякий может убедиться на собственном опыте, но и обозначает путь смыслополагания, который в действительности был осуществлен в историческом опыте арабо-мусульманской культуры, — это положение я выдвигал не раз и не раз иллюстрировал примерами (и не только я), и другие разделы книги, посвященные разным аспектам арабо-мусульманской культуры, в той или иной мере затрагивают эту проблематику1. Здесь же необходимо подчеркнуть два момента.
Первое. Традиционная философская вера по меньшей мере со времен Аристотеля заключается в том, что одна и та же ситуация в мире может быть истинно описана только одним способом, и если для ее описания подходят известные три
57
закона, фактически сформулированные Аристотелем, значит, так и только так она должна быть описана, а любое другое описание будет неистинным (и ему должно быть найдено место среди не дающих истину способов рассуждения, таких как софистический, риторический, поэтический и т. д.). Эта вера должна быть оставлена, поскольку она покоится на некритическом принятии преобразования «Г → ИС» как единственно возможного, очевидного и безальтернативного (интересно, что Витгенштейн делит эту веру с Аристотелем и всей европейской традицией). Преобразование «Г → ИП» равновозможно, альтернативно и не менее истинно: оно задает целиком другую перспективу осмысления, где иная онтология и иные законы логики, не менее непреложные, нежели известные аристотелевские. Подчеркну во избежание недоразумения: одна и та же ситуация («яблоко краснеет на ветке») может быть описана двумя альтернативными и равно-истинными способами; здесь совсем не то, что подразумевается под множественностью логик в современной математической логике, для которой нет этого исходного единственного, безальтернативного пункта отправления (одна и та же ситуация) с возможностью альтернативных логико-смысловых перспектив.
Второе. «Пятно в поле зрения», конечно, — это не субстанция или не обязательно субстанция в «настоящем», онтологически-ответственном смысле слова. Пятном в поле зрения может быть игра света на волнах моря или листве осеннего леса; или же и вовсе некий мираж или моя иллюзия. Конечно, это может быть и подлинная субстанция («первая субстанция» Аристотеля) — но не обязательно, вот что я хочу подчеркнуть. Устройство предикации и субъект-предикатного комплекса в целом совершенно не зависит от «подлинности» или «неподлинности» субстанциальной природы того, что полагается как субъект. Говорим ли мы о «яблоке» или говорим о «любви», «знании» и «могуществе», мы можем говорить о всех них с равным успехом так, как если бы они были настоящими субстанциями, поскольку все они (равно как любой предмет вообще, который, как мы полагаем, обозначен именем) могут играть роль субъекта. Еще одна вековая философская вера заключается в том, что подлинность мира открывается благодаря исследованию того, чтó есть вещь, и что онтология, следовательно, главная дисциплина, дающая базовое знание о мире. Если эта вера и поколеблена кантовской критикой, то все же не настолько основательно, чтобы в самом деле явить свою иллюзорность. Между тем что мы можем надеяться узнать, — мы, заключенные в оковы непреложных законов формирования осмысленности, преступить которые мы столь же вольны, сколь вольны нарушить закон сохранения энергии? Вся наша надежда — узнать эти законы, понять, что именно и как именно определено ими в нашем знании, и не принимать за характеристику «реальности» или «внешнего мира» то, что отражает лишь закономерности смыслополагания. Например, не думать, что это мир устроен так (пусть даже с кантовской поправкой: априорные формы чувственного опыта устроены так), что при известных условиях закон противоречия или закон исключенного третьего отражают само устройство этого мира и потому истинны. Ведь не меньше, чем преобразование «Г → ИС», возможно преобразование «Г → ИП», которое
58
задаст другую логико-смысловую перспективу и, соответственно, другие, не менее базовые, очевидные и истинные законы, так что то, что мы принимаем обычно за законы мира, оказывается закономерностями смыслополагания.
Замечу в скобках (поскольку это отдельная и серьезная тема), что субъект, названный именем, — в данном случае почти что пустой звук, в отличие от имени, которое включено в целостность противоположения-и-объединения. «Пустой звук» в том смысле, что имя субъекта само по себе ничего не сообщает, причем по двум причинам. Во-первых, оно останется тем же самым именем при смене логико-смысловой перспективы, когда его предикат получается и в результате преобразования «Г → ИС», и в результате преобразования «Г → ИП»: «яблоко» останется тем же самым «яблоком», неважно, рассуждаем мы о нем как о субстанции, наделенной качествами, или как о действователе, ответственном за процессы; между тем логика и, следовательно, содержание, вкладываемое в то же самое «яблоко», будет в двух случаях различным, и это различие никакими ухищрениями не может быть извлечено из имени «яблоко», какой бы тонкой техникой категориального анализа мы ни владели: оно может быть получено только в результате исследования законов предикации, определяемых двумя разными логико-смысловыми перспективами. Во-вторых, даже в пределах одной логико-смысловой перспективы содержательность «яблока» целиком определена его предикатами: «яблоко» — это то, что будет непременно «красным» или «не-красным», «спелым» или «не-спелым» и т. д. (каждый из предикатов включен в тот вариант целостности, который определен данной логикой смысла), причем любой из этих предикатов служит результатом преобразования «Г → ИС», т. е. определенной (в данном случае — субстанциально-ориентированной) трактовки соответствующего действия («оно краснеет», «оно поспело» и т. д.). Значит, вся содержательность «яблока» принесена такими глаголами (проистекает от действий), которые «обработаны» определенными процедурами смыслополагания: именно это и должен вскрывать «категориальный анализ», если он желает добраться до сути дела.
Замечу также, что речь у нас идет о чувственном восприятии — о том, что, как традиционно считается, не может не быть одинаковым для всех людей (если не брать в расчет естественные флуктуации работы механизма чувственного восприятия, которые можно уподобить погрешностям одинаковых приборов, замеряющих параметры одной и той же ситуации). Если различия (между людьми или между культурами) и предполагались, то они помещались на более высоких «этажах» — там, где располагается разум с его многоразличными «силами» и «способностями». Оказывается, это не так: уже на ступени чувственного восприятия (такова традиционная терминология; я называю это одним из шагов смыслополагания) происходит выбор: мы обязаны уже здесь следовать одним из двух путей (а вовсе не единственно возможным путем), задаваемых преобразованиями «Г → ИС» и «Г → ИП», которые неизбежно осуществляются, как только мы выходим за пределы текучести (где действительно возможно и необходимо универсальное однообразие восприятия одной и той же ситуации), т. е. за пределы
59
такого видения «мира», для которого нет вещей, есть только отдельные действия, привязанные к неким «оно». Полагание вещей уже по необходимости вариативно, и это — логико-смысловая вариативность, т. е. вариативность, вытекающая не из «сути вещей» или «сути мира», а исключительно из устройства смыслополагания, более конкретно — из возможности вариативной «реализации» целостности, которая (реализация) может быть как субстанциально-ориентированной, так и процессуально-ориентированной.
Итак, что значит мыслить процессуально, а не только полагать вещи процессуально, «сваливаясь» после этого на первом же шаге рассуждения в субстанциально-ориентированную перспективу? Как удержать перспективу процессуального рассмотрения вещей и рассуждения о них?
Ответить на этот вопрос, с одной стороны, несложно. Рассуждать процессуально значит помещать содержательность, «принесенную» глаголом (т. е. содержательность действия), в процессуально-заданный вариант противоположения-и-объединения (процессуальный вариант реализации целостности) и, далее, соотносить с этой базовой, исходной точкой все дальнейшие построения, не отклоняясь от заданного таким образом направления. Это значит, что из «краснения яблока» мы выведем, что «яблоко» — действователь, ответственный за процесс «краснение». Этот первый шаг приведет нас к мысли о том, что действователю необходимо противоположено претерпевающее: так мы получим базовую структуру противоположения-и-объединения, где противоположение представлено противоположностью «действователь-претерпевающее», а объединение — процессом, который снимает их противоположность. «Краснение» — это пример едва ли не самого сложного случая для иллюстрации закономерностей процессуально-ориентированного смыслополагания, поскольку для этого (и ряда ему подобных) процессов непросто подобрать претерпевающее. Я намеренно не только не избегаю этого трудного случая, но, напротив, начинаю с него: моя цель — показать, что закономерности процессуального смыслополагания, которые легко показать на других типах процессов (которых, надо сказать, неизмеримо больше, нежели этих «трудных»), верны и для данного случая (и ему подобных). С одной стороны, это ясно из того, что и в «яблоке» мы можем разделять «краснеющее» (т. е. запускающее процесс краснения), например химические процессы ферментирования, и «краснеемое» (согласимся на такую искусственную форму претерпевающего), например, кожуру. С другой стороны, даже если представить себе еще более трудный случай, когда невозможно таким образом разделить субстрат на действующее и претерпевающее, т. е. когда он строго и, можно сказать, абсолютно один, мы все равно можем различать действующее и претерпевающее, подчиняясь императиву их противоположенности, вытекающему исключительно из процессуальной логики. Так поступает, например, Ибн ‘Арабӣ, разбирая известное высказывание ал-Х̣алла̄джа «Я — тот, кто страстью пылает, и страстно любимый мной — я», в котором как будто очевидно отождествляются действующие и претерпевающий, для большей несомненности такого отождествления даже сливаются в «я», которое уж точно
60
нерасщепимо, — и тем не менее не сливаются, потому что слиться попросту не могут1. Невозможность слияния и отождествления и необходимость двоицы «действующее-претерпевающее», между которыми располагается соединяющий их процесс, — это несомненная, базовая необходимость, которая пересиливает любые «содержательные» аргументы, поскольку это — основа для формирования осмысленности, с утерей которой рассыпается все здание.
Действующее и претерпевающее противоположны, в этом невозможно сомневаться, но природа этого противоположения — совершенно другая, нежели в случае дихотомического членения рода. И точно так же объединение этой противоположности действующего и претерпевающего, достигаемое процессом, имеет совсем иную природу, нежели родовое объединение видов. Отношения единства и множественности, которые часто рассматривают также в ходе некоего «категориального анализа», как если бы содержание этих категорий было абсолютным и могло быть открыто некой виртуозной техникой их анализа (или же открылось бы в откровении некоему пытливому и прозорливому уму, как ему открываются другие «самоочевидные» истины), на деле полностью определено характером противоположения-и-объединения, субстанциально-заданным или процессуально-заданным. (Структуру противоположения-и-объединения, т. е. конкретную реализацию целостности, я называю также логико-смысловой конфигурацией2.) Это значит, что говорить о единстве или множественности «вообще» нельзя: в каждом конкретном случае надо определять, по какому из двух возможных путей, субстанциально-ориентированному или процессуально-ориентированному, развивается процесс смыслополагания, а значит, и какие базовые законы логики будут верны в данном случае3.
Как это работает? Задача на предикацию
Можно ли применить все эти теоретические построения к конкретному материалу?
Давайте рассмотрим один пример. Речь идет о небольшой фразе:
Д̣ира̄р говорил: «Смысл того, что Бог знающий, — что Он не невежественный, а смысл того, что Он могущественный, — что Он не бессильный, а смысл того, что Он живой, — что Он не мертвый» [Ашари 1980: 166].
61
Нас пока не интересует, кто такой Д̣ира̄р и в каком контексте была высказана эта фраза. Суть моей позиции заключается в том, что смыслополагание — закономерный процесс, и его закономерности действуют независимо от того, кто является субъектом смыслополагания, а значит, независимо от исторических условий и намерений автора и интерпретатора — того, кто формирует смысловые конструкции, и того, кто их воспринимает. Это — объективные закономерности, действия которых невозможно избежать так же, как невозможно избежать действия закона притяжения. Конечно, не все в нашем мышлении и в текстах, фиксирующих его результаты, может быть сведено к закономерностям смыслополагания, о которых идет речь. (Точно так же не все в поведении материальных тел определяется законом притяжения.) Однако в любом тексте и в любом акте мышления присутствуют эти закономерности — присутствуют в том смысле, что определяют его логику. Моя задача сейчас — именно в том, чтобы показать, как в данном случае действуют такие закономерности.
Законы не предопределяют факты, законы предопределяют то, как могут выстраиваться факты. Закон притяжения никак не отвечает за то, упадет запущенная на космодроме ракета на землю или выйдет на орбиту. Он предопределяет, однако, при каких условиях будет иметь место тот или иной факт. Точно так же законы смыслополагания не могут поведать нам, что именно происходило «в голове» автора текста и что именно он хотел сказать. Они, однако, помогут нам точно определить, какое содержание может быть извлечено из этого текста и при каких условиях. Законы смыслополагания — это эффективный инструмент извлечения смысла. Конечно, можно обойтись без их знания, как опытный землекоп будет правильно орудовать лопатой, не зная законов физики и полагаясь лишь на свой опыт, добытый долгой практикой. Конечно, практика служит заменой теории, — но лишь в ограниченных пределах. Смыслополагание по необходимости вариативно, на его пути есть развилка, о которой мы говорили и которой никто не может избежать. И мышление индивида, и мышление целых культур, хотя и способно выбрать любой из путей, в реальности не может выбрать больше чем один. С работы домой можно добраться разными путями, но все же каждый вечер я могу пройти только одним из них. Такой выбор входит в привычку; он в принципе может быть изменен (я могу поехать домой непривычным путем), но для этого нужны веские причины и сознательный альтернативный выбор в точке развилки. Привычки смыслополагания куда более устойчивы, нежели привычка выбирать маршрут поездки, поскольку они затрагивают более глубокие, можно сказать — базовые слои нашего сознания. Если бы работа механизмов смыслополагания, определяемая законами смыслополагания, не уходила в область «бессознательного», неконтролируемого, люди и целые культуры в их обычной практике уподобились бы известной сороконожке, оказавшейся неспособной сделать даже шаг после того, как она попробовала контролировать все базовые движения своего тела. Но мы здесь, в отличие от несчастной сороконожки, никуда не торопимся и можем позволить себе анатомировать процесс смыслополагания. Кроме того, никто, я думаю, не имеет опыта продвижения сразу по двум возможным путям смыслополагания, как никто не ездил домой с работы сразу по двум альтернативным маршрутам. Компенсировать
62
отсутствие практики можно лишь теорией; поэтому теория смыслополагания не только экономит усилия и проясняет привычные вещи, но и помогает справиться с непривычным, помогает открыть то, что без нее осталось бы наверняка закрытым. Даже опытному землекопу понадобится теоретическое раздумье, если он, всю жизнь имевший дело с песчаными почвами, вдруг столкнется с каменистыми: тут наработанные долгой практикой привычки не только не помогут, но, скорее всего, помешают.
Обратимся к нашей фразе и зададим вопрос: можно ли указать условия, при которых это высказывание будет понято как означающее отрицание реальности атрибутов Бога? Вопрос оправдан тем, что отрицание реальности божественных атрибутов (та‘т̣ӣл — букв. «приостановка действия», «обездвиживание») — традиционная характеристика, которую поздняя исламская доктринальная мысль дает позиции мутазилитов1. Я сейчас не утверждаю, что разбираемая фраза выражает позицию та‘т̣ӣл или что Д̣ира̄р разделял взгляды мутазилитов по данному вопросу. Мы можем вынести все это за скобки как интересный, но не нужный для нашего исследования контекст. Наша задача — понять, что объективно вытекает из данной фразы и, следовательно, какой в принципе могла бы быть позиция (или позиции) ее автора, сконструировав ее (или их) исключительно из чистой содержательности и законов смыслополагания. Под чистой содержательностью я понимаю то, что восходит (в конечном счете) к «полотну импрессиониста» (к той абсолютной палитре красок, которая выступает как условие нашего сознания) и что входит в содержание нашего сознания благодаря глаголам, выражающим чистую текучесть мира. Законы смыслополагания, необходимые для нашего анализа, были изложены выше.
Нам нужно только одно замечание, прежде чем приступить к делу. Оно касается выражения «смысл того, что…», фигурирующего в нашей фразе трижды, один раз в полном и дважды — в усеченном виде. Это выражение активно использовалось мутазилитами, когда они давали метафорическое, не прямое истолкование многочисленным антропоморфным атрибутам Бога, содержащимся в Коране, чтобы избежать проблем, вытекающих из явного уподобления Бога тварям (Бог не имеет ничего общего с сотворенным миром — таков краеугольный камень исламского вероучения, а любое уподобление ставит это положение под вопрос). Утверждая, что, к примеру, «рука» Бога, упомянутая в Коране, означает не телесный орган (прямое значение слова «рука»), а «милость», они использовали выражение «смысл “руки” — “милость”», и т. п. Термин «смысл» тут употребляется не случайно, и само это выражение, как и прием метафорического толкования, опирается на теорию указания на смысл, которая была разработана во времена ранних мутазилитов, стала одним из базовых элементов классической арабской филологии и использовалась и в фикхе, и в философии. Мы сейчас не будем вдаваться в особенности этой теории2; нам
63
достаточно здесь того, что выражение «смысл того, что… — это…» сигнализирует, что воспринимаемое нами явное слово или выражение отправляет к своему неявному значению (которое, согласно названной теории, не произвольно, а определено каждый раз особыми факторами). Иначе говоря, вместо того, чтобы работать с атрибутом «знающий», мы должны работать с атрибутом «не невежественный», как бы заменяя в своем сознании первый на второй1.
Приступим к нашему анализу. Фраза представляет собой идеальный пример минимального субъект-предикатного комплекса, где роль субъекта играет «Бог», а роль предикатов — «знающий», «могущественный» и «живой». Д̣ира̄р предлагает заменить их на (соответственно) «не невежественный», «не бессильный», «не мертвый». Вопрос заключается в том, приведет ли такая замена к отрицанию реальности божественных атрибутов; будет ли она означать, что атрибут указан лишь номинально, тогда как в реальности данное имя ни на что не указывает?
Уточним вопрос: что значит «в реальности»? У нас нет никакой иной реальности, кроме реальности смыслополагания. И дело не только в том, что мы не можем «проверить», как обстоят дела у Бога с реальностью его атрибутов. О чем бы ни шла речь, мы имеем дело со смыслополаганием, подчиняющимся собственным законам, даже на уровне чувственного восприятия: видение вещи — это полагание вещи, которое предполагает осуществление выбора (преобразование «Г → ИС» или «Г → ИП»: выбор неизбежен) и формирование, после этого и на основе этого, субъект-предикатного комплекса. Поэтому стоит попробовать сформулировать вопрос в терминах теории смыслополагания. При каких условиях предложенное Д̣ира̄ром перетолкование субъект-предикатных комплексов будет означать отрицание содержательности, стоящей за номинальностью атрибутов? Устранить чистую содержательность значит устранить, убрать из рассмотрения то действие, выраженное глаголом, преобразованием которого получено имя, фиксирующее интересующий нас атрибут. При каких условиях замена атрибута «знающий» на атрибут «не невежественный» будет означать устранение действия «(по)знание»? Ведь с его устранением действительно устранится и та содержательность, которая связана с именем «знающий», а значит, и реальность атрибута «знающий» (это и будет тем, что названо в арабской мысли та‘т̣ӣл — «обездвиживание» атрибутов). Отмечу в скобках, что такая формулировка вопроса точна, в отличие от традиционной. Негативная теология, строящаяся как отрицание божественных имен, оставляет поле для вопроса о том, что отрицание все же как-то определяет, а значит, приписывает нечто положительное. Такого рода рассуждения порождены неточностью традиционной постановки вопроса, тогда как предложенная постановка вопроса на языке
64
теории смыслополагания полностью устраняет эту неточность, а вместе с ней — и почву под бесконечными рассуждениями о том, что отрицание оборачивается своей противоположностью, утверждением.
Начнем по прядку. «Бог знающий» → «Бог не невежественный» — такую замену предлагает Д̣ира̄р. Допустим, что Д̣ира̄р (1) рассуждает в субстанциальном ключе и (2) соблюдает элементарные требования соответствующей (родовидовой) логики построения понятий и рассуждений. Допустим также, что (3) мы имеем дело с языковой небрежностью, т. е. что «невежественный» образует дихотомическую пару со «знающий», когда будут работать законы исключенного третьего (ЗИТ) и противоречия: можно быть либо «знающим» что-то, либо «невежественным» в отношении этого (отрицательная формулировка ЗИТ) и необходимо быть либо «знающим», либо «невежественным» в отношении чего-то (положительная формулировка ЗИТ); «знающий» не является «невежественным» в отношении одного и того же. (На уровне естественного языкового восприятия это как будто не вызывает возражений, поскольку «быть невежественным» и значит «не знать»).
В таком случае мы обнаружим, что предложенные Д̣ира̄ром замены ровным счетом ничего не дают. Ведь «не невежественный» по определению в этом случае будет означать то же самое, что «знающий»: если «невежественный» — это «не знающий», то «не невежественный» = «не не знающий» = «знающий». Никакого устранения из рассмотрения содержательности, приносимой глаголом «знать», не происходит; более того, вместо перетолкования мы имеем просто тавтологию. То же самое будет верно для двух других атрибутов.
Оправдано ли допущение (3)? Даже если речь не идет о строгой дихотомии по форме, все же содержательно имеется в виду именно она. Вряд ли будет правильным предполагать, что между знанием и невежеством имеется некое промежуточное состояние «полузнания», так что, отрицая божественное невежество, мы бы допускали полузнание Бога вместе с его знанием. Кроме того (и это главное), предположение о контрарном, а не контрадикторном характере этих противоположений (то же самое верно и для двух других атрибутов) не только не спасает ситуацию, но и ухудшает ее, поскольку в таком случае область утверждаемого за счет отрицания негативных атрибутов только увеличивается. Поэтому мы можем отказаться от допущения (3), не меняя вывода: рассуждение Д̣ира̄ра, понятое в русле субстанциально-ориентированной логики, объективно означает тавтологию.
Оправдано ли допущение (2)? Мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку он задан относительно истинности факта, тогда как не в наших силах установить, что именно «было в голове» у Д̣ира̄ра, когда он формулировал данное высказывание. Мы можем лишь перебирать варианты. Предположим, что это допущение неверно; тогда мы обязаны признать — более того, не можем не признать, — что Д̣ира̄р не знал элементарных правил аристотелевской логики или не следовал им, осознанно или неосознанно. Дальше — дело нашего выбора: мы можем исследовать биографию Д̣ира̄ра, чтобы попытаться уточнить ответ на этот вопрос; мы можем
65
сказать, что заниматься высказываниями человека, который не знает или не соблюдает элементарных правил рассуждения, неинтересно, и т. д. Как бы то ни было, если допущение (2) неверно, мы обязаны признать, что высказывание Д̣ира̄ра построено на элементарной логической ошибке и, следовательно, ничего на деле не говорит. Поскольку в таком случае у нас уже нет никаких правил, которыми мы могли бы руководствоваться, из высказывания Д̣ира̄ра можно извлекать любой смысл или не извлекать никакого. Если же мы считаем, что его высказывание заслуживает внимания (неважно, почему мы так считаем — или исходя из имеющихся сведений о Д̣ира̄ре, или же из уважения к нему, или просто потому, что нам так хочется), мы обязаны признать правильность допущения (2). Однако важно, что признание или непризнание оправданности допущения (2) ничего не меняет в плане установления объективного смысла фразы: она все равно объективно представляет собой тавтологию, неважно, понимал это ее автор или не понимал, хотел он ее высказать или не хотел.
Итак, верны или не верны допущения (3) и (2), высказывание Д̣ира̄ра объективно представляет собой тавтологию. Однако обсуждать правильность допущений (3) и (2) имеет смысл только в том случае, если верно допущение (1), поскольку эти допущения имеют отношение только к логике субстанций. Следовательно, вопрос стоит так: верно ли допущение (1)?
Если вопрос задан о факте, — действительно ли Д̣ира̄р рассуждал в субстанциальном ключе, — то мы не можем на него ответить, опираясь на знание законов смыслополагания, поскольку эти законы не определяют факты. Они определяют лишь то, как могут выстраиваться факты, и поэтому мы можем точно сказать, что если Д̣ира̄р действительно мыслил в субстанциальном ключе, то его рассуждение — тавтология. Мы можем также, опираясь на знание этих законов, предположить, что Д̣ира̄р рассуждал иначе; предположить, что допущение (1) неверно и что это построение выполнено в процессуальной логике.
Такое допущение требует от нас истолковать субъект-предикатные комплексы в соответствии с положениями процессуальной логики. Предикат «знающий» будет связан здесь со своей противоположностью; поскольку предикат в процессуальной логике фиксирует носителя предиката как действователя, в качестве противоположности здесь выступает претерпевающее. «Знающий» предполагает (требует, вызывает к жизни) здесь «познаваемое»; «знание» как процесс схватывает единство противоположностей в этой логике, единство знающего и познаваемого.
Таковы базовые требования этой логики, аналогичные тем, что определены столь же базовыми представлениями о дихотомическом делении рода. Из них вытекают столь же очевидные и непреложные требования, сколь очевидны и непреложны законы, верные в рамках родовидовой логики. Один из них — необходимая связанность противоположностей: необходимость наличия претерпевающего для действователя; этим вызвана к жизни едва ли не центральная и самая болезненная проблема в области божественных атрибутов — проблема безначальности имен, выражающих аспект действия (как Бог может быть «знающим» до сотворения
66
«познаваемых» вещей?). Есть и другие; но речь сейчас даже не о них, а о том, что будет означать высказывание Д̣ира̄ра, взятое в соответствии с требованиями процессуальной логики.
В таком случае атрибут «знающий» указывает на процесс «(по)знания», инициатором (действователем) которого является Бог. Мы сейчас оставляем в стороне вопрос о том, что в таком случае требуется «познаваемое», поскольку об этом в разбираемой фразе речь не идет. Важно не это; важно, что в процессуальной логике атрибут «знающий» не предполагает дихотомических обязательств по отношению к атрибуту «невежественный». Вовсе не потому (предвижу «остроумное» возражение), что в процессуальной логике можно «быть знающим» и «быть невежественным» одновременно; а потому, что в процессуальной логике вещи не бытийствуют, они включены в структуру процесса1. Законы процессуальной логики вовсе не отрицают законов субстанциальной логики; они работают с другими вещами. Процессуально-ориентированное толкование фразы «Бог — знающий» берет в качестве вещи процесс «(по)знание», а не Бога как субстанцию («субстанцию» не в смысле онтологии — Бог, конечно, не субстанция, — а в смысле логики организации предикации.) Это «сдвижение» вещности при переключении между субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной перспективами объясняет, почему законы соответствующих логик не конфликтуют. Атрибут «знающий» здесь, в пространстве процессуальной логики, будет предполагать обязательства связанности с противоположностью (с «познаваемым»), откуда и вытекает названная центральная проблематика божественных имен. А атрибут «невежественный» выражает аспект действователя для действия «не-ведать» (представим себе такой «цельный», единый глагол; если представим себе еще и отсутствие морфологического отрицания «не», то получим аналог арабского глагола джахила, — его имя действователя и употреблено здесь, — который морфологически не имеет отрицания и в этом смысле означает некое «положительное» действие).
Что тогда означает замена субъект-предикатного комплекса «Бог — знающий» на субъект-предикатный комплекс «Бог — не неведающий»? Она означает замену процесса: вместо процесса «(по)знание» мы вводим в рассмотрение процесс «неведание» (согласимся с такой искусственной русской формой; в арабском соответствующее слово совершенно естественно). «(По)знание» устранено заменой, его как будто и нет, а вместо него — другой процесс. Но и этот процесс «неведание» у нас отрицается, поскольку отрицается атрибут «невежественный»: «Бог — не невежественный», говорит Д̣ира̄р. Таким образом, мы получаем два отрицания:
67
процесс «(по)знание» отрицается потому, что соответствующий атрибут перетолковывается; а процесс «неведание» отрицается потому, что соответствующий атрибут отрицается частицей отрицания «не»1.
Это значит, что мы утверждаем, что Бог не совершает действия «(по)знавать» (поскольку перетолковываем соответствующий атрибут) и что он не совершает действия «не-ведать» (поскольку отрицаем соответствующий атрибут). В таком случае мы действительно устраняем всякую содержательность, стоящую за номинально выраженными атрибутами, неважно, позитивными или негативными. Истолкованное в соответствии с требованиями процессуальной логики, высказывание Д̣ира̄ра (а) действительно имеет смысл, не превращаясь в тавтологию, и (б) действительно означает устранение реальности божественных имен (та‘т̣ӣл)2.
Как на самом деле мыслил Д̣ира̄р и выражал ли он позицию та‘т̣ӣл? Я не знаю. Но я знаю, что, если он мыслил субстанциально, он не выражал эту позицию и либо допускал логическую ошибку и формулировал тавтологию, думая, что говорит нечто содержательное, либо на самом деле утверждал реальность божественных атрибутов. И я знаю, что, если он мыслил процессуально, он выражал эту позицию, а его мысль сформулирована последовательно, кристально чисто и совершенно отчетливо.
Что означает фраза «Смысл того, что Бог знающий, — что Он не невежественный»? Она ничего не означает до того, как мы применили технику логико-смыслового анализа. Когда думают, что могут «открыть» содержание данной (или любой другой) фразы, не обращая внимания на эту технику, на самом деле подставляют, не замечая этого, привычную логику смысла, молчаливо считая ее единственно возможной и трактуя высказывание (не только это — любое) как субъект-предикатный комплекс, выстроенный по законам субстанциально-ориентированного смыслополагания. Понять, что значит высказывание, — значит
68
показать его выстроенность по законам смыслополагания и, если нельзя (как в разобранном случае) точно решить, какая из возможных логик смысла лежит в его основании, показать альтернативы и исследовать все вытекающие следствия.
Вместо заключения
Набросок понимания сознания как смыслополагания — так можно обозначить суть проделанной работы. Ключевые категории здесь — смысл и осмысленность. Смысл понимается как чистая связность, или, что то же самое, как чистая целостность. Та связность, которую мы обнаруживаем и в мире (связность характеристик вещи, дающая вещь, — удивительный факт, достойный восхищения: почему вместо набора красок мы имеем вещи?), и в нашей речи (связность субъекта и предиката фразы, запараллеливающая связность мира), возможна благодаря чистой связности и служит ее разворачиванием. Связность мира и связность речи могут быть поняты из чистой связности; осмысленность может быть понята из смысла, но не наоборот: связность нельзя построить из несвязных единиц, связность может быть только изначальной. Вот почему мы можем объяснить мир, исходя из анализа сознания, но не наоборот. Целостность, которую мы обнаруживаем в мире, может быть понята только как след чистой целостности, ее нельзя выстроить из того, что изначально не обладало связностью и не было причастно целостности.
Что значит, что мы обнаруживаем в мире целостность? Я имею в виду очевидное обстоятельство: мир, в котором мы живем, ведет себя в соответствии с законами аристотелевской логики; мы не можем себе представить, к примеру, что некий предмет может быть белым и не белым одновременно в одном и том же смысле; или не можем представить (вслед за Витгенштейном), что «пятно в поле зрения» может быть лишено цвета: оно обязано его иметь, в соответствии с положительной формулировкой закона исключенного третьего. Это — непреложные законы, и мы знаем о них почти две с половиной тысячи лет. Сказать, что мир ведет себя в соответствии с ними, значит сказать, что предикация устроена строго определенным образом и не может быть устроена иначе, с нарушением этих законов. Между тем предикаты ведут себя именно так потому, что они включены в конкретизированную целостность, развернутую как противоположение-и-объединение; отношения отрицания (противоречия) и объединения однозначно заданы конкретной трактовкой противоположения-и-объединения, т. е. конкретной трактовкой чистой целостности.
Что нового было сказано на предшествующих страницах, что нового мы узнали в сравнении с тем, что давно известно? Всегда считалось, что базовые законы аристотелевской логики приложимы к миру «вообще», что они универсальны; если брать именно мир, в котором мы живем и как он дан человеку, в их универсальности невозможно сомневаться. Именно на этом в конечном счете основана многовековая вера в универсальность разума, его общечеловеческую природу и, следовательно,
69
фундаментальную универсальность истории человечества. Однако мы убедились, что видеть мир субстанциально — значит давать одну из (по меньшей мере двух) возможных его интерпретаций. Законы известной нам аристотелевской логики — это не законы устройства «объективного» мира, а законы устройства смыслополагания. От этого они не перестают быть объективными: как мы видели, их невозможно нарушить; от этого они перестают быть законами «объективного мира». Видеть мир субстанциально — значит не открывать истину, законосообразность, устойчивость (и т. д.) мира; это значит открывать истину, законосообразность, устойчивость (и т. д.) смыслополагания в одном из его вариантов.
Что от этого меняется? Почти все. Субстанциальная интерпретация текучести мира — лишь одна из возможных; не менее возможна и не менее истинна процессуальная интерпретация того же самого. Объективность, данность, независимость от интерпретаций и тому подобные характеристики нельзя сохранить для субстанциальной или процессуальной интерпретаций мира; если их и можно сохранить, то только для текучести мира, для того, что еще не остановлено именем (т. е. не вынуто из временнóго потока: мы видим и здесь параллель между миром и речью, параллель, с которой мы встречались постоянно и которая объясняет, почему наша речь устроена именно так, как она устроена). Ведь именно текучесть инвариантна для двух равно возможных вариантов ее интерпретации — субстанциального и процессуального; при этом сама текучесть мира не содержит в себе ничего, что отдавало бы предпочтение одному варианту перед другим. Они равноистинны; и эта равноистинность несовместимых интерпретаций строго одного и того же бросает серьезный вызов привычному пониманию истинности (вернее, ее разным пониманиям вплоть до конструктивизма), а точнее, требует привести эти инаковые интерпретации — субстанциально-ориентированную и процессуально-ориентированную — к тожести, применив принцип то же иначе. Истинность инвариантного текучего мира как будто порождает истинности обоих вариантов его интерпретации, субстанциального и процессуального, относящихся один к другому как то же иначе. (Точно так же понимание номинально одной и той же фразы возможно в двух равноистинных вариантах — субстанциально-ориентированном и процессуально-ориентированном, и истина самой фразы — это нечто иное в отношении истин двух равноистинных ее интерпретаций, соотносящихся как то же иначе). Между тем мы пока умеем мыслить только остановленное; только то, что возможно благодаря именам, а не глаголам; мы умеем мыслить субстанциально или процессуально, но мы пока не умеем мыслить то, что инвариантно в отношении этих вариантов. Понять соотношение равноистинных вариантов, т. е. субстанциальной и процессуальной интерпретаций одного и того же (а такое разветвление на варианты всегда возможно и всегда имеет место в нашей смыслополагающей деятельности, неважно, осознаем мы этот выбор или делаем его бессознательно), — это новая задача, открывающая совершенно новые горизонты.
Итак, процессуальная интерпретация мира не менее истинна, чем его субстанциальная интерпретация. Каждый отдельный человек может мыслить и так и эдак,
70
хотя обычно мы получаем привычку мыслить или так, или эдак от своей культуры. Это — культурная, не врожденная (не естественно обусловленная) привычка. Речь у нас шла о строгой логике; но понятно, что почти никто и почти никогда не мыслит строго логически. Это, конечно, верно; но верно и то, что все прочие модусы мышления получают свою определенность именно в соотнесении с этим «нормативным», логически-истинным модусом. В этом смысле каждый из вариантов мышления — субстанциально-ориентированный или процессуально-ориентированный — универсален: не в том смысле, что все как один мыслят одинаково и логически-выверенно, а в том, что истинность или неистинность, степень отклонения от логически-выверенной истины определяются на основе одних и тех же критериев, пока мы находимся в тех пределах, которые заданы каждым из вариантов организации мышления, определяются в своей конкретности именно им и меняются целиком, если принят другой вариант организации мышления.
Традиционная формальная логика не улавливает этого различия и этой возможности равноистинной двувариантной интерпретации одного и того же. Это значит лишь, что традиционная формальная логика недостаточно формальна: предпосылки субстанциально-ориентированного мышления принимаются ею молчаливо, как сами собой разумеющиеся. Расширить возможности логики за счет того, чтобы ввести в обсуждение эти логико-смысловые предпосылки, определяющие ход смыслополагания, сделать логику инструментом анализа смыслополагания — еще одна захватывающая задача.
Исторически существующие культуры, например арабо-мусульманская, не обязательно совпадают в своих границах с теоретически сконструированной культурой как способом смыслополагания. Тем интереснее посмотреть, где, насколько и как такое (не)совпадение имеет место. Есть законы больших чисел; и есть законы культуры. Культура нивелирует индивидуальные различия и вводит их в некое русло. Вот тут, в этом пункте, и появляется логика культуры как интегрант индивидуальных, часто разнонаправленных импульсов смыслополагания. Исходя из законов больших чисел и соответствующих статистических распределений, мы не можем сказать, каким будет рост первого встречного на улице и во сколько он(а) войдет в метро. Но, исходя именно из этих законов, мы совершенно точно предскажем распределение роста тысячи первых встречных и изменение потока людской массы в метро на протяжении дня. Культура — такой же поток, это вовсе не индивидуальные случаи; хотя поток складывается из единичных случаев, он обладает свойствами, которыми не обладает индивид. Устойчивость культуры — это устойчивость того способа смыслополагания, который «отвечает» за основной вектор ее развития.
 |

|
71
Являются ли различия между культурами только содержательными или они носят иной характер, и если да, то какой именно?
Начнем с объяснения центральных понятий. Таковых два, и оба вынесены в название: «инаковость» и «смыслополагание».
Инаковость или специфика? Культура как способ смыслополагания
Различение инаковости и специфики культур является первым фундаментальным различением. Его необходимо очень точно уяснить и постоянно держать в памяти, чтобы избежать искажающего влияния установившихся шаблонов.
Когда говорят о различных культурах и о различиях между культурами, не задумываясь употребляют словосочетание «культурная специфика» или его синонимы (культурные особенности, т. п.). Такое словоупотребление предполагает, что принимаются, явно или молчаливо, два допущения. Оба они считаются, как правило, само собой разумеющимися, так что обычно даже не задумываются об их оправданности.
Эти допущения следующие. Во-первых, культурная специфика всегда носит содержательный характер. Например, китайцы и русские по-разному понимают чаепитие. Они используют для заваривания и питья чая разные предметы, процедура заваривания разнится в существенных и малосущественных деталях, чаепитие происходит в разное время суток, и т. д., и т. п. Эти различия только по-видимости можно обозначить вопросом «как?» (как заваривают чай и как его пьют, т. д.). Ответом на все эти «как?» будет некое «что», т. е. некая позитивная содержательная информация: русские используют самовар, а китайцы — специальные столики, чайнички и пиалки, и т. д. На самом деле все вопросы заданы именно о «что», а не о «как», и ответом на них служат некие «объемы информации».
Вот почему, во-вторых, культурная специфика непременно предполагает субстанциальную общность культур, причем такая общность имеет более важное значение, нежели специфика. Русские и китайцы пьют чай по-разному, но пьют его именно потому, что ощущают необходимость в некоем жаждоутоляющем и тонизирующем напитке, причем организм китайцев и русских реагирует в общем одинаково на воздействие содержащихся в чае веществ. Как бы ни разнились способы заваривания чая, все они основаны на воздействии горячей воды на высушенные листочки кустарника некоего вида. И так далее. Эти общие вещи являются вместе
72
с тем и основополагающими для чаепития в обеих культурах: если бы организм человека (неважно, русского или китайца) реагировал иначе на содержащиеся в чае вещества, то и чаепития, возможно, вовсе бы не было; если бы вода закипала при температуре 30, а не 100 градусов, то чай не заваривался бы ни в Китае, ни в России, и т. д. Именно общность делает возможной специфику, но не наоборот: не будь общности, не было бы и специфики.
Это «не было бы» имеет два аспекта. Во-первых, онтологический: специфические способы заваривания чая существуют в Китае и России только потому, что имеются общие основы чаепития, неизменные тут и там. И, во-вторых, понятийный: мы не можем мыслить культурную специфику, не «прилепляя» ее к некоему общему стержню, который только и делает возможным сравнение культур и выяснение такой специфики. Если бы мы не знали, что русский самовар и китайский заварочный чайник оба являются сосудами для заваривания чая, мы бы и не поняли, в чем именно заключаются специфицирующие их различия.
Итак, понятие «культурная специфика» неизбежно влечет два принципиальных допущения: различия носят содержательный характер (отвечают в конечном счете на вопрос «что?», а не «как?», даже если формально вопрос ставится о «как?») и являются чем-то дополнительным к существенной общности культур.
Понятие «культурная специфика» и сопровождающие его установки хорошо работают и не приводят сами по себе к ошибкам при сравнении культур, которые принадлежат одному макрокультурному ареалу и сами являются в том или ином отношении спецификациями макрокультурной общности. Например, английская, французская и ряд других культур принадлежат тому макрокультурному ареалу, который с полным основанием обозначают термином «европейская культура». Сравнение таких культур, проведенное как выявление содержательно выраженной культурной специфики, имеет все шансы быть успешным и плодотворным.
Однако сравнение культур, принадлежащих одному макрокультурному ареалу, наследующих в существенном отношении (чуть ниже поясним, в каком именно) одной материнской культуре и специфически развивающих одни и те же основоположения, следует отличать от сравнения культур, принадлежащих разным макрокультурным ареалам. Это — иной случай, и понятие «культурная специфика», как и сопровождающие его теоретические установки, в этом случае не срабатывает.
Каковы макрокультурные ареалы, о которых можно говорить как о равновеликих (в рассматриваемом отношении) европейскому ареалу? Я ограничусь самым предварительным ответом на этот вопрос. Я не знаю, можно ли считать культуры индейцев доколумбовой Америки или жителей Африки южнее Сахары составляющими такие ареалы. Я предполагаю, что есть два крупных «восточных» макрокультурных ареала — индийский и китайский. И я готов утверждать, что то, что именуют словами «исламский мир» и тому подобными словосочетаниями, составляет третий из таких «восточных» макрокультурных ареалов.
Я сознательно использую здесь слово «восточный». «Восток» не существует ни как единый объект, ни как единый предмет исследования. Тем не менее термины
73
«востоковедение» и «восточный» не являются пустыми. Они указывают на два взаимосвязанных обстоятельства, которые имеют отношение к процессу исследования и его организации. Во-первых, при изучении восточных культур наши априорные герменевтические ожидания не являются оправданными и не должны служить незаметным суфлером. Это — крайне существенное обстоятельство, заставляющее востоковеда постоянно воздерживаться от вчитывания в изучаемую восточную культуру тех «очевидностей», которые подсказаны собственной культурой исследователя, причем такое воздержание является специальным приемом и требует определенной техники. В чем именно заключаются априорные герменевтические ожидания и как именно работают такие подсказки, мы поговорим чуть ниже. И во-вторых, востоковедение является комплексной дисциплиной. Это его отличительная черта: востоковедом не может быть человек, не постигший хотя бы в основных (а желательно и во второстепенных) деталях изучаемую восточную культуру как целостность, включающую язык, литературу, историю, религию, доктрину, право, общественную мысль, философию, искусство (разумеется, выделение таких сфер может быть различным, но важна именно целостность). Этот целостный подход необходим как раз в силу первого обстоятельства: востоковед обязан компенсировать ошибочность априорных герменевтических ожиданий комплексностью знания об исследуемой восточной культуре, надеясь, что такая комплексность в каком-то отношении заменит не срабатывающие интуиции.
Ниже пойдет речь о макрокультурном ареале исламского мира. Именно он является объектом нашего исследования. Предметом исследования служит тот способ, каким организован этот макрокультурный ареал. Вместе с тем я предполагаю, что постановка проблемы и предложенное ее решение имеют смысл и применительно к двум другим восточным макрокультурным ареалам — индийскому и китайскому. Как именно — это могут сказать только специалисты.
Исламский макрокультурный ареал включает в себя множество культур. Внутреннее разнообразие исламского мира не следует доказывать: это вещь очевидная и известная всякому, кто хотя бы немного знаком с этим вопросом. Не менее общепризнанным является и другое: исламский мир представляет собой единство, не отрицаемое и не устраняемое его внутренним разнообразием. Не только не лишены смысла, но, напротив, глубоко обоснованы такие выражения, как «исламское искусство», «исламская этика», «исламское вероучение», «исламское право», «исламский образ жизни», «исламская философия» и др. Важно подчеркнуть, что прилагательное «исламский» указывает не только, а подчас не столько на известную религию, сколько на определенный способ организации тех или иных сфер. Конечно, исламский мир возник в результате распространения ислама; но это еще не значит, что все феномены исламского мира, а главное, его единство (в означенном смысле) исчерпываются религиозным содержанием или фундированы религией как таковой. Это не так, и прилагательное «исламский» выбрано здесь лишь за полным отсутствием термина, этнического, языкового или иного по своему происхождению, который покрывал бы весь этот макрокультурный ареал. Даже удачного географического термина невозможно подыскать,
74
поскольку пришлось бы обозначать территории, раскинувшиеся от Атлантического океана до Китая. (Впрочем, и термин «европейский», географический по своему происхождению, дает сбой, когда речь идет о североамериканской культуре: тут в ход пускают обычно прилагательное «западный».)
Итак, мы можем зафиксировать два существенных положения, касающихся исламского макрокультурного ареала. Первое: этот ареал сложен множеством культур, обнаруживающих вместе с тем свое единство. Второе: этот ареал равновелик европейскому макрокультурному ареалу. Не в том смысле, что «суммы» культуры (как бы такие суммы ни понималась), «произведенные» Европой и исламским миром, равны. Я этого не просто не утверждаю, но и вовсе оставляю в стороне этот вопрос. Ракурс моего рассмотрения — совсем другой. Меня интересует не содержательно выраженный результат (не сумма культурных достижений), а тот способ, благодаря которому эта сумма получила существование. Равновеликость двух макрокультурных ареалов в этом отношении означает, что каждый из них обладает своим способом выстраивания собственного организма. Такой способ выстраивания тела культуры (духовных и материальных благ, сказали бы одни, текстов культуры, сказали бы другие) я и называю способом смыслополагания.
Суть понятия «макрокультурный ареал», таким образом, сводится к указанию на то, что культуры, входящие в такой ареал, опираются на общий для них способ смыслополагания. Общность способа смыслополагания обеспечивает единство макрокультурного ареала, устойчиво ощущаемое как носителями входящих в него культур, так и инокультурными исследователями.
Мы готовы теперь определить понятие «инаковость». Две культуры являются инаковыми, если они различаются способом смыслополагания. Культуры, инаковые в отношении друг друга, я называю также инологичными.
Подведем итог выполненному различению понятий «инаковость» и «специфика». Мы говорим, что сравниваемые культуры обладают спецификой, если опираются на общий им способ смыслополагания. В таком случае различия между ними — содержательного плана, отвечающие на вопрос «что?». Сравниваемые культуры характеризуются инаковостью, если основаны на разных способах смыслополагания. Тогда различия между ними — не просто содержательные. Чтобы понять суть содержательных различий между взаимно-инаковыми культурами, необходимо прежде указать на «как?», т. е. на способ смыслополагания, ответственный за выстраивание целостного смыслового тела культур. Такое указание возможно — и само по себе интересно и плодотворно — и в первом случае, но там оно ничего не добавляет к пониманию именно различий между культурами, поскольку способ смыслополагания для них один и тот же.
Таково базовое различение понятий «инаковость» и «специфика». Такое различение требует от нас понимать культуру как способ смыслополагания. Это определение нуждается в некотором разъяснении.
Определяя культуру как способ смыслополагания, я понимаю ее не как нечто данное, а как способ создания любого данного. Это не значит, что для этой точки
75
зрения данное, ставшее содержание не имеет значения. Отнюдь нет. Эта точка зрения требует не останавливаться на исследовании только содержательного аспекта, а заглянуть дальше, поняв, как именно, с помощью каких приемов это содержание выстроено. Понимание культуры как способа смыслополагания требует предварительно освоить содержательный аспект и только на этой основе поставить вопрос о том, каким образом это содержание выстроено.
Это определение, таким образом, не является ни эссенциалистским, ни антиэссенциалистским — в том смысле, в каком сейчас обычно употребляют эти термины. Понимание культуры как способа смыслополагания привязывает нас только к макрокультурному ареалу, а не к какой-то конкретной культуре внутри него. Античная, средневековая, ренессансная и т. д. культуры существенно различны, — но они совпадают как способ смыслополагания1. Это дает представление об уровне, на котором мы работаем, сравнивая взаимно-инаковые культуры и говоря об инологичности культур: это уровень настолько фундаментальный, что над ним надстраиваются многочисленные этажи содержательных различий между культурами, общими с точки зрения способа смыслополагания. И в то же время понимание культуры как способа смыслополагания не является антиэссенциалистским, поскольку не отбрасывает вовсе представление о существенных различиях культур, которые не могут быть так просто преодолены. Плавильные котлы способны справиться с содержательными различиями (да и то не всегда), но им не под силу переплавить разнологичные культуры в нечто единое. XX в. дал много примеров «заброшенности» и «ничейности» (попросту говоря, беспочвенности) тех представителей арабо-мусульманской культуры, которые попытались «переплавиться» в европейцев. А лоскутное одеяло, сшитое из разнологичных культур, слишком непрочно и скрепляется только внешними факторами: швы недостаточно сильны, чтобы удержать от расползания разновекторные тенденции разнологичных лоскутков.
Итак, я определяю инаковость через смыслополагание. Это требует непосредственно перейти к понятию «смыслополагание». Однако прежде следует сделать два замечания, дав обещанные разъяснения.
Первое. Макрокультурный ареал конституирован общностью способа смыслополагания. Этот способ должен быть неким образом задан. Из культур, входящих в такой ареал, какая-то одна является в этом отношении ведущей, материнской. Именно она изобретает, развивает и разрабатывает определенный способ смыслополагания, выстраивая себя в соответствии с ним. Если другие культуры подхватывают достижения материнской культуры, они совместными усилиями формируют макрокультурный ареал. Для европейского макрокультурного ареала материнской культурой стала греческая. Для исламского такая роль выпала на долю арабской. Взаимодействие материнской и наследующих культур может быть довольно сложным, и оно
76
не обязательно сводится к простому усвоению базового способа смыслополагания. В европейском макрокультурном ареале материнская греческая культура старше всех прочих, сегодня входящих в него, и наследование происходило как будто естественно, хотя и не обязательно гладко. В исламском мире материнская арабская культура оказалась значительно младше иранской, вошедшей в этот макрокультурный ареал. Насколько иранская культура, несемитская по своему основанию и потому не склонная воспринять тот способ смыслополагания, который был выработан арабами, все же усвоила те или иные черты этого способа, насколько в таком взаимодействии иранского субстрата и выработанных арабами процедур смыслополагания брала верх то одна, то другая сторона, что получалось в результате такого взаимодействия, — это увлекательная история, пока еще не написанная, но, конечно же, ждущая своего исследователя11.
Второе. Априорные герменевтические ожидания исследователя, о которых я говорил выше, — это мыслительные привычки, сформированные тем способом смыслополагания, который характерен для собственной культуры исследователя. Если ученый или философ изучает культуру, входящую в тот же макрокультурный ареал, что его собственная, он может не обращать внимания на наличие таких ожиданий: они помогают, а не мешают, поскольку дают априорную подсказку относительно принципов выстраивания изучаемой культуры. Такая подсказка интуитивна, она обычно не эксплицируется, и если задать вопрос: «Почему в этом пункте Вы исходите именно из таких-то посылок?», — в ответ скорее всего услышим что-то вроде: «А как же может быть иначе? Это очевидно». Такого рода очевидности логического порядка скрепляют рассуждение и облегчают его. Однако в случае инологичной культуры эти априорные очевидности должны быть другими, поскольку для инологичной культуры способ смыслополагания — другой. Вот почему та комплексность, о которой шла речь выше и которая составляет отличительную черту востоковедения, проистекает вовсе не из ошибочного представления востоковедов об «экзотичности» их объекта исследования (протестуя против которого, борцы с ориентализмом искоренили востоковедение там, где им это удалось), а из инаковости (инологичности) этого объекта. Такая комплексность до какой-то степени компенсирует отсутствие априорного знания о способе смыслополагания инологичной культуры.
Смысл, осмысленность, смыслополагание:
предварительный набросок понятий
Что такое «смыслополагание»? Разведение инаковости и специфики, определение макрокультурного ареала и соотношения между материнской и наследующими культурами, указание на особый статус востоковедения как комплекса наук, работающих с инологичными культурами, наконец, определение культуры как способа
77
смыслополагания — все это опирается на понятие «смыслополагание». Следует разъяснить его, чтобы поставить данные определения на надежную основу.
Смыслополагание — это любая деятельность, создающая осмысленность. Деятельность нашего сознания создает для нас осмысленность, которую мы называем внешним миром; наш разум создает теоретические конструкции, принадлежащие особой сфере осмысленности; наша речевая деятельность создает осмысленную сферу, которую принято называть языковой (хотя точнее было бы именовать ее речевой). Везде здесь осмысленность служит предельным понятием: всё, с чем мы имеем дело, является осмысленностью. В каком-то смысле (опять «смысл») мы обречены на осмысленность, потому что осмысленность — это та сфера, в которой живет человек и пределы которой он не может преодолеть.
Итак, осмысленность — максимально широкая категория. Все, о чем мы можем говорить или что можем помыслить, все, что можем почувствовать и воспринять, — все это является осмысленностью. Осмысленность — категория столь же широкая, какой в традиционной философии являлась категория бытия; скорее даже более широкая, поистине всеобъемлющая, поскольку не предполагает традиционную связку-противопоставление категорий «бытие» и «знание». Будучи подлинно всеобъемлющей, категория «осмысленность» в силу этого является и предельной: любое рассуждение имеет своей конечной основой осмысленность и представление об осмысленности, пусть даже такое представление и не артикулируется.
Стоит ли задавать столь всеобъемлющую и предельную категорию? Есть ли смысл говорить об осмысленности как фактически о том, что синонимично универсальному понятию, понятию «всё»? Если бы дело ограничивалось только такой констатацией всеобъемлющего и предельного характера категории «осмысленность», то, пожалуй, большого проку от этого в самом деле не было бы. Но такая констатация — только начало, фиксация исходной диспозиции. Суть дела — в тех закономерностях, которые управляют сферой осмысленности. Разговор об этих закономерностях — дело совершенно новое. Моя цель здесь — сформулировать общетеоретические и методологические положения, касающиеся осмысленности, смысла и смыслополагания, какими они представляются на сегодняшний день.
Итак, осмысленность — это, попросту говоря, все, что нам дано и с чем мы можем иметь дело. Условие, благодаря которому возможно смыслополагание (т. е. наша деятельность, дающая и со-з-дающая осмысленность), я называю смыслом. Таким образом, «осмысленность» и «смысл» соотносятся как всеобщая данность и ее условие.
Такое условие нельзя называть трансцендентальным, поскольку смысл — это не первичная, ни от чего не зависящая «данность» сознания, не его «диспозиция» и не его «структурированность». Любая подобная данность, диспозиция или структурированность уже была бы осмысленностью (поскольку осмысленность — это все, что нам дано), — а ведь мы говорим не о ней, а о ее условии; не об осмысленности, а о смысле. Известное понятие опыта зауживает всеобщую данность сознания, делая ее фактически не все-общей. Ведь это понятие предполагает, будто имеется
78
некое a priori нашего сознания, предпосланное его деятельности (т. е. именно опыту), — нечто, что было бы зафиксировано как определенное содержание до и вне всякого опыта. Кантовский априоризм, видящий такое содержание как формы пространства и времени (сама форма, безусловно, является чем-то содержательным, хотя и служит вместилищем для данных опыта), и феноменология, считающая, что может открыть первичное содержание нашего сознания (ее отдаленным эхом стал поиск «семантических примитивов» в современной лингвистике и культурологии), следовали именно этим путем.
Совершенно очевидно, что такая стратегия — не более чем petitio principii: только через опыт, только через деятельность сознания мы можем добраться до так полагаемого его основания, — но это основание, будучи содержательным (именно это принципиально), неизбежно включено в сам опыт. Это ясно уже из того, что a priori сознания полагается необходимым, и именно в силу этой необходимости предпосланным опыту, — но в силу той же необходимости оно оказывается и включенным во всякий опыт. Однако если нам не дано ничего, кроме опыта, то каким образом мы можем отделить в данных нашего сознания такое необходимое a priori — от того, что составляет содержание самого-по-себе опыта? Постулируя такое a priori или заявляя, что он владеет техникой его достижения, философ претендует на обладание сверхопытным знанием, поскольку, согласно его же представлению, из опыта такое знание получить невозможно. Однако разделение на опытное и сверхопытное a priori всегда произвольно и в конечном счете не может быть чем-то большим, нежели трюком, поскольку нет такого судьи, который был бы способен, встав над всеми данными нашего сознания, указать, где именно пролегает эта черта. Как пила не в силах распилить саму себя, так и сознание не может осознать собственное основание.
Вот почему я говорю, что смысл — условие осмысленности, но не ее «основание», «существенная часть» или что-нибудь в этом роде. Это значит, что смысл не входит в сферу осмысленности; условие осмысленности не является ее составной частью. Дело обстоит иначе: в осмысленности мы имеем не более чем след смысла.
Чтобы прояснить эту метафору и высказанный тезис о смысле как условии осмысленности, дадим понятийное толкование категорий «смысл» и «осмысленность».
Я определяю смысл как различенность, сворачивающуюся в тождество и разворачивающую тождество1.
Различенность и тождество составляют две фундаментальные характеристики смысла. Но это не отдельные его черты, т. е. не такие, которые могли бы рассматриваться отдельно друг от друга и которые проявлялись бы как отделенные одна
79
от другой. Говоря это, я вовсе не хочу указать на какую-нибудь их «диалектическую связь». Нет: эти две категории по самой своей сути рефлективны, опрокинуты одна в другую и предстают одна как другая. Различенность может иметься только потому, что представляет собой целиком тождество; и тождество только потому имеется, что оно целиком различено. Мы не можем различить иначе, нежели полагая тождественность различаемого; и мы не можем полагать тождество (включая самотождество), не полагая его различенность.
Если смысл — это различенность-и-тождество, то различенность и тождество не «связаны» каким-то отношением, пусть даже диалектическим, чудесно «превращающим» одно в другое1. Нет, они являются одно — другим. Различенность и есть тождество, а тождество и есть различенность; не так, что мы могли бы представить их отдельно друг от друга даже в качестве момента движения мысли. Одно — целиком другое. Вот почему смысл является целостностью.
Из сказанного должно быть ясно отличие целостности и от целого, и от единства. Целое является иным, нежели те части, которые его составляют; и единое является иным, нежели множественность, к нему приводимая. Это свойство целого и единства быть иными в отношении того, что их обосновывает и к чему они в каком-то смысле сводятся, т. е. их свойство быть иными в отношении самих же себя, взятых в другом отношении, приводит к неизбежным и неразрешимым парадоксам: мы никогда не можем сказать, где порог, отмечающий возникновение целого вместо конгломерата частей (в какой момент на конвейере возникает «автомобиль» вместо набора узлов и агрегатов? когда множество зерен превращается в «кучу»?), и мы не можем помыслить подлинное единство, поскольку мысль о нем всегда будет присоединять к нему что-то другое, разрушая его.
Не такова целостность. Целостность не является ни единым, ни целым. Главной ее чертой служит вот что: она не может быть зафиксирована; это означает, что целостность не может быть схвачена посредством задания предела1. Вот почему целостность — не точка Николая Кузанского, и различие, хотя и предстанет для кого-то трудноуловимым, между тем принципиально.
Сказанное лишь на вид может показаться сколь-нибудь сложным: мы вскоре перейдем к примерам, которые покажут, что в этом нет никакой «премудрости» и что, напротив, это положение совершенно ясно и неизбежно будет принято любым, кто задумается, каким образом можно достичь осмысленности как различенности. Мы не можем «обладать» смыслом, он не дан нам, — но в осмысленности всякий без труда различит след смысла, след целостности.
80
Этот «след» не останется метафорой, он получит ясное понятийное истолкование и наполнение; более того, именно ради такого истолкования, анализа и прояснения и задумано все, что сказано здесь. Но пока для меня важно указать в самом первом приближении на различие смысла и осмысленности. Я определяю осмысленность как различенность, сохраняющую след целостности, но не саму целостность. Откуда в осмысленности след целостности, — на этот вопрос я даю пока только такой ответ: это — след смысла, составляющего условие осмысленности. Важнейшие характеристики осмысленности и законы, управляющие смыслополаганием, системны и неслучайны, и толкование их как следа целостности представляется мне на сегодня наиболее удачным.
Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению этих характеристик и законов, я завершу введение понятий, которые понадобятся нам в дальнейшем.
Всеобъемлющий и предельный характер категории «осмысленность» исключает какие-либо параллели с понятиями «значение» и «смысл», как они используются в семиотике, логике, лингвистике и других науках. Традиционный семантико-семиотический треугольник «соединяет» означающее, означаемое и значение, как если бы это были некие относительно автономные сущности, принадлежащие к различным разрядам. Чтобы построить такой треугольник, мы должны заранее принять, что означаемое — нечто отдельное и отделяемое от значения; что оно дано независимо от своего значения. Пусть значение — не более чем стрелка, соединяющая означающее и означаемое, пусть значение — это их связь; чтобы такая связь могла быть выстроена, мы должны предварительно иметь и означаемое, и означающее. Мы должны как будто держать их в руках, чтобы можно было связать их веревочкой значения, сказав, что значением означающего является означаемое. Такой семантико-семиотический треугольник содержит в зародыше понимание знака и знаковой функции, как оно развито в семиотике; он содержит также разведение значения как отсылки к объекту реального мира — и смысла как ментального представления такого объекта. Однако построить такой треугольник можно, только приняв заранее, что имеются некие объекты внешнего мира, которые мы каким-то образом «имеем», независимо от их значений, как данные нам неким первичным, изначальным образом. Ведь мы должны сперва знать, что такое «означающее» и «означаемое», чтобы затем установить «значение» как их связь. Значение в его семиотическом или семантическом понимании оказывается производным и вторичным в сравнении с первоосновными фактами бытия означающего и означаемого. Что такая трактовка выстроена на основе традиционной фундаментальной связки «бытие-знание», достаточно очевидно. Но вопрос не в этом; вопрос в том, откуда и как мы можем знать, что такое «означающее» и «означаемое» (а такое знание необходимо предшествует установлению «значения» как их связи), если не обладаем их значением?
Вопрос этот в конечном счете очень прост: можно ли свести значение к чему-
либо? Что сама идея не просто возможности, но необходимости такого сведéния безраздельно господствует и в философии, и в науке, свидетельствует
81
обилие соответствующих учений — от прямолинейных теорий отражения до замысловатых доктрин, помещающих значение в сфере деятельности и использования. Между тем желание свести значение к чему бы то ни было представляется абсурдным, поскольку то, что служит основанием такого сведения, само должно прежде обладать неким значением, ибо должно входить в сферу нашего знания. Получается, что мы в лучшем случае можем свести одно значение к другому, которое считаем по каким-то причинам более твердо установленным или понятным, но вовсе не к чему-либо за пределами самого значения. Это кажется само собой ясным, если не тривиальным; это вытекает если не из приведенного рассуждения, то хотя бы из того простого и, как мне представляется, для всякого человека очевидного соображения, которое заключается в том, что любая деятельность, к которой предположительно хотели бы свести значение, сама является чем-то осмысленным, следовательно, чем-то, обладающим значением, и только в таком качестве мы можем ею располагать. Иначе говоря, невозможность свести значение к чему-то вне и до значения вытекает из предельного характера категории «осмысленность», которая задает абсолютное поле, куда вписывается любая наша деятельность, любое состояние нашего сознания.
Если невозможность свести значение к чему-то более фундаментальному столь очевидна, что с ней не может не согласиться любой человек, подойдя к этому вопросу непредвзято и без предрассудка, то почему же в философии и науке столь безраздельно господствует стремление к подобному сведéнию?
Ответить на этот вопрос, мне кажется, несложно. Ученый стремится поставить рассуждение на твердую почву, сделать его доказательным в тех рамках, в которых оперирует его наука. Семиотик, семантик или логик сводят значение к чему-то, что обладает твердо установленным статусом бытийствующей вещи; проверка оправданности такого статуса уже выходит за пределы компетенции их наук, а потому они имеют право этим не интересоваться. Философия как будто не обладает возможностью вывести обоснование своих тезисов за рамки собственной компетенции, поскольку суть философского вопрошания и заключается в проверке оправданности любых, в том числе предельных, утверждений. Однако философ не меньше, чем ученый, стремится обрести прочное основание для своего рассуждения. Между тем в самом значении до сих пор не отыскивали ничего, что могло бы составить такую твердую почву, ничего, за что могло бы уцепиться твердое рассуждение. Показательно вскользь брошенное в «Философии логического атомизма» замечание Б. Рассела:
Я думаю, что понятие значения всегда более или менее психологично и что невозможно получить ни чисто логическую теорию значения, ни, следовательно, символизма [Рассел 1999: 12].
Считается, что можно уверенно обсуждать только то, что связано со значением (например, психологические «механизмы» восприятия и передачи значения), но не само значение.
82
Это представление о невозможности обсуждать «само значение» и управляющие им законы должно быть отброшено. Видимо, уже стало ясно, что я не использую принятое деление на «значение» и «смысл» (оно теряет почву вместе с отказом от представления о фундаментальности категориальной связки «бытие-знание») и наделяю категории «смысл» и «осмысленность» тем пониманием, которое было очерчено выше: для меня существенным и первичным является разведение именно этих категорий. Здесь не место более подробно, чем это уже сделано, говорить о смысле. Дальше речь пойдет об осмысленности и смыслополагании, о законах, управляющих этой сферой.
Было неоднократно сказано, что «смыслополагание» — всеобъемлющая категория. То, что я собираюсь сделать, к чему приступаю, намереваясь повести речь о том, что такое осмысленность, — является также смыслополаганием. Это так; и все же это — особый тип смыслополагания. Его особый характер заключается в том, что он обращен сам на себя; что он, иначе говоря, рефлективен. Такая рефлексия имеет целью выявить закономерности, управляющие поведением осмысленности. Можно называть этот тип смыслополагания смысловыявлением; я также буду говорить о нем как о логико-смысловом описании (суть названия прояснится позже).
Осмысленность, составляющая сферу обитания человека, является, если можно так выразиться, неоднородной. Осмысленность дана нам в разных обличьях, она как будто «сложена» из различных слоев. О чем именно пойдет у нас речь? Конечно, не обо всем. Изучение закономерностей смыслополагания находится в самой начальной стадии. Однако уже сейчас можно уверенно говорить о том, что есть два ясно выделяемых и ясно различаемых «уровня» смыслополагания. Это — уровень речи и уровень теоретического мышления.
Каково основание для их выделения и различения? Есть «обыденные» соображения в пользу этого, и есть аргументы, сформулированные на логико-смысловом языке.
«Обыденные» соображения вполне очевидны. Естественный язык составляет едва ли не главную отличительную черту человека, а способность к речи, наряду с языковой способностью, т. е. способностью к овладению естественным языком, отличает именно и только человека. Естественный язык не сводим ни к чему, и для любых «искусственных языков» (оправданность этого понятия неоднократно и справедливо ставилась под сомнение) он останется метаязыком.
С обыденной точки зрения представляется вполне очевидным, что речь составляет преимущественную сферу смыслополагания. Часто говорят, что язык способен выразить любую мысль человека, вообще все, что тот хочет сказать. Это, конечно, не так; такое преувеличение, допускаемое лингвистами, вполне объясняется характером их отношения к своему предмету. Всякий знает, сколь часто мы «не находим слов», всякому известно, что есть вещи, о которых «невозможно поведать словами» и о которых нельзя дать знать другому. Речь — это очень важная, но не абсолютная сфера смыслополагания. Язык способен отразить и выразить очень многое,
83
но далеко не все. Мы увидим, что это — не случайное обстоятельство и не какой-то «дефект» языка: такая неспособность коренится в его логико-смысловом устройстве.
Выделение речи в качестве особой сферы смыслополагания имеет свое ясное логико-смысловое обоснование. Может быть, сейчас рано говорить о нем, поскольку мы еще ничего не сказали о законах смыслополагания. И все же дадим хотя бы намек, пусть он вполне разъяснится позже. Дело в том, что в речи соединяются разные системы законов смыслополагания, т. е. разные логики смысла. Речь (как и предоставляющий ей формальные средства язык) не монологична, она полилогична. Вместе с тем различные логики смысла, представленные в речи, использующей естественный язык, не сведены в какую-то стройную систему: они просто сосуществуют одна рядом с другой. Таково поистине удивительное свойство нашей речи и языка: мы находим в них возможность переключаться — хотя и с существенными ограничениями — между разными регистрами смыслополагания, между разными логиками смысла. Это обстоятельство делает речь своеобразной «смотровой площадкой» логик смысла и дает возможность прикоснуться к мышлению инологичной культуры, оставаясь в пределах собственной речи и языка.
Под теоретическим мышлением будем понимать любую сферу теоретизирования, в той или иной мере осознающую свой объект и предмет и стремящуюся последовательно и полно описать его. В некоторых случаях теоретическое мышление пытается выявить закономерности, управляющие объектом исследования, в других такая задача не ставится. Примером первого может служить наука, примером второго — право или вероучение. Главным для теоретической сферы является стремление построить связное, единое описание своего объекта, для чего требуется в той или иной мере рефлективное отношение к выстраиванию этого описания и, следовательно, выработка теоретического аппарата.
С логико-смысловой точки зрения теоретическая сфера отличается от речевой своей монологичностью, т. е. тем, что она построена на единственной логике смысла (единой системе законов смыслополагания). Движение от речи с использованием естественного языка к теоретическому языку — это движение от неотрефлектированного к отрефлектированному смыслополаганию и тем самым — движение от полилогичности к монологичности. Впрочем, уже на уровне речи намечается тенденция к преобладанию той или иной логики смысла. Но это только тенденция; речь слишком многообразна и в силу этого слишком гибка, чтобы наметившееся преобладание одной логики смысла привело к полному вытеснению других. Однако именно это происходит на уровне теоретического мышления, которое представляет собой контролируемое смыслополагание. Этот контроль, преследующий прежде всего цель установить связность, и приводит к вытеснению конкурирующих логик смысла и доводит преобладание одной из них, наблюдаемое в сфере речевого (естественно-языкового) смыслополагания, до полного и безраздельного господства. Дело в том, что логики смысла несовместимы, поэтому достижение
84
связности в области теоретического мышления идет по пути вытеснения всех, кроме одной, которая и оказывается господствующей.
Итак, речевая и теоретическая сферы ясно различаются в логико-смысловом отношении. Рассматривая законы смыслополагания, мы будем говорить о них применительно к этим двум сферам.
От этих двух сфер смыслополагания, которые составят объект нашего исследования, следует отличать логико-смысловое описание. Задачей логико-смыслового описания является выяснение законов, руководящих смыслополаганием в названных двух сферах. Это — как будто инструмент, позволяющий нам работать с этими двумя сферами, наблюдая, с одной стороны, как именно проявляются в них законы смыслополагания, а с другой — замечая, насколько полно эти сферы выявляют возможности смыслополагания. Ведь если осмысленность сохраняет след целостности, то этот след бывает сохранен в большей или меньшей мере, и реально выстроенное знание может больше или, наоборот, меньше соответствовать той полноте, которая достижима в сфере осмысленности и которая составляет след целостности.
Наконец, отдельно выделим область методологии. Исследование культуры как способа смыслополагания предполагает логико-смысловой подход, нацеленный на выявление закономерностей смыслополагания в изучаемой культуре и использующий специальные приемы логико-смыслового исследования. Систематизация таких приемов и их описание и составляют область логико-смысловой методологии исследования культуры.
Рассмотрение вопросов смыслополагания будет сфокусировано на теме инаковости культур. Это никак не ограничивает по существу значимость законов смыслополагания и сферу их действия. Закономерности смыслополагания, а значит, и методология логико-смыслового исследования универсальны.
Всеобщность категории «осмысленность» соответствует характеру категории «культура». Определяя культуру как способ смыслополагания, мы задаем не просто широкое, но универсальное ее понимание. Остаются в силе слова, сказанные одним из организаторов и первым руководителем московского семинара «Культура как способ смыслополагания» Г. А. Ткаченко: словом «культура» мы договорились пользоваться «как псевдонимом совокупности факторов, влияющих на поведение (в том числе речевое) носителей той или иной “культуры”» [Ткаченко 2008: 80].
«Культура» не понимается как сумма произведенных благ, духовных или материальных; культура не понимается в своей противопоставленности природе. Культура вообще не понимается как нечто пред-стоящее и отделенное от нас, зафиксированное в какой-либо форме данности, будь то объект или текст. Культура — это способ, благодаря которому выстраивается такая сумма благ, благодаря которому даны «объекты» культуры или ее «тексты». Конечно, и в «объектах», и в «текстах» просвечивает тот способ, которым они «сделаны», — но все же даны-то именно объекты и тексты, а не сам этот способ. Попытка схватить законы смыслополагания и, далее, проследить их действие на конкретных «объектах» или «текстах» культуры — вот наш путь к тому, чтобы понять культуру как способ смыслополагания.
85
В этом понимании культуры как способа смыслополагания важна универсальность: культура — не какая-то особая область жизнедеятельности человека наряду с другими подобными областями, культура — это основание любой такой области, это тот способ, которым «сделана» жизнь человека.
Самосознание и сознание. Осмысленность как след целостности
Все, что было сказано до сих пор, составляет по сути предварительные замечания, подготовившие почву для разговора об осмысленности. Я определил осмысленность как различенность, сохраняющую след целостности. Эти две черты — различенность и след целостности — и покажут нам, что такое осмысленность.
Для любого из нас несомненным фактом опыта служит наше Я. Сама эта фраза имеет тот смысл, что Я открыто нам, — иначе мы не могли бы говорить о том, что Я составляет несомненный факт опыта. Но это лишь означает, что Я открыто самому себе. Факт самосознания, составляющий для любого человека нечто самое достоверное и наиболее близкое, непосредственное, — этот факт означает, что Я и равно, и не равно самому себе. Самотождественность Я, взятая как таковая и якобы составляющая, как иногда ошибочно думают, исключительное содержание самосознания, не могла бы иметь место без того, чтобы быть не-само-тождественностью. Будучи только самотождественностью, самосознание (осознание нами своего Я как именно Я) перестает быть собой. Самотождественность Я невозможна без того, чтобы не оказаться вместе с тем, в силу самого факта самотождественности, не-самотождественностью.
Фактом самосознания, таким образом, является самотождественность-и-несамотождественность Я. Это — сложное отношение, причем сложность его вытекает из него самого, иначе говоря, из содержания этого отношения. Содержанием самосознания является это отношение, а отнюдь не чистое Я.
Когда я произношу фразы вроде «я иду» или «я пишу», в качестве субъекта в них выступает не само-по-себе Я. В самом деле, никто не вообразит, что само-по-себе чистое Я, то Я, которое дано нам в самом достоверном внутреннем опыте, — что это самое Я сейчас шагает по улице или стучит по клавиатуре компьютера. Это чистое Я как таковое не может иметь касательства ни к чему — именно потому, что оно абсолютно. Когда мы говорим «я иду» или «я пишу», мы имеем в виду какое-то другое «я», которое можем полагать субъектом в этих (и бессчетном множестве других) фразах.
Это — то самое «я», которому дано Я в факте самосознания. И в то же время это «я» не является иным, нежели Я: в силу самотождественности-и-несамотождественности Я мы не можем полагать Я субъектом таких фраз, но не можем полагать их субъектом и что-либо иное. Эта парадоксальность является самым фундаментальным фактом нашего самосознания — и нашего сознания.
Говоря «я иду» или «я пишу», мы вводим в рассмотрение то, что называют внешним миром. Я иду, конечно же, не «внутри» своего Я; именно потому, что
86
Я абсолютно, мое хождение предполагает что-то иное-чем-Я. Сознание внешнего мира является необходимым коррелятом самосознания. Сколь парадоксально самосознание, содержанием которого служит самотождественность-и-несамотождественность, столь же парадоксально и сознание «внешнего мира», в котором тот выступает как иной, нежели Я, но не инаковый в отношении его.
Что подразумевает разведение «иного» и «инакового»? Говоря об ином-чем-Я, мы указываем на разницу между ними, фиксируем минимальную степень различенности. Говоря об «инаковости», мы подразумеваем не просто разницу между двумя, — мы говорим об их разорванности. Инаковость я определяю как разрыв связности.
В отношении Я невозможно говорить об инаковости; иначе говоря, Я не может быть инаковым ничему, поскольку всеобщая связность нашего сознания обеспечена только Я. Это значит, что Я является иным, но не может быть инаковым в отношении любого факта нашего сознания.
Почему это так? Об этом опять-таки свидетельствует несомненная достоверность нашего опыта. Ведь не бывает простого сознания «я иду»; нет, «я иду» непременно «по городу», «по улице», «по лесу» и т. д. С одной стороны, Я считает все прочее иным в отношении себя; в нашем примере — «город», «улицу» или «лес». С другой стороны, «город», «улица» и «лес», будучи иными-чем-Я, не являются вместе с тем инаковыми в отношении Я: они связаны с Я настолько прочно, что, не будь Я, не было бы и их. Они — продолжение Я; мы можем сказать: развернутость Я. Это очевидно не только во фразах, подобных разбираемой, где «я» выступает в качестве субъекта и потому притягивает к себе, центрирует все смысловые пучки фразы. Это так и в любой фразе, где «я» не является субъектом. Ведь полагая субъект фразы, иной в отношении него, Я в силу этого сопровождает высказываемую фразу, и без такой связанности с Я никакая фраза, имеющая субъектом нечто иное, чем Я, не могла бы состояться, поскольку потеряла бы свою связность, а значит, осмысленность. Полагать иное-чем-Я — вот что значит полагать любой (кроме «я») субъект нашего высказывания.
Этот предварительный, черновой набросок самосознания и сознания нужен для того, чтобы зафиксировать несколько тезисов, принципиальных для дальнейшего движения. Я не разворачиваю здесь намеченное понимание самосознания и сознания, как не разворачиваю понимание категорий Я, «внешний мир» и т. д. Цель — не это, а то, что будет развито на основе выдвинутых положений. Сами же эти положения стоит суммировать следующим образом.
Я представляет собой целостность1. К Я сходится так или иначе все содержание нашего самосознания и сознания; именно Я обеспечивает его связность,
87
т. е. неразрываемую связанность его отдельных моментов. Я как целостность не развернуто, и мы никогда не можем сказать, что такое Я. Однако все, что развернуто для нас, т. е. все наше самосознание и сознание, не является чем-то инаковым в отношении Я: это — развернутость целостности Я. В самосознании Я открыто самому себе; самотождественность-и-несамотождественность составляет содержание самосознания. В сознании для Я дано «все остальное» как иное-чем-Я, но не инаковое в отношении Я. Иное, но не инаковое — вот содержание сознания, рассмотренного в целом в его соотнесенности с Я. Отсутствие инаковости обеспечивает связность, составляющую важнейшую характеристику сознания. Инаковость я определяю как разрыв связности, и так понимаемая инаковость отсутствует, если мы говорим о соотношении Я и содержания нашего сознания. Это важно понимать, поскольку в других отношениях инаковость составляет факт нашего сознания.
Суммировав сказанное, пойдем дальше. Обратим внимание на один из выдвинутых тезисов. Он сводится к следующему. Не просто неотъемлемым от нашего сознания, но конституирующим его является тот факт, что Я полагает иным в отношении себя любой субъект, входящий в сферу нашего сознания.
Каждый может попытаться представить себе — хотя это совсем не легко, — что случилось бы, если бы такое полагание исчезло. Четкость линий, очертаний и границ предметов ушла бы вместе с этим: не-иные в отношении Я, предметы внешнего мира не были бы иными и в отношении друг друга. В самом деле, как я могу сказать, что «одно» — иное, нежели «другое», если прежде того не увижу, что оба они — иные-чем-Я? «Одно» и «другое» положены Я: Я полагает их как иные в отношении самого себя. Только потом и только благодаря этому «одно» и «другое» оказываются иными в отношении друг друга.
Такое полагание иного и является первичным актом смыслополагания.
Заметим, что речь идет о полагании иного, но не об отрицании. Это не случайно. В философии и логике употребляют «отрицание» так, как если бы его применение было само собой разумеющимся и даже необходимым, как будто одним и тем же было бы указать на разницу между двумя и сказать, что «одно — не другое». Это — глубокое заблуждение. Что такое отрицание, каково его подлинное место и отношение к другим категориям — все это нам предстоит рассмотреть.
Полагание иного: Я полагает «это» и «то» в качестве иных-чем-Я — со стороны Я является полаганием субъекта. Что такое «это» и «то», мы пока не знаем; сам факт такого полагания первичен в отношении какого-либо «знания». Это — фундамент возникновения осмысленности.
«Это» и «то» полагаемы Я в качестве субъектов. Это означает, что «это» и «то» отличаемы одно от другого. Отличение — вот исключительное содержание
88
категории «субъектность». Субъектом является то, что может быть отличено от других субъектов.
Отличие связывает субъекты, полагаемые Я, между собой — но не с Я. Отношение всего, что полагаемо Я, к самому Я, заключается в том, что оно — иное-чем-Я.
В чем разница между тем, чтобы «быть иным-чем-Я» и «отличаться» от чего-то другого?
Отличие предполагает отрицание. Мы отличаем «одно» от «другого», если связываем их отношением отрицания. Только сейчас в нашем рассуждении появляется категория «отрицание»: полагаемые Я субъекты предполагают отрицание как выражение их отличия друг от друга. Однако никакой из полагаемых Я субъектов не связан с самим Я отношением отрицания. Это вполне выяснится, как только мы определим отрицание.
Отрицание — это отношение между двумя, которое предполагает нечто внешнее, собирающее их. Это с одной стороны. А с другой, отрицание разделяет то, что связано взаимным отрицанием. Разделенность-и-связанность-через-внешнюю-собранность — вот что такое отрицание.
Имеются два типа отрицания. В одном случае отрицание разделяет субъекты, т. е. служит отличению субъектов друг от друга, а то, что является внешним для них и собирающим их, мы называем целым. Во втором случае отрицание служит различению субъекта, и тогда то, что собирает и связывает различенное, мы называем единым. В первом случае отрицание служит отличению, во втором — различению. Смысл введенных понятий разъяснится ниже, по ходу нашего рассуждения: мы увидим, что отличение возможно только благодаря различению. Данное выше определение категории «субъектность» мы можем развить, сказав: субъектом является то, что может быть отличено от других субъектов благодаря внутреннему различению. Почему и как именно — об этом мы подробно поговорим позже.
Итак, отличение — это отношение отрицания между субъектами. Отрицание — комплексное отношение, предполагающее и разделение, и связь. Когда отрицание служит отличению (а не различению), разделяемое связывается благодаря образованию целого. Содержание категории «целое» заключается в том, что целое связывает (собирает) субъекты, разделенные отношением отрицания.
Мы сейчас увидим, что отличение возможно только благодаря различению, и поговорим о том, что такое различение. Но прежде отметим следующее: целое, связывающее разделенные отрицанием и отличаемые один от другого субъекты, и составляет тот след целостности, о котором шла речь при определении осмысленности. Императивность целого, проявляющаяся в том, что мы не можем собрать отличаемые друг от друга субъекты иначе, чем в целом, составляет одно из двух проявлений целостности (о другом — единстве — поговорим позже). Ведь мы не можем просто разделить субъекты отрицанием; мы непременно должны и связать их, иначе такое разделение окажется лишенным осмысленности. Однако сами по себе разделенные отрицанием субъекты никак не могут быть собраны,
89
поскольку в них как таковых отсутствует начало собранности. Вот почему целое всегда — иное, нежели собираемые им члены, но не инаковое в отношении их.
Необходимость не просто разделить, но непременно собрать, связать разделяемое — эта необходимость коренится в самом устройстве осмысленности. Зададимся вопросом: как возможно отличение?
Казалось бы, мы уже ответили на него, когда ввели категорию отрицания. Сказав, что «А — не Б», мы отличили «А» от «Б». Путь этот простой: назвать и разделить отрицанием. Эта процедура придания имени (с последующим заданием формального отношения) сохраняла свою странную власть над умами с тех пор, как была создана книга Бытия и мы узнали, что «нарек человек имена всем скотам и птицам», и вплоть до настоящего времени: ей были и остаются равно покорны каббалисты, имяславцы и логики. — Но разве имя является первичным, исходным шагом на пути создания осмысленности? Разве не служит оно всего лишь сокращением сложной цепочки шагов, и разве не стоит за любым именем — сложная процедура смыслополагания?
Поясню, что имеется в виду. Передо мной куча зерен. Пусть меня интересует «вот-это» зерно, и я даю ему имя «А». Я могу переименовать все зерна этой кучи и построить отношение отрицания между зерном «А» и всеми остальными зернами. Что даст это мне, если я не знаю, ни что такое «А», ни что стоит за всеми прочими именами, ни что такое «куча»? Ровным счетом ничего: я не могу осмыслить эти имена; осмысленность всему этому построению (назначению имен и выстраиванию формальных отрицаний) придается извне, а не изнутри: именование нуждается в том, что обосновывало бы его, тогда как само оно ничего не обосновывает. Строить логику как манипулирование именами (программа, обычно возводимая к Лейбницу) — значит закрывать путь к возможности уловить, где и как завязывается осмысленность.
Между тем такой путь не составляет никакой тайны. Я могу понять, что такое «А» (когда «А» предстанет для меня как осмысленность), если, во-первых, я знаю, что такое «куча», а во-вторых, знаю, что такое любое из «зерен», составляющих эту «кучу», кроме интересующего меня «А». Только если для меня осмыслено целое и осмыслены все его составляющие, кроме данного, — только тогда для меня осмыслено и данное «А». Тогда имя — не просто непонятный ярлычок на неизвестном, оно тогда — сокращение для сложной процедуры отличения данного субъекта ото всех других, входящих в целое.
Такая процедура отличения через отрицание дает осмысленность потому, что логическое тут прямо соотнесено с содержательным: они связаны одно с другим. Осмысленность возможна только как целостная — вот что хочу я сказать; именно в этом и заключается след целостности, являющийся, наряду с различенностью, конституирующей характеристикой осмысленности.
Здесь мы впервые прикасаемся к важнейшему принципу соотнесенности логического и содержательного (принципу логико-содержательной соотнесенности), к которому будем обращаться неоднократно. След целостности проявляется в осмысленности как принцип логико-содержательной соотнесенности.
90
Принцип логико-содержательной соотнесенности
Мы могли видеть проявление принципа логико-содержательной соотнесенности в том, как выше было определено отрицание. Ведь мы сказали, что отрицание — это разделенность-и-связанность-через-внешнюю-собранность. Такое определение не является формальным.
Обычно говорят, что формальный подход требует отвлечься от содержательности. Но это — только одна сторона дела. Обратим внимание на другую: всякое формальное определение является само по себе чем-то содержательным. Форма отвлекается от любого вкладываемого в нее содержания, — но вовсе не от того, которое составляет ее саму. Давая формальное определение, мы никогда не можем отвлечься от содержательности вовсе; напротив, мы объявляем некую содержательность — как будто и не содержательностью, а чем-то еще, пригодным к тому, чтобы вместить любое содержание.
Это влечет парадокс поиска абсолютной формы: ведь если данная форма — форма не для любого содержания, а только для некоторого типа содержаний, которые она может «вместить», тогда как сама по себе является, в свою очередь, содержанием, то и для нее, рассматриваемой как содержание, должна иметься своя форма. Но и эта форма, рассматриваемая сама по себе, будет не чем иным, как некоторым содержанием, а значит, будет предполагать и для себя форму, которая «вмещала» бы ее наряду с другими подобными содержаниями.
Такой поиск «формы форм» не может не быть бесконечным, а значит, на этом пути мы никогда не достигнем подлинного начала знания; если стремление к абсолютной форме выражается как поиск абсолютного метаязыка, парадокс по своей сути сохраняется, и абсолютный метаязык оказывается недостижим, поскольку любой претендент на такое звание должен, в свою очередь, быть описан в части своей грамматики и лексики, а значит, с необходимостью предполагает некий метаязык. Сам путь формализации является тупиковым с этой точки зрения — с точки зрения поиска действительного начала осмысленности, поскольку всегда предполагает уже достигнутую осмысленность: для любого языка должен быть метаязык, любая форма сама должна быть содержанием.
Это очень важно понимать, чтобы зафиксировать подлинное значение и место принципа логико-содержательной соотнесенности. Он является проявлением принципа целостности — ведущего, стержневого принципа логико-смыслового описания осмысленности. Мы увидим, как он соотносится с принципом формального описания, предполагающим априорное разделение на форму и содержание.
Вернемся к примеру, который рассматривали. Мы увидели, что имя получает осмысленность только через отличение как целостную процедуру. Рассмотрим ее теперь более подробно.
При осуществлении процедуры отличения мы считали, что нам известно, что такое все «зерна», кроме зерна «А». Чтобы отличие неизвестного для нас зерна «А» от всех зерен «кучи» стало осмысленным, нам должно быть известно, что такое
91
зерна «Б», «В» и т. д. и что означает их отличие друг от друга. Иначе говоря, чтобы процедура отличения, описанная выше, могла иметь место, чтобы осмысленность имени «А» могла быть достигнута, нам должно быть заранее понятно, что значит, что «зерно “Б” — не зерно “В”», и так далее для всех зерен кучи, кроме зерна «А». Отличие одного зерна от другого, отличие одного субъекта от другого обосновывает рассмотренную процедуру.
Как возможно такое отличение? Благодаря чему мы можем осмысленно утверждать, что «“А” — не “Б”»? В каком случае и имена «А» и «Б», и отрицание «не» оказываются для нас осмысленными? Откуда они эту осмысленность черпают?
Чтобы такое отличение могло иметь место, необходимо, чтобы «А» и «Б» были различены: отличение возможно только благодаря различению, и только внутренняя различенность субъекта придает осмысленность и отрицанию «не-», и каждому из имен «А» и «Б». Что же такое различение?
В первом приближении определим различение как установление внутреннего смыслового наполнения. Другой подсказкой послужит следующее: различение можно понимать как приписывание субъекту предикатов. Мы отличаем один субъект от другого не благодаря тому, что они имеют разные имена; напротив, разные имена они могут получить только в результате того, что мы прежде отличили их один от другого через внутреннее различение, т. е. благодаря предикации.
Мы можем теперь уточнить сделанное выше утверждение. Мы говорили, что Я полагает субъекты; скажем теперь, что Я полагает не просто субъекты, а субъект-предикатные комплексы. Ведь субъекты, полагаемые Я, всегда отличены один от другого (об этом свидетельствует наш внутренний опыт), а это означает, что любой субъект, полагаемый Я, должен быть различен, т. е. наделен рядом предикатов.
Итак, любой субъект несет ряд предикатов, различающих его. Такой субъект-предикатный комплекс мы и называем словом «вещь». Заметим, что по самому смыслу этого определения вещь всегда различена и потому отличена от других вещей.
Каковы основные закономерности различения; как оно протекает? Построим ответ на этот вопрос, рассмотрев простой пример.
Пусть некто говорит нам, что имеется белая и тяжелая вещь и, далее, имеется сладкая и шершавая вещь. Можем ли мы из этого заключить, идет ли речь о двух вещах или об одной?
Конечно, нет. Может быть, мы говорим о большой сахарной голове, которая и белая, и тяжелая, и сладкая, и шершавая на ощупь. А может быть, имеются в виду две разные вещи: белая и тяжелая сахарница, с одной стороны, а с другой — сладкий и шершавый сахар в ней. Не зная заранее, что вещей именно две, а не одна (или, наоборот, что вещь одна, а не две), мы никогда не сможем это установить на основании перечисленных атрибутов.
Очевидно, что с формальной точки зрения, т. е. с точки зрения формальной логики, атрибут «белый» — это не атрибут «тяжелый», и не атрибут «сладкий», и не атрибут «шершавый». Поименовав эти атрибуты первой буквой их имен
92
и связав их формальным отрицанием, мы можем сказать, что «“Б” — не “Т”», «“Б” — не “С”» и так далее для всех возможных комбинаций имен «Б», «Т», «С» и «Ш». Мы можем объединить «Б» и «Т», с одной стороны, и «С» и «Ш» — с другой, и сказать, что «“Б и Т” — не “С и Ш”». Иначе говоря, с точки зрения формальной логики мы можем построить отношение отрицания между группами атрибутов «белый и тяжелый», с одной стороны, и «сладкий и шершавый» — с другой. Однако все эти формально-номинальные комплексы ровным счетом ничего не говорят о том, имеется ли отношение отрицания между субъектами — носителями этих двух групп атрибутов или такого отношения не имеется и субъект — их носитель один.
Это означает только одно: набор предикатов «белый, тяжелый, сладкий, шершавый» не служит различению, поскольку не дает возможности установить или опровергнуть отличие друг от друга субъектов — носителей этих предикатов. Формально-логическое отрицание «не-» устанавливается между этими предикатами, однако устанавливается оно на чисто формальном основании — на основании различия имен предикатов, никакого иного основания здесь нет. Так устанавливаемое отрицание ничего не дает для решения нашей задачи — установления единственности (или, напротив, множественности) субъекта — носителя этих предикатов.
Итак, в рассмотренном случае различение оказывается формальным, оно не является на самом деле (т. е. с точки зрения осмысления) различением, поскольку не позволяет установить или опровергнуть отличие различаемых субъектов.
Рассмотрим другой пример. Мы узнали, что имеется белая и тяжелая вещь и что имеется черная и легкая вещь. Можем ли мы теперь установить, идет ли речь об одной вещи или о двух?
Безусловно. Более того, мы, вне всякого сомнения, будем утверждать, что имеются именно две вещи, а не одна, и что одна вещь не может быть различена благодаря этим предикатам.
В чем же отличие первого случая от второго? Можем ли мы установить это отличие формально-логическими средствами?
Поступим, как раньше, и назовем предикаты по первой букве их имен: «Б», «Т», «Ч» и «Л». Какая разница, скажем ли мы, как в первом случае, что «“Б и Т” — не “С и Ш”», или же, как в данном, что «“Б и Т” — не “Ч и Л”»? С формально-логической точки зрения разницы нет никакой, — ведь формальная логика потому и формальна, что не интересуется конкретным содержанием, стоящим за используемыми ею значками, считая, что только такая отвлеченность позволяет открыть универсальные закономерности. Однако здесь она дает сбой: ведь именно во втором случае мы не просто можем, но обязаны утверждать отличие друг от друга субъектов — носителей этих двух групп предикатов, тогда как в первом случае мы этого сделать не можем. Именно во втором случае отрицание «не-» как будто пересекает границы отношения между предикатами и «дотягивается» до субъектов — их носителей, отличая их один от другого. В данном случае субъекты действительно различены, поскольку отличаемы друг от друга.
93
Что же упускает из виду формально-номинальный подход, не видящий разницы между двумя принципиально различными случаями? Только одно: отрицание — это отношение, устанавливаемое всегда в пределах чего-то внешнего, собирающего разделяемое отрицанием.
Вернемся к нашим примерам и еще раз посмотрим на них. Мы увидим, что в обоих случаях мы, ничтоже сумняшеся, применили формально-номинальный подход, нарушив тем самым принцип логико-содержательной соотнесенности. Мы дали имена предикатам и установили между ними отношение отрицания, ни разу не задумавшись, имеем ли право это сделать. Ни в первом, ни во втором случае мы не поинтересовались, какова внешняя собранность того, что мы связываем отрицанием, — и поплатились за это тем, что результаты нашего формально-номинального подхода оказались не в ладах с внешним миром, поскольку не позволили решить простую задачу.
Мы, однако, смогли ответить на поставленный вопрос во втором случае, когда подразумевали (вопреки формально-номинальной установке) обязательную «собранность» различающих субъект предикатов и тем самым интуитивно восстановили логико-содержательную соотнесенность: внешняя собранность, устанавливаемая содержательно, уравновесила логическую сторону (отрицание). Отрицание бессмысленно без такой внешней собранности. Внешнюю собранность мы установили во втором случае, но не в первом, и именно в этом заключается принципиальное различие между ними. Во втором, а не в первом случае отрицание действительно осмыслено.
Что же подразумевается под «внешней собранностью» предикатов, которая устанавливается во втором случае и позволяет в конечном счете различить субъекты — их носители? Это выражение означает, что предикаты, различающие вещь, придаются ей не как попало. Мы точно знаем, что не может быть так, чтобы оба предиката — и «белый», и «черный» — были приданы вещи; как не могут быть приданы ей сразу предикаты «тяжелый» и «легкий». Это правило предицирования открывает для нас удивительный факт, который касается устройства поля осмысленности. Оказывается, оно таково, что различные имена рассыпаны в нем не просто так; они собраны определенным образом в гнезда. Вещь-субстанция (а именно о такого рода вещах мы ведем сейчас речь) может быть различена только одним предикатом, принадлежащим каждому такому гнезду, и не может получить сразу два или больше предикатов одного и того же гнезда. Именно это правило позволяет безошибочно установить, что вещей во втором примере две, а не одна, поскольку мы знаем, что предикаты «белый» и «черный» принадлежат одному гнезду, а «тяжелый» и «легкий» — другому. В отличие от этого, в первом случае все предикаты принадлежат разным гнездам, а потому мы не можем решить, различают они одну вещь или две.
Итак, имена, обозначающие предикаты, собраны определенным образом в некие гнезда. Эта собранность является внешней для предикатов — в том смысле, что их собирает то, что не принадлежит их собственному ряду. Для предикатов
94
«черный» и «белый» таким внешним, собирающим их является «цвет». «Цвет» задает границу того пространства содержательности, которое может быть сколь угодно подробно разбито внутри этой границы — в самом деле, мы можем припомнить много названий цветов и все равно не исчерпаем содержательного богатства «цвета», — а может быть разбито всего на две внутренние области, например на «белый» и «не-белый».
Внутри этого пространства (по внутреннюю сторону опоясывающей его границы) осмысленным становится употребление отрицания. Мы можем говорить, что «белый» — это «не-черный», «не-синий» и так далее. Осмысленность возникает оттого, что мы в данном случае знаем, что любой цвет, отделенный от белого отрицанием, не только отделен, но и одновременно связан с белым благодаря их внешней собранности «цветом». Такое отрицание точно определяет координаты намечаемого пространства содержательности.
В самом деле, пространство содержательности внутри той границы, которая намечена «цветом», определенным образом и достаточно жестко размечено. «Черный», говорит Аристотель, дальше от «белого», нежели «серый», и более противоположен ему. Мы не чувствуем в этих словах чего-то неестественного, такого, с чем не могли бы согласиться. Между тем располагаться ближе или дальше можно, только если задан способ измерить расстояние и если само расстояние наличествует; иначе мы никогда не могли бы сказать, что синий, к примеру, ближе к фиолетовому, нежели белый.
И еще одно наблюдение. Если из смыслового гнезда, заданного как «цвет», хотя бы один предикат различает некую вещь, то эта вещь непременно будет обладать одним и только одним предикатом из данного гнезда и не может не обладать ни одним из них.
В последнем утверждении читатель без труда узнает парафраз закона исключенного третьего, обычно приводимого третьим в списке Аристотелевых логических законов. Мы, по сути дела, назвали и второй из них — закон противоречия, сказав, что «цвет» делится на «белое» и «не-белое». Поскольку вещь может обладать только одним предикатом из данного гнезда, то, если она обладает предикатом «белый», мы точно знаем, что эта вещь отличается (она «не есть») от вещи, которая обладает любым из предикатов, помещаемых в область «не-белого». Именно основываясь на этом, мы и сказали, что в нашем втором примере наверняка фигурируют две вещи, а не одна. Наконец, и первый Аристотелев закон — закон тождества — также имплицитно подразумевается нами, поскольку, говоря «вещь», мы имеем в виду тождественную себе и не изменяющуюся вещь; точно так же, говоря «белый» или называя любой иной предикат, мы подразумеваем его тождественность самому себе.
Так что же нового, спросит читатель, сказано здесь в сравнении с тремя Аристотелевыми логическими законами? Неужели мы потратили столько сил, разбирая два примера и вникая во все тонкости соотношения предикатов и субъектов, только для того, чтобы получить в конце концов длинное и тяжеловесное словесное описание того, что так компактно и изящно выражено в известной формальной записи
95
этих законов? Аристотелю нередко ставят в упрек тот факт, что он «не довел» дело формализации своего логического учения до конца и последующим векам пришлось потратить немало усилий, чтобы прийти к той формальной записи, которой мы привыкли пользоваться. При этом считается само собой разумеющимся, что у Аристотеля уже «подразумевалась» подобная формальная запись и дело было лишь за тем, чтобы ее изобрести и явить на свет, и что тем самым, т. е. путем формализации, ничего не теряется, тогда как выигрыш достигается огромный. Таким образом, исторической заслугой Аристотеля считают именно открытие того факта, что возможно формальное отображение умозаключений и что, следовательно, можно работать с закономерностями исключительно формы, никак не затрагивая содержание.
Именно последнее утверждение я и ставлю под сомнение. Мне представляется, что Аристотель не просто «не довел до конца» дело формализации своих построений, но что задуманная и реализованная им логика основана на интуиции, разрушаемой той самой формализацией, которую рассматривают как величайшее усовершенствование логических текстов Стагирита. Дело в том, что закон противоречия, как и закон исключенного третьего, осмысленно работает не при формальном понимании отрицания, а только при таком, которое предполагает внешнюю «рамку», в пределах которой задается отрицание. Но такая внешняя рамка, или, как я говорил, внешняя собирающая граница, не может быть задана формально, поскольку по самой своей сути она предполагает обращение к содержательному аспекту. Если мы имеем в виду предикат «белое», мы знаем, что такой внешней границей служит «цвет», — но этого никогда нельзя установить формально, без обращения к содержательностному аспекту. Мы должны совершить семантический скачок, чтобы понять это, — а для этого надо находиться в среде содержательности, а не в области формального или номинального. (Между тем понятие множества совершенно безразлично к аспекту содержательности.)
Это значит, что соотнесенность логического и содержательного (т. е. принцип логико-содержательной соотнесенности) заложена в самом фундаменте Аристотелевой логики и без такой соотнесенности та лишается своей осмысленности. Формализация, лишающая ее этого фундамента, превращает аристотелевские построения в частный случай, едва заметный в массиве современных формальных логических исчислений. Но не обстоит ли дело прямо противоположным образом и не является ли массив формализованных логических исчислений вырожденным случаем того, что задумывалось Аристотелем как логика?
Итак, повторю еще раз: мне представляется, что принцип логико-содержательной соотнесенности, который я считаю ведущим в описании осмысленности и альтернативным принципу формальности-и-номинальности, — мне представляется, что этот принцип лежит в основании аристотелевских логических построений, которые без него лишаются своего ведущего стержня. В самом деле, какой смысл в утверждении, что вещь не может быть одновременно «белой» и «не-белой», если мы при этом не подразумеваем, что «не-белое» — это некий цвет (и только цвет!), не являющийся белым? Если это сбрасывается со счетов,
96
закон исключенного третьего не может работать: если считать «не белым» все, что «не есть белое», то он попросту неверен, ведь «тяжелое» — не «белое», однако вещь может быть и тяжелой и белой одновременно.
Эта интуиция локальной определенности и опредéленности обосновывает гнездование поля осмысленности, т. е. его разбиение на отдельные участки, в пределах которых наблюдается плавность переходов, заставляющая нас испытывать трудности с намечанием твердо определенных внутренних границ. В самом деле, где кончается «белый» цвет и начинается «не-белый»? Сколько вариантов «белого» имеется? Ответов на эти вопросы может быть много, и задание границы между «белым» и «не-белым» всегда будет произвольным. Отметим сразу, что если в пределах такого участка поля осмысленности переходы являются плавными, то этого никак нельзя сказать о переходах между отдельными участками: здесь скорее наблюдается дискретность и скачкообразный перескок, нежели плавный континуальный переход. К этом вопросу о сегментации общего поля осмысленности, т. е. его разбиении на плохо сообщающиеся участки, мы еще вернемся.
Процедура смыслополагания: субстанциальный вариант
Определённость и опредéленность локального участка поля осмысленности достигается за счет задания предела, выражается как взаимная соотнесенность логического и содержательного и задает осмысленность благодаря такой соотнесенности. Эти тезисы раскрывают принцип логико-содержательной соотнесенности. Рассмотрим их более подробно.
Смысловое поле (поле смысла, а не осмысленности) как таковое абсолютно. Оно не имеет границ, причем не имеет их в силу самого устройства смысла. Если смысл — это различенность, сворачивающаяся в тождество и разворачивающая тождество, причем эта способность сворачиваться-и-разворачиваться является собственной, конституирующей смысл, то понятие границы попросту невозможно, оно в данном случае бессмысленно. Точно так же наше Я, являющееся как будто ничем (мы ведь не можем сказать, «что такое» наше Я, мы никогда не можем его определенно с чем-то отождествить), является вместе с тем — всем (мы не можем помыслить что-либо вне связи с нашим Я: все-что-угодно оказывается некой тенью Я, поскольку исчезает с исчезновением Я, хотя Я не может исчезнуть, пусть даже мы представим себе исчезновение всего прочего): Я свернуто в самого себя, но именно за счет этого и благодаря этому развернуто во все остальное. Такая свернутость-и-развернутость попросту исключает понятие границы, которое в данном случае неприменимо.
Заметим: из этого со всей очевидностью вытекает, что к Я неприложимо никакое из понятий, которые возможны благодаря и после задания предела, т. е. преодоления абсолютности Я. К числу таковых относится и отрицание, предполагающее нечто внешнее (целое либо единое), что собирает то, что разделено отрицанием. Невозможно построить отрицание Я, и ничто не может быть внешним, собирающим Я
97
и его отрицание и задающим им границу, — такое попросту нелепо. Хотя понятием «не-Я» широко пользовались, оно не может быть наполнено содержанием: за ним всегда стоит что-то другое, и оно выступает в качестве простого ярлыка, замещающего другие понятия.
Если смысловое поле абсолютно, то поле осмысленности представляет собой особое сочетание локально-определенных участков. Если смысловое поле — это целостность, то поле осмысленности являет лишь след целостности. Это — как будто имитация целостности; как будто восстановление того, что утрачивается с проведением границы. Установление предела, приводящее к появлению границы, разрушает самое главное свойство смысла — целостностную1 связность.
Способность сворачиваться-и-разворачиваться, быть сразу и-тем-и-другим, присущая смыслу, проистекает именно из связности. С заданием предела и, следовательно, проведением границы утрачивается связность того, между чем пролегает теперь граница, так что необходимы специальные средства и приемы, позволяющие эту связность — не восстановить, но имитировать. Вместе с тем внутри опредéленной области, там, где еще не пролегла граница, связность сохраняется, и потому дискретизация внутри локального участка поля осмысленности никогда не может быть задана окончательно (нельзя разбить участок «белого» на некие правильные под-участки: любое такое разбиение будет произвольным; поэтому и думают, будто значение всегда до той или иной степени произвольно, что оно «плывет», что оно психологично: след целостной связности, т. е. подлинности смысла, рассматривают как помеху, мешающую «ясно установить» значение).
Задание предела останавливает динамику смысла, прерывает его способность сворачиваться-и-разворачиваться. Эти отрицательные утверждения должны быть дополнены положительным: задание предела дает возможность опредéлúть. Именно так, с двумя ударениями в одном слове, показывающими, что опредéлить и определить — это одно и то же. Если и можно сказать, что одно следует за другим и вытекает из другого, то лишь как первенство того же порядка, что первенство движения руки, поворачивающей ключ, относительно движения ключа. Без первого не было бы второго, без определивания невозможно определение, — но их нельзя разделить, как мы разделяем две вещи; нельзя сказать, что одно — не другое.
Задание предела — это задание остановленной свернутости-и-развернутости. В этом суть осмысленности — в том, что мы оказываемся способны установить тождество двух состояний — свернутого и развернутого.
Задание предела, останавливающее и прерывающее внутреннюю способность смысла сворачиваться-и-разворачиваться, быть и-тем-и-другим, тем самым фиксирует в определенном состоянии обе стороны этой способности — логическую и содержательную. Мы сейчас увидим, как именно это происходит.
Задание предела прерывает внутреннюю динамику смысла не абы как, а строго определенным образом. Предел задается так, как то согласуется с определенной базовой интуицией вещи. Так логическое сочленяется с содержательным в соответствии с принципом логико-содержательной соотнесенности.
Каким образом задание предела согласуется с интуицией вещи? Как одно связано с другим, как они могут столь точно соответствовать одно другому?
Дело в том, что и то и другое — интуиция схватывания. Под схватыванием следует понимать фиксацию определенности; такую фиксацию, когда, предъявляя нечто (некую вещь), мы предъявляем это всегда одним и тем же образом, в одном и том же виде. Ближайшим образом схватывание разъясняется через определенность, и такое сближение с пределом, определиванием и определением совершенно не случайно.
Греческая мысль выработала интуицию вещи-субстанции. Интуицию непросто разъяснить тому, кто не обладает ею; едва ли, однако, читатель лишен интуиции понимания вещи как субстанции. Эта интуиция носит основополагающий характер не только для греческой, но и для наследовавших ей культур — для всего того макрокультурного ареала, который мы называем европейским, западным.
Основополагающую интуицию нельзя объяснить, ибо она сама служит исходной точкой любого объяснения. Можно, однако, показать, с чем она непосредственно сопряжена. Интуиция вещи-субстанции предполагает наглядную представленность. Такие вещи даны нам, будучи «перед глазами»; они — как кубики детского конструктора, как предметы на моем письменном столе, как дома, выстроившиеся вдоль улицы. Вещи-субстанции пребывают во времени, будучи пространственно развернуты. Наглядность как раз и предполагает пространство — в качестве некоего вместилища, в качестве того, что дает вещам пребывать. Время, напротив, дает вещам-субстанциям быть-и-не-быть; время как будто мешает им пребывать. Время должно быть снято для того, чтобы мы смогли окончательно, вполне схватить вещь-субстанцию; чтобы мы могли, иными словами, добраться до ее истины.
Вещь-субстанция как будто дана нам здесь и сейчас, в «этом реальном» пространстве и времени. Мы живем среди таких вещей, и обычный человек никогда не сомневается в их данности, т. е. в реальности (вещности) окружающего его мира. Но вещь-субстанция — это не просто данность; это непременно — схваченность,
98
фиксированность, истинность. Без этой фундаментальной интуиции не было бы и того множества вещей-субстанций, что окружают нас. Однако, будучи погружена во временной поток, вещь-субстанция ускользает от собственного бытия; она не может пребывать, поскольку не может быть схвачена в своей неизменности. Снятость времени требуется этой основополагающей интуицией вещи-субстанции; интуицией вещи как чего-то «вот-этого», данного нам (развернутого перед нами и для нас) в пространстве.
Снятость времени для этой интуиции и есть вечность. Вечность — это не-протекание времени; вечность тем самым — отсутствие времени, но такое, что пред
99
полагает и его сразу-присутствие. Поэтому вечность снимает не собственно время, а его протекание; протекание же означает изменение. Вечность устраняет любое изменение, которое могло бы иметь место благодаря протеканию времени. Такая вечность несовместима с течением времени, — постольку, поскольку течение влечет изменения.
Вечность стремится наложить свой отпечаток на любой момент времени, она стремится быть истиной для любого момента времени. Однако странным образом вместе со снятием времени, которое мы осуществляем ради достижения фиксированности вещи, — вместе с этим ускользает и исчезает сама вещь. Ведь вещи-субстанции развернуты в физическом пространстве; но вместе со снятием времени начинает ускользать и это пространство. Мы не можем представить себе то, что уже не под властью времени, но еще под властью пространства; каким-то непостижимым образом одно и другое связаны настолько прочно, что со снятием одного оказывается снятым и другое. Платоновская идея как вне времени, так и вне пространства: снятость первого устраняет и второе. И все же время здесь скорее и полнее поддается снятию, нежели пространство: совсем не трудно представить себе множество платоновских идей вне времени, но как представить себе их многообразие, а тем более упорядоченное многообразие, вне пространства — уже, конечно, не физического, но тем не менее именно пространства? Это вряд ли возможно, и перед нашим мысленным взором (заметим, все же взором, для которого необходимо, пусть и мысленное, но именно пространство) они предстанут как рядоположенные или упорядоченные — но в любом случае как находящиеся рядом. Это рядом необходимо для того, чтобы предъявить их, чтобы развернуть их. Наше воображение, соглашаясь на потерю времени, снимаемого ради схватывания истины вещи-субстанции, не уступает интуицию пространства, удерживая ее.
Это упорное нежелание уступить пространство не случайно. Ведь вещи-субстанции развернуты именно в пространстве, не во времени, и с утратой пространства мы теряем саму возможность их развернуть. Можно было бы вслед за Кузанцем представить их абсолютно свернутыми — в точку. Точка как будто не принадлежит пространству: не имея измерений, она — пространственное ничто, поскольку любое пространственное нечто обязано обладать хотя бы чем-то измеримым. Точка поэтому — абсолютный минимум, как говорит Кузанец: меньшую свернутость представить невозможно. И все же странным образом точка, как будто не принадлежа пространству, вместе с тем ему безусловно принадлежит, поскольку пространство как будто соткано из мириад точек. (И даже если это выражение, строго говоря, неверно с позиций той математики, которой мы пользуемся, тем не менее все эти точки могут быть получены пересечением линий, т. е. все-таки могут быть представлены как покрывающие пространство.) Теперь уже точка — абсолютный максимум, поскольку она всегда превышает любое нечто. Будучи абсолютной свернутостью, точка у Кузанца становится и абсолютной развернутостью: она как будто разворачивается в любое «нечто», а также всегда и во что-то большее, чем это «нечто». Точка и в самом деле была бы удачно найденным пространственным
100
образом свернутости-развернутости, если бы мы знали, как она разворачивается и как из свернутости получить развернутость; если бы мы могли установить тождественность свернутого и развернутого. Именно этого так не хватает нашей точке: будучи и больше всего, и меньше всего, она никак не может стать просто чем-то; легко занимая крайние положения, не способна сама по себе встать в любое из промежуточных. Для этого ей нужно что-то еще — то, что восполнило бы недостаток определенности. Точке, иными словами, не хватает силы задать предел.
Точка стремится свернуть пространство, как будто сохраняя свою принадлежность к нему, — ведь она обладает нулевым, но все же измерением. Эта как-будто-принадлежность — а вместе с тем и не-принадлежность — и дает точке возможность как будто превратиться во все, представив любое нечто как собственную развернутость. В этом отношении точка отлична от вечности: вечность не является свернутостью времени и не разворачивается во время. Нам трудно представить, чтó могло бы сворачивать время так, как точка сворачивает пространство; и чтó могло бы снимать пространство так, как вечность снимает время. Пространство и время в самом деле прочно спаяны — но они асимметричны.
Предел, которого так не хватает точке, чтобы обладать подлинной способностью разворачиваться, — такой предел может быть задан только на развернутом пространстве. На уже развернутом, я хочу сказать: предел фиксирует тождество развернутости и свернутости, останавливая перелив одного в другое, а потому он никогда не может быть задан как абсолютный. Сама точка не может быть пределом — вот что я хочу сказать; именно поэтому она бессильна развернуться и стать чем бы то ни было.
Предел определяет, во-первых, границу развернутости, а во-вторых, то, каким образом эта развернутость может оказаться тождественной свернутости.
Как же задается предел для интуиции, стремящейся схватить вещь-субстанцию? Во-первых, он ограничивает развернутость внешней опоясывающей линией, как будто отмечая участок, которому будет присвоено некое имя. Представим, что перед нами на столе некоторое количество предметов, которым всем мы даем одно имя — «книги». Это имя одинаково прилагается ко всем этим предметам; располагаясь на некотором пространстве, книги как будто намечают пограничные точки того участка, который и будет носить это имя. Предположим, перед нами — все книги, которые имелись, имеются и когда-либо будут иметься в нашей вселенной. Хотя это трудно представить, пусть все они по-прежнему умещаются на столе перед нами так, что наш взор охватывает их. Наше физическое зрение, охватывающее эти предметы, теперь смыкается с нашим умозрением, очерчивающим границу того мысленного пространства, которому присвоено имя «книги» и в которое (внутрь которого) попадают все книги, расположенные перед нашими глазами на столе. Интуиция вещи-субстанции и физическое схватывание такой вещи (таких вещей) органами чувств смыкаются с интуицией пространства осмысленности и схватывания ограниченного участка такого пространства нашим умозрением.
101
Мы представляем такой участок осмысленности совершенно так, как если бы он был некоторой геометрической фигурой, начерченной на листе бумаги. Пусть для простоты это будет прямоугольник. Линия, очерчивающая контур прямоугольника, задает тем самым его границу и помещает все, что носит соответствующее имя (в нашем примере — имя «книга»), внутрь этого прямоугольника. «Внутрь» в данном случае означает, что находящееся «внутри» со всех сторон окружено границей и, куда бы мы ни двинулись, в конечном счете мы придем к этой опоясывающей границе.
Итак, развернутость ограничена опоясывающей линией, помещающей всё внутрь ограниченного (опредéлéнного) участка. Помимо развернутости, предел задает и свернутость, показывая, как возможна их тождественность. Как это происходит в нашем случае?
Открывая одну за другой книги, лежащие перед нами на столе, мы вскоре обнаружим, что они распадаются на два класса. В одних мы найдем только чистые страницы; это — книги, предназначенные для того, чтобы их заполняли. Таковы бухгалтерские книги, дневники и т. п. Обозначим такие книги-для-записи общим именем «блокноты». В других книгах мы найдем уже заполненные буквами страницы. Это — книги-для-чтения, каковы телефонные справочники, учебники, детективы и т. п. Книгам для чтения дадим общее имя «романы». Перебрав одну за другой все лежащие перед нами книги, рассортируем их, положив слева книги для письма, а справа — книги для чтения. Развернутость «книг» свернется таким образом в «блокноты» и «романы». То, что было развернуто как «книги», теперь представляет собой два компактных, свернутых класса.
Эта операция сворачивания, зримо осуществленная перед нашими глазами благодаря нехитрой операции перебора книг с последующей сортировкой, сопровождается соответствующими умозрительными преобразованиями пространства осмысленности. Наш исходный прямоугольник под именем «книги» оказался разбит на две части чертой, соединившей две его стороны и проведенной внутри прямоугольника. (Неважно, будут это соседние стороны или нет, будет линия прямой или кривой: эти детали сейчас не имеют значения.) Эта черта также имеет свое имя: мы назвали ее «заполненность страниц». Черта делит прямоугольник «книги» на две части, которые вместе, сложенные одна с другой, точно образуют исходный прямоугольник, как если бы черты и не было. Эта черта, иначе говоря, не занимает никакого места: все начальное пространство отдано двум новым фигурам (будем для простоты считать, что это два новых прямоугольника), образовавшимся в результате ее проведения. Хотя делящая исходный прямоугольник черта имеет свое имя и в силу этого должна быть «чем-то», она на самом деле как таковая не может быть схвачена: наша интуиция вещи-субстанции не фиксирует ее, поскольку эта делящая черта — не субстанция. Хотя эта черта не улавливается нашей базовой интуицией, она тем не менее совершенно необходима и без нее не обойтись: только благодаря ей исходная развернутость «книг» сворачивается в два результирующих прямоугольника, которым мы дали имена «блокноты» и «романы».
102
Совмещение, тесное, неразъемное переплетение и фактическое сращение двух интуиций — интуиции вещи-субстанции и интуиции наглядной пространственной представленности поля осмысленности, схватывающего эту вещь-субстанцию, — вот что мы можем зафиксировать как результат. Вещи-субстанции как будто «помещены» в определенные, размеченные нами и поименованные участки пространства осмысленности; вероятно, базовая интуиция пространства как вместилища коренится именно здесь.
Интуиция вещи-субстанции служит конкретизацией того, что выше было названо полаганием субъекта. Я полагает субъекты — но полагает их определенным образом. Один из модусов такого полагания, известный нам из опыта западной традиции, и является полаганием субъекта как вещи-субстанции.
Такое полагание не просто «влечет за собой», а оказывается неотъемлемым от полагания осмысленности как пространства и задания на этом пространстве предела (так, как мы это описали), фиксирующего тождественность развернутости-и-свернутости, останавливающего ее: здесь без-различная различенность смысла обретает твердость очертаний, прерывающую ее подвижность. Такая тождественность являет собой след целостности, и в ней как таковой, собственно, нет ничего, кроме этого следа. Чем именно является такой след и как он раскрывает себя — об этом мы сейчас и поговорим.
Помещенность вещи-субстанции (субъекта, полагаемого Я как основание для дальнейшей предикации) в пространство осмысленности — вот что фиксируется прежде всего благодаря совмещению, сплетению двух интуиций (интуиции вещи-субстанции и интуиции осмысленности как пространства). Такая помещенность в пространство осмысленности, т. е. уже-осмысленность вещи, фиксируется связкой «есть». Когда мы говорим: «Это есть книга», мы указываем на то, что субъект, полагаемый Я как вещь-субстанция («это»), помещен в пространство осмысленности, которому дано имя «книга».
Такая помещенность не ограничивается только этим фактом, и высказывание «Это есть книга» не может быть окончательным. Я хочу сказать, что оно возможно только в силу той целостности, которую представляет собой пространство осмысленности, в которое помещен субъект, полагаемый Я как вещь-субстанция. Целостность этого пространства не только дает возможность, но и заставляет нас продолжить путь и вывести из этого все прочие предполагаемые им высказывания.
«Это есть книга» помещает субъект в пространство осмысленности, фиксирует его право быть. Смысл этой связки — в том, чтобы зафиксировать такую помещенность, такую удавшуюся сопряженность логического (пространственный модус полагания поля осмысленности, определяющий «способ действия» логических отношений, — об этом пойдет речь ниже) и содержательного (полагание вещи как субстанции). В этом суть логико-смыслового анализа — показать, каким образом логико-содержательная соотнесенность обосновывает и определяет осмысленность того, что высказано или мыслится нами, т. е. определяет содержание нашего сознания.
103
Итак, «Это есть книга» фиксирует непосредственное слияние логического и содержательного. Оно влечет другое высказывание: «Книга есть». Это высказывание дальше от такой непосредственной сопряженности, в том смысле, что она здесь менее явлена: здесь субъекту заранее дано имя того развернутого участка осмысленности, которое мы получаем благодаря заданию предела. Высказывание «Книга есть» возможно только благодаря тому, что уже истинно (зафиксировано, схвачено в своей данности) высказывание «Это есть книга».
Заданием предела пространство осмысленности размечено так, что на нем заданы границы развернутости (участок поля осмысленности «книга»), а также тождественность свернутости и развернутости. Мы знаем, что благодаря проведению черты, рассекающей поле развернутости на две части, т. е. благодаря связыванию этой делящей черты с исходной границей развернутого участка осмысленности (это связывание представляет собой совершенно нетривиальный акт, намекающий на целостную связность смысла и ее след — осмысленность), мы получаем два участка свернутости. Мы получаем участок, которому даем имя «блокнот», и участок, которому даем имя «роман». Это — два новых имени, скажут одни; или, как сказали бы другие, два новых значения. — Но что такое это «имя», что такое это «значение»? Во что они разрешаются; в чем значение имени, в чем значение значения? В том, что они отсылают нас к сложному факту тождественности свернутости и развернутости, достигнутой благодаря установленной связности.
Рассмотрим это более подробно. Семантические и семиотические теории традиционно рассматривают значение как нечто «данное», как «вот-это», как будто по аналогии с вещью-субстанцией, на которую можно указать рукой и «схватить», чувственно или мысленно. Аналогия между значением и вещью-субстанцией глубока и берет начало по меньшей мере с аристотелевского определения значения как впечатления в душе, отправляющего к вещам внешнего мира: здесь ясно видна связь значения и вещи, как будто подмена вещи значением (в самом деле, не можем же мы вместить в своей душе весь мир — вот мы и замещаем его значениями; везде здесь очевидна важность идеи места). Когда современные лингвисты-культурологи ищут «семантические примитивы» и пытаются составить список «базовых», нередуцируемых значений той или иной культуры (работы А. Вежбицкой и ее последователей)1, они следуют по тому же пути, представляя значения наподобие некоторых атомов, в самих себе законченных и вполне «вещных», из которых выстроится в дальнейшем все здание смысловых конструкций. Попытки свести значение к чему-то иному, например к употреблению или деятельности, вряд ли можно принимать всерьез: это все равно что сказать, что одежда — это способ ее
104
ношения или что огонь — это приготовленная на нем каша и пепел сгоревшего от него дома. Конечно, все проявления огня дадут нам понять, что такое огонь, но никогда не заместят его: ни каша, ни пепел не являются огнем. Точно так же движения моих пальцев, ударяющих по клавиатуре, не являются значением слов «клавиатура», «писать статью» или «использовать компьютер». Значение нельзя заместить чем-то другим или свести к чему-то другому, что само должно «иметь значение».
Вместе с тем движущий мотив таких попыток редукции нельзя не признать обоснованными. Ведь объясняя значение через другое значение, как это делают толковые словари, мы попадаем в порочный круг: всякое объясняющее значение тоже должно быть объяснено. Регресс в бесконечность невозможен лишь потому, что число слов языка ограничено; однако, поскольку употреблены они могут быть в бесчисленных сочетаниях и вариациях, на самом деле дурная бесконечность подстерегает нас, если мы хотим объяснить значение значением же. Известный парадокс: знать значение данного слова можно, только зная все фразы, в которых оно может быть употреблено, но знать их можно, только понимая значение данного слова, — выражает эту трудность.
Давайте обратимся к простому опыту и спросим себя: как мы понимаем слова родного языка? Как мы понимаем фразы, которыми обмениваемся при ежедневном общении? Как мы понимаем слова диктора телевидения, которые тот произносит с невероятной быстротой — так, что за ним и повторить-то их трудно? Неужели понимание каждого слова во всех этих случаях сопровождается процедурой истолкования через другие значения (которые ведь тоже должны быть истолкованы); или же эти слова отправляют нас к некой деятельности (которая почему-то должна быть для нас известна) или к их употреблению во всех других фразах языка (так что в нашей голове тут же разворачиваются мириады языковых игр по поводу каждого слышанного слова)? Все такого рода объяснения страдают тем, что заменяют простое и мгновенное — чем-то громоздким и требующим, в свою очередь, еще бóльших усилий объяснения, нежели то, что они хотят разъяснить. Понимание слов и фраз языка наступает для любого из нас сразу и мгновенно, можно сказать — интуитивно, если мы подразумеваем под этим словом что-то, что не артикулируется и не замечается в обычной ситуации.
Такое интуитивное, мгновенное понимание и является схватыванием тождества свернутости и развернутости, возможного благодаря внутренней связности. Имя «блокнот» отправляет нас к факту развернутости участка осмысленности, который мы именовали «книгой»; к тому, что этот участок связан с «незаполненностью страниц», что мы интуитивно постигаем в пространственных образах как черту, отделяющую новый участок от прежнего и сворачивающую благодаря этому прежнюю развернутость — в свернутость.
Впрочем, этим понимание значения имени «блокнот» не исчерпывается. Тождественность свернутости-и-развернутости, устанавливаемая благодаря заданию предела, влечет и иные следствия. Мы знаем, что развернутость может свернуться иначе — образовав тот участок поля осмысленности, которому мы дали имя «роман».
105
Мы знаем, что этот участок образуется благодаря связыванию развернутости с «заполненностью страниц»; мы знаем также, что «заполненность страниц» и «незаполненность страниц» — противоположности и что образовавшиеся в результате этих двух связываний свернутые участки вкупе равны изначальной развернутости. Мы здесь впервые получаем отношения противоположности, сложения и равенства, которые заданы целостно: все вместе. Но не просто одни отношения с другими и через другие, нет: они заданы целостно еще и в том смысле, что их задание неотъемлемо от нашей интуиции поведения содержательности. Если мы знаем, что «блокнот» и «роман» вкупе (сложенные друг с другом) дают «книгу», если мы знаем, что «книга» за вычетом «блокнота» даст нам «роман», если мы знаем, что «роман» и «блокнот» противоположны и ни в чем не совпадают, — кроме того, что и то и другое книга, поскольку они вкупе и есть «книга», — то это знание того, что означают отношения равенства, противоположности, сложения и вычитания, неотъемлемо от нашего знания того, как ведут себя поименованные нами участки осмысленности, и — изначально — от нашего знания, что мы имеем дело с вещами-субстанциями, которые могут быть осмыслены через полагание пространственного поля, размечаемого и именуемого благодаря заданию предела.
Логико-смысловая конфигурация для субстанциального варианта процедуры смыслополагания
Все это знание неотъемлемо от нашего «узнавания» (понимания) любого из имен, которыми мы оперировали, и любого из отношений, которое было задано на этих участках осмысленности. Эта комплексная соотнесенность логического и содержательного, которую я называю логико-смысловой конфигурацией, и представляет собой в наиболее простом виде то, что мы называем «пониманием» или «схватыванием» значения. Я хочу сказать, что логико-смысловая конфигурация представляет собой неснижаемый уровень комплексности, с разрушением которого мы теряем возможность говорить о значении. Тема значения, безусловно, не исчерпывается указанием на логико-смысловую конфигурацию, однако она никогда не может быть удовлетворительно разъяснена без обращения к ней: это — тот минимальный уровень, тот «атом», который задает для нас значение имен, которыми мы пользуемся. Неснижаемость этого уровня вполне разъясняется тем обстоятельством, что он является минимальным отражением целостности — отражением, которое лежит в основании осмысленности (хотя и не исчерпывает ее).
Осмысленность, таким образом, является следоцелостностной (она являет след целостности) — такова ее основная черта. В отличие от этого, «значение», как этот термин употребляется сегодня, вовсе не является таковым, поэтому я пользуюсь первым понятием, а не вторым. Значение (в его нынешнем понимании) вполне разъясняется через осмысленность, но не наоборот.
Целостностный характер осмысленности означает, что мы можем понять, «что значит» то или иное имя, задающее номинальность в нашей логико-смысловой
106
конфигурации, указывая на логику его соотношения с другими именами, входящими в данную целостность; и мы можем понять, «что значит» то или иное отношение, задающее логику конфигурирования имен, указывая на другие отношения, конфигурирующие данные имена в целостность. И в том и в другом случае мы апеллируем к целостности, различая в ней логический и содержательный аспекты как взаимно-определяющие.
Например, если мы хотим понять, что значит «противоположность», выражаемая отрицанием («нет», «не-»), мы должны будем сказать, что это — такое отношение между участками осмысленности «блокнот» и «роман» (и вещами-субстанциями, носящими соответствующие имена), в результате которого они полностью разделены (никакая вещь, носящая имя «блокнот», не есть вещь, носящая имя «роман»), и вместе с тем эти два участка вкупе, будучи примыкающими один к другому (мы имеем право суммировать вещи-субстанции, носящие имена «блокнот» и «роман»), образуют новый, единый участок, полностью исчерпывающийся прежними двумя, — но отличающийся от них своим единством, благодаря чему мы и присваиваем ему особое имя — «книга» (совокупность вещей-блокнотов и вещей-романов — это новая, единая совокупность книг). Так две интуиции: одна — вещей-субстанций, другая — осмысленности как пространства, разбиваемого на участки благодаря заданию предела, — сопровождают друг друга, создавая вместе — осмысленность.
Если бы мы не имели того следа целостности, который представляет собой логико-смысловая конфигурация, могли ли бы мы сказать, что значит «быть противоположным», что такое «отрицание» и что значит «не-»? Конечно, нет; нам в таком случае пришлось бы объявить эти понятия «ясными», «очевидными» и т. п. Если бы осмысленность достигалась только в логико-смысловых конфигурациях, подобных разобранной, в такой апелляции к ложной очевидности (ложной потому, что за ней на деле стоит ясно демонстрируемая сложная процедура смыслополагания, опирающаяся на определенным образом организованную интуицию) был бы вред лишь тот, что мы остались бы в неведении относительно основания этой «очевидности». Мы увидим, однако, что этим дело далеко не исчерпывается, и упование на такого рода «очевидности» приводит к фатальным ошибкам в случае инологичного мышления.
Имеет ли сказанное какую-то параллель в средневековом обсуждении вопроса об универсалиях; и как быть с современным господствующим логико-философским номинализмом? Мне представляется, что средневековье, плодотворное в других отношениях (взять хотя бы разработку вопроса о трансценденталиях), вовсе проглядело вопрос о целостности и вопрос о сопряженности логического и содержательного. Именно такая сопряженность в рамках целостности позволяет понять, что значит дихотомическое отрицание, на котором настаивает греческая мысль, и почему именно такое отрицание является правильным для данной интуиции осмысленности. Далее, логико-смысловой подход позволяет увидеть, почему из всех категорий только «субстанция» принимает родо-видовое деление. В самом
107
деле, дихотомическое деление можно построить для любого понятия, если найти подчиненное ему: если понятие «Б» подчинено понятию «А», то «Б» и «не-Б» вкупе исчерпывают «А» (при условии, что мы понимаем, что в данном случае значит «не-»). Но такое деление — лишь видимость, лишь имитация того, что Аристотель разрабатывал как родовидовое деление и что представляет собой задание предела на пространстве осмысленности. Здесь отсутствует главное — связность, благодаря которой свернутое оказывается равно развернутому, как в нашем примере «блокнот» оказывается равен «книге» при условии, что «книга» связана с «незаполненностью страниц»: именно такая связность дает возможность свернуть развернутое пространство осмысленности и получить новый ее участок, давая ему новое имя.
А может быть, видеть все это вовсе не обязательно? Может быть, пониманием того, почему дихотомическое деление столь важно для западного мышления, можно пожертвовать, а весь разговор о свернутости-развернутости — и вовсе псевдофилософская химера? Представим себе, что это так и что «на самом деле» нет никаких «книг», а есть только «блокноты» и «романы». Пусть они образуют два множества, соответственно «Б» и «Р». Тогда их объединение будет по определению множеством книг «К»: Б ∪ Р ≡ К, причем замена выражения, стоящего в левой части, на выражение, стоящее в правой, производится исключительно в целях сокращения и облегчения записи, не предполагая никаких «онтологических» преобразований (говоря попросту, реальные вещи не являются книгами, они только блокноты и романы, хотя, когда они все вместе, мы для удобства и краткости называем их книгами). Пусть так; но в таком случае мы никогда не сможем сказать, почему любой элемент множества К непременно принадлежит в то же время либо множеству Б, либо множеству Р и не может не принадлежать ни одному из них или принадлежать обоим вместе. Ответом на такое «почему» может быть лишь ссылка либо на интуитивную ясность, либо на определение базовых понятий теории множеств, которое также будет апеллировать к интуиции. Почему закон исключенного третьего или закон противоречия непременно должны соблюдаться для обычных вещей-субстанций окружающего нас обычного мира, останется совершенно непонятным, и эти законы предстанут как некое неясно откуда взявшееся «устройство» мира. Сама по себе формальная логика не дает никаких оснований, чтобы предпочесть такую трактовку соотношения между множествами любой другой: могут быть построены бесчисленные варианты логик, одна ничуть не хуже другой, и остается непонятным, почему только одной из них подчиняются вещи-субстанции внешнего мира.
Мне представляется, что эта «непонятность» — следствие формальной интерпретации аристотелевских взглядов, а вовсе не их внутренний порок. Стагирит очень тщательно следит за тем, чтобы любое его построение, любой вывод соответствовали поведению внешнего мира, сверяя каждый свой шаг с вещами и событиями. Логико-содержательная соотнесенность, безусловно, подразумевается им. Я рискну сделать такое утверждение, хотя здесь не место для подробного обсуждения доводов за и против; но достаточно вспомнить столь настойчиво повторяющееся у него, как будто подсознательно «прокручиваемое», рассуждение о пространстве
108
и границах рода, в пределах которого располагаются видовые отличия, определяясь содержательно в зависимости от своих пространственных координат (бóльшая и меньшая противоположность, быть ближе или дальше от такого-то смысла и т. п.). Средневековье пошло по ложному пути, когда попыталось ответить на провокационный вопрос о самостоятельном бытии общих понятий. Ведь бытие может быть приписано только вещам-субстанциям, и смысл бытия, смысл связки «есть» заключается именно в попадании в опредéленное и определённое пространство осмысленности, отличающей данный субъект. Так подразумевается Аристотелем, и потому его логика так прочно и плотно связана с миром. Следовательно, ставить вопрос о бытии «общих понятий» (т. е. поименованных участков осмысленности) — значит не понимать суть логико-содержательной соотнесенности и сам дух, саму сердцевину Аристотелевых логических рассуждений. На этот вопрос не может быть дан никакой ответ — как нельзя ответить на вопрос о том, какова длина килограмма; и реализм, и номинализм — оба последовали не по тому пути.
Формальная интерпретация трех Аристотелевых законов является разнородным и сбивчивым упрощением того описания, которое я дал процедуре смыслополагания, показав шаг за шагом, как, почему и из чего возникает осмысленность. Две сопряженные интуиции, полагания субъектности как вещи-субстанции и осмысленности как пространства, необходимы одна для другой: содержание субъектности — в отличении, но отличение, как мы выяснили, возможно только благодаря различению. Различение пространства осмысленности для вещи-субстанции и совершается благодаря заданию предела, как это было описано, что определяет понятия равенства, противоположности, сложения как аспекты комплексной логико-смысловой конфигурации. Уже следствием такого понимания служит тот факт, что любая вещь-субстанция, которой предицируется признак, обозначенный в логико-смысловой конфигурации именем развернутости, непременно «попадает» в пространство одного из двух участков свернутости, намеченных правильным противоположением и отрицанием: она не может попасть сразу в оба и не может не попасть ни в один из них, так что обе интерпретации закона исключенного третьего в его формальной записи оказываются верны для вещи-субстанции, равно как и для ее предикатов — участков осмысленности. Из этого же со всей очевидностью вытекает, что, если вещь-субстанция принадлежит одному из двух участков свернутости, она не принадлежит второму ее участку, полученному как правильное отрицание первого, т. е. дополняющее его до участка развернутости. При такой интерпретации закон противоречия оказывается безусловно правильным. Наконец, закон тождества формально выражает интуицию схватывания вещи в ее истинности-неизменности, равно как общеметодологическое требование употреблять слова в одном и том же значении в пределах одного рассуждения, а потому это, видимо, универсальный закон, во всяком случае постольку, поскольку речь идет об указанной интуиции и методологическом требовании.
Итак, формальная интерпретация не добавляет ничего к предложенному логико-смысловому толкованию аристотелевских логических построений, тогда как
109
теряет очень многое: она упускает фундамент, на котором они зиждутся. Логико-смысловое объяснение показывает, почему вещи мира таковы, что их поведение соответствует нашим ожиданиям, т. е. почему они ведут себя осмысленно. На этот вопрос до сих пор не было дано внятного ответа, если не считать отсылки к божественному плану или столь же непостижимому «устройству» наших способностей восприятия, врожденным идеям или априорным формам. Формальная интерпретация логики, а тем более ее математизация и вовсе «освобождают» логику от всяких обязательств, проистекающих из (теперь уже отброшенной) сопряженности логического и содержательного. Освобожденная от этой «обузы», логика необыкновенным образом нарастила свое формальное тело, — беда лишь в том, что ей трудно теперь претендовать на что-то вроде «объяснения мира».
Если формальная интерпретация логики — только один из возможных и, по-видимому, не лучший выбор, то какова альтернатива? Она, собственно, уже предложена. Это — ее логико-смысловая трактовка, позволяющая понять закономерности возникновения осмысленности и поведения вещей, — трактовка, опирающаяся на принцип логико-содержательной соотнесенности.
Если мы отказываемся от трактовки логики как формальной, то что, собственно, будет пониматься под «логическим», а что — под «содержательным» аспектами? Если логика столь же логистична, сколь содержательностна, и одно возможно только благодаря другому и с опорой на другое, то как теперь трактовать эти две стороны принципа логико-содержательной соотнесенности, если мы больше не отождествляем логическое — с формальным, твердым, закономерным и законоустанавливаемым, а содержание — с изменчивым, случайным, помещаемым в эту твердо отлитую форму?
Ответ на этот вопрос вытекает из принципа логико-содержательной соотнесенности. В самом общем виде речь идет о следующем. Логическое и содержательное составляют две стороны того следа целостности, который дан нам как осмысленность. Логическое и содержательное «пригнаны» одно к другому таким образом, что изменение одного необходимо влечет изменение другого так, чтобы сохранить возможность осмысленности. Осмысленность в первом приближении (в наиболее простом своем виде) задается как логико-смысловая конфигурация, определяющая тот способ, каким вещь будет различена и тем самым отличена от других вещей.
Напомню, что принцип логико-содержательной соотнесенности — это проявление целостности, составляющей суть осмысленности. Ограничусь пока этими предварительными замечаниями: у нас еще недостаточно материала, чтобы сделать более точные и конкретные выводы. Я вернусь к этому вопросу ниже (см. с. 151, «Итоги и перспективы развития логико-смысловой теории») и систематизирую полученные результаты.
Логико-смысловая конфигурация выявляет и содержательность, и логику в их взаимной пригнанности. В рассмотренном примере начальная интуиция полагания вещи как субстанции (т. е. интуиция схватывания ее в ее определенности, неизменности, истинности) требует понимания поля осмысленности как пространства,
110
разбиваемого на участки. Это — конкретный вариант соотнесения содержательного и логического, связанных друг с другом и соответствующих друг другу; исследование такой взаимной соотнесенности и ее закономерностей я называю логикой смысла. Понятие истины появляется и возникает в этой сочлененности, в этой взаимной пригнанности логического и содержательного.
Итак, логическое и содержательное реализуются как логико-содержательная соотнесенность не «вообще», а в определенном, конкретном виде. Является ли этот конкретный вид единственной реализацией или это только один из нескольких возможных вариантов? Существует ли единственная логика смысла или их много? По меньшей мере теоретическая возможность вариативности существует: она открыта тем пониманием логико-содержательной соотнесенности, которое было предложено как альтернатива формальной интерпретации логики. Если логика — это не раз и навсегда жестко определенные формы, если истинность соотносится не с такой формой, а с интуицией вещи и с тем, как вещь может быть вписана в опредéленное и определённое поле осмысленности; если благодаря совмещению этих двух опредéлéнностей — вещи и поля осмысленности, т. е. благодаря логико-содержательной соотнесенности и достигается истина, — если это так, то логическое, как и содержательное, может быть вариативно и не обязано быть одновариантным.
Зафиксируем эту чисто теоретическую возможность; нам предстоит проверить, реализуется ли она в действительности. Но прежде завершим описание субстанциального варианта процедуры смыслополагания.
Субстанциальная логико-смысловая картина мира
Интуиция вещи-субстанции является основополагающей для традиции западного мышления. Это значит, что тот макрокультурный ареал, для которого материнской культурой стала греческая, объединен общностью логико-смысловых оснований — интуиции вещи-субстанции и соответствующей ей интуиции пространственного представления осмысленности. На этой основе сформировалась общая для этого макрокультурного ареала субстанциальная картина мира. Любая картина мира (научная, языковая) выражает самые общие, прочно вошедшие в обиход и, скорее всего, потерявшие связь со своим первоисточником представления об устройстве мира, о том, как его следует познавать и как к нему относиться, о месте в нем человека. Поскольку здесь имеются в виду такого рода представления, сформировавшиеся на основе общей для макрокультурного ареала процедуры смыслополагания, речь идет о логико-смысловой картине мира.
Логико-смысловая картина мира определяет в самых общих и основополагающих чертах тот способ, которым для данной культуры задается осмысленность мира или любого его фрагмента. Способ задания осмысленности, или логика смысла, включает в себя два базовых, принципиальных элемента: тип содержательности и тип логических отношений. Для субстанциальной картины мира тип
111
содержательности определен как вещь-субстанция. Это значит, что для носителей данной картины мира универсум представлен как совокупность вещей-субстанций.
Мы можем различать теоретический и речевой срезы логико-смысловой картины мира. На теоретическом уровне это выражается в том, что нечто предметное всегда полагалось основанием мира, будь то вода Фалеса, идеи Платона, первые сущности Аристотеля, вещь в себе Канта. На этой основе была создана сперва аристотелевская, а затем нововременная научная, механистическая картина мира. Известный тезис о том, что мир — совокупность фактов (состояний дел), а не вещей, как будто перекидывает мостик от теоретической к речевой картине мира: в самом деле, мы мыслим не словами и не понятиями, мы мыслим фразами, которым соответствует определенное положение дел и которые могут быть истинными или ложными. Правда, факт или положение дел в субстанциальной картине мира все равно будет трактоваться как некое отношение или система отношений между вещами, и, не поняв прежде, что такое вещь, мы никогда не поймем, что такое «положение дел». Точно так же попытка свести субстанциальность к отношению, предпринятая в структурализме, едва ли была упешной: можно ли, к примеру, всерьез понять фонему на основе только ее места в оппозиции, т. е. понять ее как то, что не является никакой другой фонемой, на основе чисто отличительной функции? Чтобы такое определение сработало и дало нам знать, что такое фонема, мы прежде должны знать целое и все остальные составляющие этого целого (как должны знать, что такое «куча» и что такое все прочие зерна, кроме данного) — лишь тогда мы поймем, что такое данная фонема и в чем именно состоит ее уникальное место в структуре звуковых соотношений. Иначе говоря, на теоретическом уровне рассматриваемой логико-смысловой картины мира вещь-субстанция остается основой, которую нельзя отбросить или свести к чему-либо.
На речевом срезе этой картины мира ее субстанциальный характер проявляется в ряде фактов, которые интуитивно осознаются носителями соответствующих языков, в т. ч. русского. Эти факты являются прежде всего фактами нашего осознания того, как устроен язык и как мы им пользуемся, т. е. фактами сознания и речи; хотя они могут проявляться (быть подтверждены или опровергнуты) и при традиционном для постсоссюровской лингвистики структуралистском подходе к языку, тем не менее этот подход не может уловить то, что для нас важно здесь, поскольку ориентирован на язык как структуру, а не на речь как проявление мышления.
Я хочу обратить внимание на очень простые вещи, которые, без сомнения, осознаются многими, если не всеми носителями русского языка и которые доступны в самом простом внутреннем опыте, обладающем для нас несомненной достоверностью. Если попросить носителя русского языка назвать «какое-нибудь слово», в подавляющем большинстве случаев мы услышим в ответ набор существительных. Когда я думаю о том, что окружает меня, из чего состоит мой мир, я прежде всего называю имена существительные, обозначающие людей, составляющих мой круг, или предметы, меня окружающие. Мой мир состоит из вещей-субстанций, из предметов,
112
животных и людей. Мы пока не идем дальше; мы фиксируем только этот, первый шаг. Но для меня важно, что без этого самого первого шага не будут сделаны и дальнейшие; без этой базовой констатации невозможны и дальнейшие вопросы.
Итак, для моего внутреннего сознания моя речь представлена прежде всего именами существительными, обозначающими то, что мы называем предметами, вещами, существами. Но это еще не все. Внимание к речевой практике позволит уловить еще один аспект первоосновности вещей-субстанций. Слово, какое ни возьми, от чего-то происходит. Рассмотрим этот факт не с точки зрения науки о словообразовании, а так, как он дан в рядовом сознании рядового носителя русского языка. Как правило, мы осознаем, что слова имеют корни, и, что крайне важно, такие корни нередко составляют целое слово. Они, иначе говоря, являются значащими; и даже если они не представляют собой слово, фигурирующее в словаре, мы легко воспринимаем их как «урезанные», «обкатанные» речью значащие слова, ставшие корнями потому, что от них надо было произвести другие слова. Например, слово «дом» имеет корень дом, и слово «муж» равно своему корню, а вот слово «жена» обкатано нашей речью, как кусок бутылочного стекла морской галькой, до корня жен-. И теперь самое главное: такие корни чаще всего представляются нам как обозначающие предметы мира, вещи-субстанции.
В приведенных примерах это очевидно; каждый может сам проверить это наблюдение на других. Возьмем не существительное, а глагол. «Лежать» имеет корень леж-, тут же ассоциирующийся у нас с «лёжкой», которую мы представляем себе по аналогии с каким-то предметом. Конечно, это не вещь, которую можно взять в руки; но — как бы вещь. Императив субстанциально-ориентированного мышления заставляет нас предлагать первой именно такую трактовку, и наивная этимология представляет собой бесценный материал для изучения устройства стихийного языкового мышления с точки зрения его логико-смысловой основы.
Далее, возьмем слова, принадлежащие разным частям речи: «дерево», «деревянный», «деревенеть». Все они имеют корень д(е)рев-. Из трех перечисленных слов в своем стихийном восприятии я, безусловно, свяжу его с первым, решив, что именно оно является к этому корню наиболее близким. Корень д(е)рев- и есть «дерево», тогда как «деревянный» — это то, что имеет свойства дерева, а «деревенеть» — значит превращаться в дерево или приобретать его свойства. Оказывается, что язык в части своей морфологии устроен так, что подсказывает нам идею первичности вещи-субстанции, тогда как однокоренные слова служат как будто спецификациями, некоторыми модификациями корневого субстанциального значения.
Таким образом, вещи-субстанции предстают в нашем языковом сознании и мышлении как основа мира потому, что именно они прежде всего представляют собой его наличное состояние, а также и потому, что прочие слова, обозначающие как вещи-субстанции, так и что-то другое, происходят от первооснов — своих корней-слов, обозначающих субстанции, и являются своеобразными спецификациями субстанциальных значений, т. е. сводятся к ним. Таким образом, как мне представляется, можно выразить если не абсолютное, то уж безусловно преобладающее
113
состояние языкового сознания носителя русского языка и, я думаю, других языков, входящих в западный макрокультурный ареал.
Проведенный логико-смысловой анализ категории «вещь» для логики смысла, характерной для западной культуры, показал, что эта категория сводится, с одной стороны, к определенному модусу схватывания собственной фиксированности, а с другой — к определенному устроению предикации, служащей наполнению и раскрытию этой фиксированности. Такая двуединая функция категории «вещь» соответствует логико-содержательной соотнесенности, которая служит, как мы говорили, ведущим принципом логико-смыслового описания осмысленности. Данные положения, открытые в ходе логико-смыслового анализа, имеют свои параллели на теоретическом и речевом уровнях логико-смысловой картины мира.
Величайшим вопросом для западной философии был двуединый вопрос о том, что такое бытие и что такое вещь. Ведь эти категории носят предельный характер; как наполнить содержанием то, что само составляет форму для любого содержания? Для мышления, ориентированного на схватывание форм, этот вопрос — риторический, а потому ответом на него служила либо отсылка к очевидности (интуиции, предельному, неопределяемому характеру этих категорий), либо к взаимно-определяющему характеру этих двух категорий. В категории «бытие» едва ли найдется нечто большее, чем фиксация вещи как таковой: бытие поэтому не прибавляется к вещи, не служит ее атрибутом (предикация — следующий шаг после фиксации субъекта, поэтому считать бытие действительным атрибутом — серьезная ошибка); да и как понять «вещь», если не мыслить ее как собственное же бытие? Конечно, этим не только не исчерпана, но и не упомянута многообразная нюансировка вопроса о вещи и бытии в западной философии; но что здесь упомянуто, так это логико-смысловая основа любой такой нюансировки, которая не выйдет за намеченные нашим анализом границы.
«Вещь есть» — самое естественное высказывание, где вместо слова «вещь» может стоять любое существительное, обозначающее вещь-субстанцию, а вместо «есть» — его синонимы (существует, имеется, наличествует и т. д.). Это утверждение существования вещи-субстанции — первая функция словечка «есть». Спросив, что значит «утверждение существования», что значит «вещь есть», т. е. что стоит за этой номинальностью, за этими двумя именами (или их многочисленными синонимами), мы не сможем ответить иначе, нежели отослав к интуиции и «очевидности» — либо показав логико-смысловую определенность этого выражения. Последняя заключается в полагании субъекта — носителя предикатов при условии полагания логики предицирования, основывающейся на пространственном представлении поля осмысленности и задании на нем предела (его определивания и определения) благодаря связности. Связность, без которой невозможно задание предела (и которая игнорируется любыми номиналистическими трактовками, хотя не схватывается и реалистическими), и являет нам подлинный след целостности: мы видим, как сплавляются разнородные имена, мы видим то, что позволит в конечном счете понять, почему окружающий нас мир представляет собой связность.
114
Это значит, что утверждение бытия неотъемлемо от различения вещи и, благодаря последнему, ее отличения от других вещей. «Вещь есть» и «вещь есть то-то и то-то» не просто связаны, это в каком-то смысле — одно и то же. Одно возможно только благодаря другому и как другое.
Вот почему связка «есть» является предельной в русском языке. Наше мышление стремится трактовать что бы то ни было как модификацию вещи-субстанции, и речь, воплощающая это стремление, шлифует язык, задействуя в нем средства, способствующие достижению именно этой цели. Мы можем придумать немало синонимов для «есть», и дело, конечно, не в именах. Дело — в их логико-смысловой функции, т. е. в той соотнесенности логического и содержательного, которая при этом подразумевается. Важна именно эта функция — имена как таковые на самом деле роли не играют, и в имени «есть» нет ничего такого, что не позволило бы задействовать его в другой логико-смысловой функции, скажем, превратив его в имя другой связки. Дело лишь в привычке — и в том (а это самое главное), что мы подспудно «проигрываем» в своем сознании логико-смысловые операции, которые связывает с этим именем носитель данной культуры.
Связка «есть» позволяет превратить все что угодно в атрибут субстанции. В самом деле, едва ли можно помыслить субъект-предикатное высказывание, которое не могло бы быть приведено к виду «вещь есть предикат». Это — еще один важнейший аспект связки «есть», неотъемлемый от уже рассмотренных. В культуре, опирающейся на субстанциальную логико-смысловую картину мира, мышление и речь (и предоставляющий ей формальные средства язык) устроены так, что все поле осмысленности они могут представить как «сворачивающееся» в субстанциальность благодаря предикации, опирающейся на связку «есть». В нашем мышлении и в нашей речи невозможно представить мысль и высказывание, которую мы бы не имели права трактовать как если не полную, то усеченную и если не подлинную, то превращенную форму со связкой «есть»; и, напротив, высказывание со связкой «есть» невозможно переформулировать так, чтобы эта связка вовсе исчезла и не могла быть восстановлена. Таковы предельные условия осмысленности, задаваемые субстанциальной логико-смысловой картиной мира.
Наша речь не делает различия между «человек есть живое, способное к речи существо» и «человек есть способное к смеху существо». «Человек есть ходящий» и тому подобные высказывания, берущие человека (или любую другую вещь-субстанцию) в качестве субъекта и приписывающие ему все многообразие признаков, вычленяют данный фрагмент мира как вот-эту вещь и описывают этот фрагмент как многообразие признаков и свойств, приписываемых данной вещи (как некую модификацию данной вещи). При этом в речи и обыденном мышлении мы не делаем различия между предикацией, основанной на связности, и предикацией, не основанной на ней. Я имею в виду удивительный зазор, который существует между отношением к связности мира в нашей речи и обыденном мышлении, с одной стороны, и в теоретическом мышлении — с другой.
115
Смысл субстанциальной картины мира заключается в том, что связность мира представлена как его субстанциальное единство. Всякий полагаемый субъект мы мыслим как субстанцию — или наподобие субстанции; например, мы можем сказать: «Любовь покинула мое сердце», мысля любовь вроде некоторой действующей субстанции, словно бы птицы, упорхнувшей сквозь раскрытые дверцы клетки. Я не рассматриваю специально попытки построить альтернативный взгляд, основав его, к примеру, на понятии структуры: мы все равно не можем понять структуру как чистое отношение, нам в любом случае не обойтись без того, чтобы опереть отношение на то, отношением между чем оно является, иначе «отношение» бессмысленно; а это «то, между чем» непременно окажется субстанцией.
Имя «субстанция» служит для указания на тот участок поля осмысленности, на котором мы задаем предел, устанавливающий тождество свернутости и развернутости; как именно это осуществляется в данном случае, мы подробно рассмотрели выше. Имя «субстанция» поэтому указывает и на данный способ задания предела. Это имя, наконец, указывает и на то, каким образом мы схватываем вещь и полагаем ее истинность; об этом мы также подробно говорили выше. Все это — проявления единого процесса смыслополагания, или стороны единой процедуры смыслополагания, которая заключается в полагании субъекта благодаря заданию определенного модуса логико-содержательной соотнесенности. Процедура смыслополагания хорошо суммируется в понятии процедуры задания предела, где мы наблюдаем тесную взаимосвязь и взаимоопределение этих двух сторон. Таким образом, смысл имени «субстанция» сводится к указанию на определенный тип полагания субъекта и, следовательно, логико-содержательной соотнесенности.
Процедура задания предела относится только к участку осмысленности, который носит имя «субстанция». Именно задание предела и формирование различенного участка осмысленности, как мы видели, обосновывает логику дихотомии и в конечном счете делает понятным, почему окружающий нас мир вещей-субстанций подчиняется трем аристотелевским законам. Мы знаем, что вещь не может быть тяжелой и легкой сразу, и, если наличествуют эти два атрибута, значит, наличествуют две вещи, а не одна. Это верно потому, что субъект — носитель этих предикатов может быть осмыслен нами благодаря процедуре задания предела, ограничивающей участок поля осмысленности с именем «вес» и делящей его на два под-участка, которым мы даем имена «тяжелое» и «не-тяжелое». Сама процедура такого задания предела, предполагающая дихотомическую логику, дает возможность отличить субъект, осмысляемый нами как «тяжелый», от того, что осмыслен как «не-тяжелый». Заметим, что эта процедура определивания и определения делает совершенно понятным, почему субъект не может быть сразу и «тяжелым» и «не-тяжелым», — но при том непременном условии, что процедура задания предела проведена корректно и полностью, а значит, определен развернутый участок «вес», в пределах которого установлено дихотмическое деление.
116
Между тем в той интерпретации данной процедуры смыслополагания, что предложена Аристотелем и разработана комментаторами, такое задание развернутости-и-свернутости должно быть возможно только для категории «субстанция», но не для акциденций — ведь видовое отличие, без которого не может быть проведено родовидовое деление, устанавливается только для субстанции и в принципе не может быть установлено для акциденций. Удивительным является тот факт, что мы работаем с признаками, относимыми в этой интерпретации к акцидентальным, так, как если бы они были получены в результате полноценного родовидового деления. Что такая работа не только возможна, но и правильна, свидетельствует наш опыт. Но почему она возможна — этот вопрос остается неразрешенным в рамках аристотелевской интерпретации субстанциальной картины мира.
Итак, субстанциальная картина мира нацелена на связное, целостное представление мира как осмысленности. Однако самые простые, на поверхности лежащие факты речи подсказывают, что имеется напряжение между нашим изначальным стремлением к связной картине мира — и тем, какие средства предоставляет язык для работы с осмысленностью. Если мир един как субстанция, если его связность гарантирована тем, что всё может быть представлено как атрибут субстанции, — если это так, то и языковой способ выражения должен если не соответствовать, то по меньшей мере не противоречить этой нашей фундаментальной потребности в связной картине мира. Однако едва ли дело обстоит так. Обычно говорят, что связка «есть» универсальна для субъект-предикатных конструкций и если и не выражена явно, то лишь в силу случайной особенности языка, но никак не вследствие запрета, налагаемого мыслью. Как считается, доказательством этого служит тот факт, что связка может быть восстановлена в языках, позволяющих ее опускать, и такое восстановление, хотя и делает фразу не очень красивой, не превращает ее в непонятную. Сказать «Москва — столица России» естественнее, нежели «Москва есть столица России», но второе — не ошибка.
В такого рода рассуждениях упускают из виду тот факт, что для полноценного отображения субстанциальной картины мира в нашей речи потребовалось бы не просто восстановление связки там, где мы склонны опускать ее, — эта операция как раз несложна, поскольку опущенную в речи связку мы оцениваем как подразумеваемую мышлением. Кроме этого, нам нужно было бы вовсе отказаться от глагольных фраз вроде «человек идет»: в таких фразах связка «есть» никак не может быть восстановлена, поскольку она там и не предполагается мышлением. С точки зрения субстанциального мышления глагольная фраза представляет мир странным образом, как если бы субъект такого высказывания не был субстанцией и в принципе не мог бы мыслиться как субстанция.
Отношение между речью и мышлением не является отношением одностороннего подчинения; нет, это очень подвижное соотношение взаимной согласованности и взаимовлияния. Речь подсказывает нам, что в мире имеются сегменты, которые не могут быть представлены субстанциально; мышление, подчиняясь императиву связности и действуя в рамках субстанциальной картины мира, переинтерпретирует эти
117
подсказки так, чтобы они не противоречили субстанциальной картине мира. Вместо «человек идет» мы можем сказать «человек есть идущий», и только если субстанциальная картина мира абсолютна, мы имеем право, более того, должны отождествить эти две фразы. Мы обязаны тогда признать, что действие («идет») является лишь языковым синонимом состояния («идущий»), что «быть идущим» и «идти» — это одно и то же.
Я заговорил о глаголах потому, что глагол, обозначающий действие, указывает на время. Погруженность во временной поток означает подверженность изменениям, а это несовместимо с самим основанием полагания субъекта как субстанциального. Вот почему приверженность нашей речи к глагольным фразам, несомненно, свидетельствует о серьезной прорехе в выстраиваемой связной субстанциальной картине мира. Вопрос в том, может ли эта угроза связности, проявляющаяся на речевом уровне, быть понята как «случайный» факт речи и языка — случайный в смысле своей несвязанности с глубинными особенностями мышления, или она является свидетельством также и теоретических затруднений?
Фундаментальным фактом нашего опыта служит изменчивость окружающего мира. Чтобы зафиксировать изменение, мы должны прежде зафиксировать, что именно изменяется. Поэтому представление об изменениях, в потоке которых мы находимся, требует прежде того представления о неизменном, вынесенном из потока изменений, как условии изменения. Если «нельзя войти дважды» в одну и ту же реку, то лишь потому, что есть «одна и та же река», иначе утверждение невозможности эмпирического удержания изменяющегося было бы бессмысленным. Значимость Гераклитовой формулы — в раз навсегда начертанном указании на тот факт, что в субстанциальной картине мира изменения, составляющие несомненный факт опыта, не могут быть осмыслены как нечто первоосновное; напротив, собственным условием они полагают неизменное. Поэтому различие между Гераклитом и Парменидом — лишь в нюансировках, в акцентах, по существу же оба согласны: истинность мира схватывается как субстанциальная неизменность. Важно понимать, что эта констатация — не «содержание» учения, не некий тезис, который можно сделать предметом дискуссии, оспорить или защитить; это — исходный пункт, логико-смысловая основа, без которой невозможно никакое содержательно наполненное высказывание. Поэтому попытки осмыслить процесс, которые предпринимались в истории западной мысли и которые не могли не строиться на основе субстанциальной логико-смысловой картины мира, так или иначе, явно или молчаливо полагали процесс в качестве либо состояния субстанции, либо чего-то «происходящего» с субстанцией.
Рассматривая движение (как физическое перемещение), мы трактуем его не в качестве движения «как такового», но непременно — как движение чего-то. Движение, даже если на уровне речи оно оказывается субъектом фразы, тем не менее не полагается как субъект в ходе смыслополагания (полагаемым субъектом здесь остается вещь-субстанция), а потому и на теоретическом уровне не может выступать как субстанция. Движение оказывается предикатом субстанции, а в качестве такового оно обязано подчиняться трем аристотелевским логическим законам,
118
в частности закону исключенного третьего. Несложное рассуждение показывает следующее. Субстанция либо является движущейся, либо не является таковой. Движение совершается во времени, и, хотя мы фиксируем предикат «движущийся» в качестве акцидентального, сам механизм такой фиксации, механизм предикации устроен точно так же, как для субстанциальных (неизменных) атрибутов. Иными словами, если мы говорим, что данная субстанция имеет предикат «движущаяся», мы говорим это так, как если бы данный предикат был ее истинным, субстанциальным предикатом. Но, в отличие от субстанциальных, акцидентальные признаки меняются, и, чтобы зафиксировать это изменение, мы обязаны ввести понятие времени. Иначе говоря, мы рассматриваем данную субстанцию на каком-то отрезке времени как «движущуюся», а на каком-то другом — как «не-движущуюся» (= «покоящуюся»). Пока все идет хорошо, но проблема заключается в том, как субстанция меняет один предикат на другой. Ведь смена предиката — это нечто скачкообразное, дискретное, подобно замене «да» на «нет». Такое скачкообразное изменение должно совершаться одномоментно, а это значит (вот принципиальный вывод), что время должно быть устроено столь же дискретным образом, сколь дискретной является смена предиката с данного на противоположный, — ведь именно в протекающем времени совершаются изменения, с точки зрения субстанциальной картины мира. Время, иначе говоря, должно быть атомарным, чтобы было возможно изменение субстанции. Это касается смены любого предиката (т. е. любого вида движения, не только физической его разновидности), но именно при рассмотрении пространственного движения внутренняя противоречивость всего построения становится явной. Ведь в атом времени (в то самое «теперь», которое составляет такую трудность для Аристотеля) движение невозможно — но именно в атом времени должно совершиться предицирование «движения» вместо «покоя» субстанции, которая начинает двигаться. Таким образом, условие предикации противоречит смыслу предиката, и этот урок Зенона никогда не потеряет своей значимости.
Затруднение, которое испытывает наше мышление, пытаясь вписать очевидный факт изменчивости мира в субстанциальную картину, имеет логико-смысловой характер. Схватывание вещи-субстанции предполагает ее неизменность, а значит, вынесенность за пределы потока времени. Осмысление изменения возможно в этой картине мира только как изменение-чего-то, не изменение-как-таковое (это значит, что процедура смыслополагания устроена таким образом, что субъект полагается как вещь-субстанция, и только как вещь-субстанция). Далее, изменение, происходящее с вещью-субстанцией, мы можем осмыслить только как замену ее предикатов одного на другой (противоположный). Замена одного предиката на другой означает, что истекает отрезок времени, когда вещь-субстанция имела предикат (например) «двигающаяся», и наступает отрезок времени, когда вещь-субстанция имеет предикат «покоящаяся». В пределах каждого из этих двух отрезков времени мы приписываем субстанции соответствующий предикат («двигающаяся» на первом отрезке времени и «покоящаяся» на втором), и пока мы находимся в пределах любого данного отрезка времени, наше рассмотрение вещи с акцидентальными предикатами
119
«двигающаяся» или «покоящаяся» ничем не отличается от рассмотрения ее с каким-либо субстанциальным атрибутом (например, «субстанция»): предикация устроена одинаково в обоих случаях, и если представить себе, что жизнь вселенной заключена в пределах только первого отрезка времени, когда вещь имеет акцидентальный (как мы считаем) атрибут «двигающаяся», то мы не имели бы в своем распоряжении логических средств отличить этот атрибут от любого субстанциального.
Это означает, что в устройстве предикации самом по себе нет никаких средств для того, чтобы отличить субстанциальный атрибут от акцидентального: такое различение является внешним, не вытекающим из способа осмысления вещи в этой картине мира. Ведь если мы схватываем вещь-субстанцию как вынесенную за пределы времени и не имеем возможности осмыслить ее иначе, то и атрибут, ограниченный временными рамками, мы будем воспринимать так, как если бы он не был ими ограничен, и такой подход совершенно правомерен постольку, поскольку мы рассматриваем этот атрибут в пределах данного временнóго интервала, где не стоит вопрос о том, что происходит за его границами.
Парменид очень ясно и выпукло выразил это основополагающее для субстанциальной картины мира стремление устранить изменение. Однако изменения происходят в мире — так заставляет нас думать опыт, — и, если мы хотим учесть этот факт в нашей субстанциальной картине мира, нам надо попытаться найти средства отразить его. Мы помещаем изменение в тот зазор между двумя отрезками времени, который разделяет (ведь один отрезок — не другой) и в то же время соединяет их (ведь отрезки образуют плавную, бесшовную линию времени), зазор, который, похоже, не существует с точки зрения субстанциальной картины мира. Парадоксальность этого скачка через зазор в рамках субстанциальной картины мира несомненна; нам вскоре предстоит вернуться к описанию, которое мы дали ему.
Оставим пока в стороне вопрос о парадоксальности и онтологическом статусе зазора между двумя отрезками времени, на которых вещь-субстанция обладает противоположными атрибутами, и зададим другой вопрос: что позволяет преодолеть этот зазор? Благодаря чему происходит смена атрибута с данного на противоположный?
В рамках субстанциальной картины мира мы не имеем возможности ответить на этот вопрос связно, так, чтобы использовать возможности, предоставляемые обосновывающей данную картину мира процедурой смыслополагания, и избежать тезисов ad hoc, в происхождении которых не можем дать отчет. Наши собственные (характерные для данной картины мира) возможности исчерпываются процедурой задания субъекта как вещи-субстанции и отличения его от любых других субъектов за счет наделения предикатами, а эти процедуры попросту «не видят» никакого зазора между двумя отрезками времени, на которых вещь-субстанция обладает противоположными атрибутами. Этот зазор — прореха в субстанциальной картине мира.
Стремясь закрыть его, мы вводим понятие причины и говорим, что, если для двух вещей изменение атрибутов взаимно увязано, одна из них является причиной,
120
а другая — следствием. Указание на причину отвечает не на вопрос, «почему произошло изменение»; оно служит попыткой ответить, «как можно вписать изменение в субстанциальную картину мира».
Изменение всегда совершается в настоящем времени. Изменение всегда про-исходит. Если мы и говорим об изменении в будущем или прошедшем времени как о том, что произойдет или произошло, то все же при этом представляем его как будто происходящим сейчас, как если бы мы перемещались мыслью в прошлое или будущее и оказывались в том самом «теперь», когда происходит изменение. Мы, иначе говоря, всегда должны переживать этот зазор на линии времени, который только и позволяет изменению совершиться; но этот зазор всегда связан с переживанием настоящего, с «теперь», поскольку и прошлое, и будущее представляют собой плавную бесшовную линию.
Это — то самое «теперь», которое никогда не переставало быть парадоксальным, — потому что его собственное бытие всегда представлялось и несомненным, и невозможным. В самом деле, мы всегда имеем дело только с «теперь», поскольку не обладаем ни прошлым, ни будущим; прошлое и будущее могут быть только памятью и предчувствием, помещенными опять-таки в «теперь». Но именно статус «теперь» — самое проблематичное в статической концепции времени, фактически безраздельно господствующей в западной мысли. Если «теперь» — лишь общая граница прошлого и будущего, граница, которую как таковую Аристотель не позволяет нам зафиксировать в субстанциальной картине мира, представив ее в качестве чего-то наличного, то «теперь» не просто ускользает от нас. Чтобы ускользать, «теперь» должно было бы быть чем-то — но именно «чем-то» оно не может стать в субстанциальной картине мира. «Теперь» приходится быть самим ускользанием (а не чем-то ускользающим), как будто бессубъектным процессом.
Изменение и процесс
Изменение является разновидностью процесса. Процессы окружают нас, и хотя не их мы принимаем за основу мира, тем не менее не составляет никакой трудности представить их себе. Язык с готовностью приходит на помощь, предоставляя категорию отглагольного существительного. В самом этом названии сквозит диктат субстанциальной картины мира, стремящейся свести всё к субстанции и ее аспектам. Имя существительное связывается в нашем языковом сознании прежде всего с существующей вещью-субстанцией; по аналогии с ней русская грамматика предлагает мыслить и то, что должно было бы быть названо именем процесса. «Хождение», «говорение», «писание» и т. п. не являются вещами-субстанциями, хотя грамматика называет их именами существительными. Это название, сложившееся стихийно (в других грамматических традициях оно может не иметь аналога), не следует принимать всерьез; оно и в самом деле не более чем еще одно свидетельство господства в нашем сознании субстанциальной логико-смысловой картины мира. Впрочем, такое свидетельство мы находим не только в русской грамматике.
121
В речи мы легко делаем процесс именем подлежащим. «Движение усилилось к концу дня», — скажем мы, имея в виду увеличившееся количество автомобилей на улицах нашего города. «Выпадение осадков превысит норму», — говорит диктор телевидения, знакомя с прогнозом погоды. «Движение», «выпадение» и тому подобные процессы легко становятся подлежащими, субъектами действия: движение усиливается, выпадение превышает. Наша речь превращает движение и тому подобные процессы в нечто самостоятельное, способное стать субъектом и получить предикат, — в нечто, что как будто является вещью-субстанцией.
Эта речевая привычка отчасти сказывается и на уровне теории. Нам нетрудно построить, к примеру, такой силлогизм: «Любое движение совершается во времени, хождение является движением, следовательно, хождение совершается во времени». Здесь «движение» и «хождение» неотличимы от «Сократа», «живого существа» и прочих действующих лиц хрестоматийных силлогизмов: мы не испытываем неудобства, субстантивируя процессы. Конечно, если мы захотим всерьез порассуждать о том, что такое процесс, нам придется отказаться от этой привычки представлять процесс по аналогии с субстанцией, — но тогда мы столкнемся с трудностями, вытекающими из того, что в пределах субстанциальной картины мира процесс придется мыслить как атрибут субстанции.
Попытка помыслить процесс и схватить его в его истинности наталкивается на серьезные, если не сказать непреодолимые, трудности в субстанциальной картине мира по следующей причине. Формируя осмысленную картину мира, мы схватываем вещь-субстанцию в ее истинности как вынесенную за пределы времени. Это — не случайный момент; мы видели, что он тесно связан со всеми прочими деталями построения субстанциальной картины мира, заданного реализованным здесь вариантом процедуры смыслополагания. Между тем схватывание истины процесса требует совсем другого — нашего пребывания в «теперь». Процесс совершается в настоящий момент, и, чтобы схватить процесс в его истинности, мы должны захватить момент настоящего так, как если бы он длился бесконечно. Чтобы выполнить это требование, — повторю, необходимое (такое, которое нельзя обойти), — нужно сменить логико-смысловое основание выстраивания осмысленности.
Как это возможно? И возможно ли это? Таковы две стороны вопроса об осуществимости этого намерения, теоретическая и эмпирическая. Я буду отвечать на него, затрагивая одновременно их обе: говоря, как должна создаваться процессуальная логико-смысловая картина мира, я буду иллюстрировать эти положения примерами, взятыми из опыта арабской культуры, построенной на основе именно этой картины мира.
Рассматривая логико-смысловые основания западной культуры, мы развили методологию, которую применим сейчас для изложения логико-смысловых основ арабской культуры. Я не буду повторять аргументацию и рассуждения по поводу выдвигаемых тезисов, полагая это известным читателю. Вместо этого ограничусь применением предложенной методологии.
122
Процедура смыслополагания сводится — в той ее базовой части, которую мы здесь рассматриваем, — к полаганию субъекта как отличаемого от прочих субъектов. Полагание субъекта означает полагание схватываемой нами вещи в ее истинности, отличение же данной вещи от прочих, включаемых в полотно осмысленности, происходит благодаря различению области осмысленности, связываемой с полагаемым субъектом. Интуиция полагания субъекта напрямую соотносится с интуицией поля осмысленности, поскольку именно благодаря различению последнего субъект становится различим в процессе предикации и, следовательно, отличим от прочих субъектов. Различение поля осмысленности достигается в ходе задания предела, показывающего тождественность свернутости-и-развернутости.
Таково суммарное изложение основных «моментов» процедуры смыслополагания; их подробное обсуждение читатель найдет выше. Слово «момент» я беру в кавычки, поскольку процедура смыслополагания не распадается на шаги, аспекты и тому подобное, что можно было бы считать отделяемым одно от другого даже в понятии. Напротив, процедура смыслополагания целостна, а значит, любая ее «часть» не может быть понята без прямой отсылки ко всему остальному. Это следует иметь в виду и стараться держать в поле зрения именно целостность, не соскальзывая в «автономное» понимание этих как будто отделяемых в нашем изложении (что неизбежно в силу его речевой формы) один от другого «моментов».
Имеется еще одно положение, касающееся процедуры смыслополагания и носящее принципиальный характер. Оно заключается в том, что процедура смыслополагания вариативна. Я высказал выше это положение в форме вопроса. Пришло время ответить на него утвердительно и раскрыть его смысл.
Процедура смыслополагания, которую мы рассматривали до сих пор и которая лежит в основании западного макрокультурного ареала, построена на полагании субстанциального субъекта различения. Вариативность процедуры смыслополагания означает, что субъект может полагаться иначе; что субъект может полагаться не как субстанциальный. Каковы в принципе возможные виды полагаемого субъекта и, следовательно, каковы виды процедуры смыслополагания — этот вопрос мы оставляем в стороне; я думаю, что ответ на него может быть найден в ходе логико-смыслового исследования других макрокультурных ареалов, прежде всего китайского и индийского. Но один вариант процедуры смыслополагания, альтернативный субстанциальному, нам известен. Я называю его процессуальным, и представлен он опытом арабской культуры, задавшей логико-смысловое основание для макрокультурного ареала исламского мира.
Различие в способе осуществления процедуры смыслополагания — это корневое различие, самое глубокое из всех, о которых мы можем говорить. Оно накладывает свой отпечаток на все поле осмысленности, в котором движется наше сознание. Любые фрагменты поля осмысленности «затронуты» этим различием, и все в поле осмысленности восходит к этому различию; само же оно ни к чему не восходит, кроме самого себя: оно изначально. Это значит, что для двух вариантов процедуры смыслополагания нет инварианта.
123
Этим проясняется смысл понятия «инаковость», как оно было введено в начале этой работы: способ смыслополагания, характерный для арабской культуры, является инаковым в отношении способа смыслополагания, на котором построена западная культура, а не «специфичным» — в последнем случае нам пришлось бы отыскивать нечто общее для двух процедур смыслополагания, а такое общее как инвариант отсутствует. Не случайно было сказано, что инаковость означает разрыв связности: нам приходится полностью перестраивать поле осмысленности, перемещаясь между западной и арабской культурами, мы не можем ограничиться частичными переделками. Вместе с тем — и это крайне важно понимать — инаковость арабской культуры в соотношении с западной (а инаковость, повторю, подразумевает целостное логико-смысловое различие) вовсе не означает, что нам совершенно недоступно понимание процессуального способа смыслополагания.
Посмотрим на улицу: что мы там видим? Мы видим, что по тротуарам идут пешеходы, что машины движутся по мостовой, обгоняя друг друга, останавливаются на красный свет и стоят, пока не загорится зеленый. Мне кажется, что в подавляющем большинстве случаев, если не всегда, спонтанный ответ носителя русского языка на подобный вопрос будет построен именно так — как набор глагольных фраз.
Глагольная фраза не позволяет употребить связку «есть» вовсе: невозможно придумать, как и куда можно было бы поставить ее в такой фразе. Однако состояние дел в мире не обязательно должно быть описано глагольной фразой. Как уже говорилось1, глагольная фраза всегда может быть преобразована в именную двумя разными способами. Это — удивительный факт: как будто бы единая реальность, которую мы наблюдаем и которую фиксируем глагольной фразой, раздваивается — и такое раздвоение, возможное наряду с исходной текучестью глагольно-фиксируемой действительности, дозволено самой этой действительностью. Мы не должны ничего придумывать, не должны совершать над собой никакого усилия; нам вовсе не надо заставлять себя — мы совершенно естественно и беспрепятственно проводим преобразования «Г → ИС» и «Г → ИП», преобразуя глагольную фразу в именную двумя различными, несовместимыми — и тем не менее эквивалентными способами. Язык легко предоставляет нам средства таких преобразований; мышление без труда образует соответствующие предикационные конструкции; и наше восприятие реальности, кажется, ничего не теряет и вообще никак не меняется оттого, что мы можем видеть одно и то же тремя различными способами, первому из которых соответствует глагольная фраза, а двум другим — два типа именной.
В самом деле, выглянем еще раз в окно. Мы можем увидеть ходящих пешеходов, а можем увидеть хождение пешеходов; точно так же мы можем видеть двигающиеся машины, а можем видеть движение машин. И так далее. Мы строим свой взгляд либо так, либо эдак; всякий волен проделать такой эксперимент и обнаружить в самом себе эту способность. Различие этих способов построить
взгляд — изначальное, оно не может быть сведено к чему-то третьему, как сами эти два способа не могут быть сведены один к другому. Первый соответствует субстанциальному взгляду на мир и субстанциальной логико-смысловой картине мира, второй — процессуальному способу видеть мир и процессуальной логико-смысловой картине мира.
Выбор одного из двух вариантов преобразования глагольной фразы и соответствующего видения мира — это наш изначальный и, по-видимому, свободный выбор. Свободный, хотя обычно не осознаваемый. Свободный в том смысле, что его ничто не предопределяет — ничто, кроме имеющейся культурной привычки. В самом деле, исходное не может быть чем-то определено именно потому, что оно — исходное; однако подключение к культурной традиции означает неизбежно и принятие какого-то одного из возможных вариантов процедуры смыслополагания. Хорошую аналогию предоставляет в данном случае понятие языковой способности: в течение нескольких первых лет жизни человек способен к овладению любым языком как своим родным; иначе говоря, человек рождается без языка (а только со способностью к языку), и ничто в нем не предопределяет, какой именно язык станет для него родным. Ничто, кроме окружения и языковой традиции. Точно так же и с нашей способностью выстраивать осмысленность, «запускать» механизм сознания: ничто в самом человеке, так сказать, физически, материально не предопределяет выбор в пользу того или иного варианта процедуры смыслополагания; лишь среда, подключающая человека к той или иной культурной традиции, фактически формирует этот «выбор».
Вернемся к нашему примеру. Мы обязаны переформулировать глагольную фразу так, чтобы стало возможным создание субъект-предикатной конструкции, использующей связку; но мы можем переформулировать ее (по крайней мере) двумя разными способами. Выше даны варианты такой переформулировки: полужирным шрифтом выделен субъект, а курсивом — предикат. Мы можем увидеть либо пешеходов, которые идут, либо хождение, в котором участвуют пешеходы; либо машины, которые двигаются, либо движение, совершаемое машинами. Эти два варианта логически равновозможны, и нет ничего, что логически предопределило бы перевес одного над другим. Если мы выбираем «машины, которые двигаются», значит, мы отдаем предпочтение
124
субстанциальной картине мира; если это будет «движение, совершаемое машинами», значит, для нас ближе процессуальная картина мира. Вспомним, что наша собственная культура построена на основе только одной процедуры смыслополагания; совершенно замечательно, что язык предоставляет возможность прикоснуться и к другой, ибо приоткрывает дверь, ведущую в мир иначе выстроенной осмысленности.
Однако в своей речи мы фактически избегаем возможности зайти в эту приоткрытую дверь. Если попросить носителя русского языка переформулировать глагольную фразу, выбрав один из двух предложенных вариантов, он наверняка в большинстве случаев, если не всегда, выберет первый, а не второй. Я могу выдвинуть этот тезис только как гипотезу, подтвержденную собственным внутренним
125
опытом; интересно было бы получить количественные показатели предпочтений в случае такого выбора. Конечно же, мы видим в мире вещи, которые каким-то образом действуют и взаимодействуют, обладая определенными качествами; едва ли мы будем склонны сказать, что мир состоит из процессов, поставив процесс на первое место и всерьез забыв про вещь-субстанцию.
Вместе с тем процесс не вытеснен вовсе из нашей речи; я имею в виду процесс как нечто первичное, первоосновное. У нас он оттеснен на периферию речевых привычек, но тем не менее присутствует, будучи выражен в русском то отглагольным существительным, то неопределенной формой глагола. Возьмем, к примеру, объявление вроде «курить запрещено» или «курение запрещено»: именно процесс курения выступает здесь как полноправный субъект, тогда как действующее лицо, некто курящий, оттеснено на периферию нашего внимания. Такого рода примеры показывают, как могла бы выстраиваться процессуальная картина мира; но все дело в том, что они, эти примеры, остаются для нас второстепенными, не определяющими основное русло мыслительной и речевой активности.
Итак, язык и его формальные средства предоставляют возможность «прикоснуться» к разным вариантам процедуры смыслополагания. Но ведь язык — это мертвая абстракция; не язык имеет отношение к мышлению, а речь. Это — принципиальное положение, которое мне представляется несомненным. Оно ясно показывает отличие логико-смыслового анализа мышления, речи и языка от наработок структуралистской лингвистики; оно же дает твердое основание для отличения развиваемых мной положений относительно вариативности мышления и речевых привычек от известной гипотезы Сепира-Уорфа (мне неоднократно приходилось подробно показывать, что моя позиция не имеет ничего общего с гипотезой языковой относительности, поскольку строится на другом понимании соотношения речи и языка, и что сама по себе эта гипотеза неудовлетворительна1).
Речь не сводится, как считают структуралисты, лишь к «применению» средств, предзаданных языком. Этим словечком «применение» (или ему подобными по смыслу) фактически снимают с повестки дня не просто важный, но важнейший вопрос: если в языке как таковом отсутствует осмысленность, то откуда она берется в речи, — ведь именно речь, а никак не язык погружает нас в стихию осмысленности? Этот вопрос сродни другому, на который пока никто не может ответить: если жизнь отсутствует во всех физико-химических ингредиентах и процессах, идущих в клетке, то откуда она берется в самой клетке? Свести жизнь к набору физических элементов было бы тем же, что свести осмысленность к набору языковых правил.
Если уж пытаться выразить соотношение между языком и речью, то его следует представить так: речь — это язык + связность. В речи в самом деле нет ничего, чего не было бы в языке, за исключением связности. Именно связность составляет,
126
в первом приближении, стихию осмысленности. Ставя вопрос о том, как возможна осмысленность, мы говорим именно о связности.
Откуда же берется в речи связность? Так и просится подсказка — то ли из школьных курсов родного языка, то ли со страниц сочинений по лингвистике и теории перевода: речь становится связной благодаря тому, что соответствует правилам языка. В самом деле, изучая иностранный язык, мы всеми силами стремимся следовать его правилам, чтобы сделать свою речь понятной. Но ведь именно «понятной»; между понятностью и связностью есть разница. Я согласен с тем, что языковые правила сформулированы так, чтобы отражать понятность речи; но они ничего не говорят о том, благодаря чему речь становится связной. Связность предполагает понятность, это верно; но в связности есть что-то еще, кроме понятности.
Вернемся еще раз к нашему примеру и попробуем построить речь, сообщающую о том, что мы видим за окном на улице. Напомню, что мы можем строить свой взгляд двумя различными способами и видеть либо «ходящих пешеходов», либо «хождение пешеходов»; либо «двигающиеся машины», либо «движение машин» (и так далее). Так мы выразили способ построения взгляда, направленного на мир и видящего его либо так, либо эдак. Попробуем теперь перевести это в план полноценного предложения; попробуем, иначе говоря, построить свою речь в соответствии с этими двумя способами видеть мир.
Конечно, в каждом случае существует больше чем одно предложение, отражающее факт того или иного схватывания мира; факт видения «ходящих пешеходов» мы можем отразить, сказав: «Я вижу ходящих пешеходов» — или: «Ходящие пешеходы движутся по улице» и т. п. Вместе с тем, как мне представляется, есть только одна минимальная фраза, представляющая собой понятную (пока говорим именно о понятности) речь и в то же время как будто ничего не добавляющая к исходной констатации: «Ходящие пешеходы суть (= существуют)».
Эта фраза не слишком красива, но она понятна. Мы можем заменить глагол «быть» («есмь») на какой-нибудь синоним и сказать, к примеру: «Ходящие пешеходы имеются». Так или иначе, мы добавили лишь «быть» или его синонимы и получили понятную фразу: «быть» в нашей речи служит указанием на существование того, что выступает в предложении подлежащим.
Далее, выражая тот же самый факт схватывания мира, мы можем сказать: «Пешеходы суть ходящие». Между «Ходящие пешеходы суть (= существуют)» и «Пешеходы суть ходящие» разница, кажется, невелика, если только мы не трактуем вторую фразу как вечную истину, а не как высказывание о конкретных пешеходах, которых видим в настоящий момент на улице. Если и то и другое — высказывание о том факте, что на улице наличествуют пешеходы, которые идут, то эти два высказывания как будто синонимичны.
И все же между ними есть разница. В первом случае («Ходящие пешеходы суть (=существуют)») мы лишь утверждаем существование субъекта. Мы еще не говорим, что пешеходы являются ходящими; мы не разворачиваем наше понимание субъекта. В первом случае мы можем даже записать фразу так, как если бы имели
127
в ней единичный субъект, использовав для этого дефис: «Существуют ходящие-пешеходы». Собственно, это еще не субъект-предикатная фраза; это — фраза, утверждающая существование субъекта. С логико-смысловой точки зрения она отражает факт полагания субъекта — то, с чего мы начинаем рассмотрение процедуры смыслополагания.
Вторая фраза («Пешеходы суть ходящие») является субъект-предикатной. Она может быть понята в двух смыслах, которые можно выразить примерно так: во-первых, пешеходы — это люди, которые идут («ходить» для пешеходов — отличительный признак); и, во-вторых, пешеходы сейчас идут (а в другое время могут и остановиться: «хождение» характеризует их именно в данный момент). Можно, иначе говоря, считать «хождение» существенным или случайным признаком пешеходов. Этим двум возможностям понимания соответствуют две возможности задать логико-смысловую конфигурацию, которая их отражает. Рассмотрим их по порядку.
Пусть «ходящие» — случайный признак пешеходов. Тогда мы подразумеваем, что пешеходы бывают ходящими и бывают не-ходящими (например, стоящими или бегущими на красный свет). Мы как будто присваиваем имя «пешеходы» всему участку осмысленности, который охвачен процедурой полагания предела; и этот участок разбивается на два под-участка, ни в чем не совпадающие друг с другом, но вместе точно соответствующие исходному. Мы не даем им специальные имена (хотя и могли бы сделать это ради краткости или удобства); первый соответствует имени «идущие-пешеходы», а второй — имени «не-идущие-пешеходы». Конечно, это — не два вида в строгом смысле этого слова; однако отношение между двумя противоположностями точно такое, какое было бы между двумя видами одного рода.
Если же «ходящие» — субстанциальный, существенный признак, то это означает, что «пешеходы» — имя свернутого участка, полученного благодаря проведению внутренней границы на более широком участке осмысленности, которому может быть дано какое-то другое имя. Это имя будет играть роль имени рода (например, «находящиеся-на-улице»), который как будто распадается на два вида: «пешеходов» (тех, что всегда идут) и «не-пешеходов» (пусть это будут «водители» — те, кто всегда едут) — эти два вида исчерпывают род.
В обоих случаях мы восстановили логико-смысловую конфигурацию, построенную благодаря одному и тому же варианту процедуры смыслополагания. Разница между двумя случаями — в том, что одно и то же имя («пешеходы») дано разным участкам осмысленности, а значит, и имена прочих «участников» этой логико-смысловой конфигурации различаются. Однако логические импликации — одни и те же, и три Аристотелевых логических закона будут верны в обоих случаях.
Могут сказать, что все это тривиально. Но тривиальность здесь лишь кажущаяся. Мы сейчас увидим, что непременным условием такого понимания является полагание именно субстанциального субъекта, а значит, и сопровождающая такое полагание интуиция пространственного представления поля осмысленности с соответствующим вариантом логико-содержательной соотнесенности. Нам это станет
128
ясно, как только мы попытаемся построить предложение, отражающее второй, процессуальный тип схватывания мира. Но прежде чем перейти к этому, подведем итог проделанного анализа.
Фраза «пешеходы суть ходящие» понятна; но она не просто понятна, она также и связна. Ее связность проявляется в том, что мы можем «развернуть» полагаемый нами субъект, показав — как мы это сделали в нашем анализе — свернутость-и-развернутость того участка осмысленности, который ввели в сферу нашего внимания, определив и опредéлив его. «Технически» это выразилось в том, что мы смогли безболезненно переставить связку с одного места в предложении на другое, превратив фразу, фиксирующую субъект (т. е. отражающую лишь факт полагания субъекта), в субъект-предикатную фразу (т. е. фразу, полагающую субъект как свернутость-и-развернутость, иными словами, отражающую этот факт тождества свернутости и развернутости). Вот почему такая фраза связна: она напрямую «зацепляется» с осмысленностью, стихию которой и составляет устанавливаемая свернутость-и-развернутость, являющая, как мы говорили, след смысла как целостности.
Попробуем теперь построить предложение, которое отразит второй, процессуальный способ схватывания мира. Он заключается, напомню, в том, что мы видим «хождение пешеходов», причем на первом, так сказать, месте стоит именно хождение как процесс: попытаемся построить свой взгляд и речевое поведение так, чтобы они схватывали и отражали процессуальность мира.
Какой будет в данном случае минимальная фраза, соответствующая такому взгляду? Едва ли мы можем поступить иначе, чем в первом случае, добавив глагол «быть». Мы скажем: «Хождение пешеходов есть» — или построим тому подобные фразы («Есть хождение пешеходов», «Имеется хождение пешеходов», если «имеется» — синоним «есть», и т. д.). Мы таким образом зафиксируем существование субъекта. Фраза будет понятной: едва ли носитель русского языка признает ее неправильной. Однако она не будет связной — в том смысле связности, который подразумевается здесь.
«Технически» это отражено тем фактом, что мы никак не сможем «развернуть» субъект этой фразы, переставив связку на другое место. Оказывается, «хождение пешеходов», эта генитивная конструкция, неразъемна и представляет собой как будто «цельный», не разворачивающий себя субъект. С логико-смысловой точки зрения это значит, что мы не можем представить «хождение» как фрагмент поля осмысленности, который разворачивался бы в нечто другое; и мы не можем представить себе «хождение» как развернутость, указав на ее свернутое состояние. Мы не можем, таким образом, установить свернутость-и-развернутость; мы не можем включить «хождение» в полотно связной осмысленности.
Различение понятности и связности представляется существенным. Возьмем известную фразу «Глокая куздра будланула бокра». Эта фраза понятна или же она связна? Я думаю, что правилен второй ответ. Мы называем «понятным» то, что можем напрямую соотнести с внешним миром. Фраза «Есть хождение пешеходов» понятна (пусть и неуклюжа): мы можем согласиться с тем, что во внешнем мире
129
имеется «хождение пешеходов», если готовы признать существование процессов, хотя бы в смысле их наличия и представленности восприятию. Однако связным мы называем то, для чего можем произвести грамматические трансформации, и так и сяк «поворачивающие» фразу и как будто показывающие ее со всех сторон. Мы можем сказать: «Бокр будланут куздрой», мы можем предположить, что «куздра» бывает «глокой» и «не-глокой», и так далее; а главное, мы знаем, что «куздра» — это вещь-субстанция, совершившая некое действие, и можем сказать, что «куздра есть будланувшая». Мы как будто меняем точку зрения — так зритель обходит на выставке скульптуру со всех сторон, чтобы составить о ней полное впечатление. Вот и мы, пользуясь связностью фразы, растягиваем и сжимаем ее, поворачиваем так и эдак, — иначе говоря, устанавливаем тождество свернутости и развернутости, которое и составляет суть связности.
Вот почему фраза, которую мы построили («Есть хождение пешеходов»), отражая как будто чувствуемое, схватываемое нами видение мира как процессуального, является понятной (мы понимаем, что такое процесс), но лишенной связности (мы можем лишь назвать процесс, но не можем развернуть его как осмысленность). Всякая попытка включить «хождение» в полотно связности будет означать для нас неизбежную субстанциализацию процесса.
На речевом уровне это выразится в следующем. Чтобы создать субъект-предикатную конструкцию, нам придется построить примерно такую фразу: «Хождение есть совершаемое пешеходами». «Хождение» тут приобретает все черты субстанциального субъекта, что выражается и в организации предицирования с использованием связки «есть», и в том, что на «хождение» теперь распространяются три логических закона, вписывающие его, как любую субстанцию, в пространственно-представляемое поле осмысленности. Включенное в полотно осмысленности, приобретшее черты связности, «хождение» перестает быть процессом и становится логически неотличимым от субстанции.
Что же требуется, чтобы не только назвать процесс, употребив слово «хождение», но и осмыслить его? Что нужно, чтобы построить процессуальную картину мира, а не имитировать процесс в субстанциальной картине мира, неизбежно субстанциализируя его? Для этого необходимо принять другой вариант процедуры смыслополагания.
Процедура смыслополагания: процессуальный вариант
Альтернативный субстанциальному вариант процедуры смыслополагания заключается в том, что мы полагаем субъект как процессуальный.
Полагание субъекта — это его схватывание, удержание его в его истинности. Лишь кажется, будто понятие истины — туманное философское изобретение. Наше сознание едва ли могло бы функционировать, если бы в постоянном переливе значений не удерживало бы нечто зафиксированное, схваченное, остановленное, — иначе говоря, если бы оно не могло располагать некими «нечто».
130
По-видимому, наше сознание не может функционировать как стихия чистой текучести; текучесть и зыбкость могут быть лишь чем-то дополнительным к схватываемым неизменностям, к тем «нечто», которыми мы оперируем в этой зыбкой стихии. Это — как будто вехи, как будто колышки, фиксируемые и служащие опорой в построении связной картины мира. Такое «нечто», схватываемое в качестве чего-то неизменного, чего-то определенного, то есть истинного, я и называю субъектом.
Смысл схватывания неизменного «нечто» заключается в том, чтобы отличить его от других подобных «нечто»; но такое отличение, как мы видели, возможно только благодаря внутреннему различению субъекта. Мы привыкли схватывать такие «нечто» как субстанции; можем ли мы схватить неизменное, зафиксированное в своей истинности «нечто» как процесс?
Мы видели, что задание предела служит одновременно полаганию определенного (т. е. именно зафиксированного, схваченного) «нечто», равно как его различению, поскольку задает тождественность свернутости-и-развернутости, благодаря которой мы схватываем его смысловое наполнение. Кроме того, задание предела устанавливает, каким логическим законам подчиняется полагаемый нами субъект. Процедура задания предела суммирует процедуру смыслополагания. Это, таким образом, ключевой момент: если мы поймем, как задается предел, позволяющий схватить процесс как истинный, т. е. как неизменный, и вместе с тем задать его развернутость, показав его смысловое наполнение, — если мы сможем сделать это, мы поймем в основных чертах, как осуществляется процессуальный вариант процедуры смыслополагания и как возможно построение процессуальной картины мира, где мир предстает как собрание не субстанций, а процессов.
Объяснение процедуры задания предела начинается с указания на интуицию поля осмысленности, которая соответствует полагаемому субъекту. Разбирая эту интуицию в случае субстанциального варианта процедуры смыслополагания, мы говорили, что эту интуицию нельзя «объяснить»; однако на нее достаточно намекнуть, поскольку носители культур, входящих в западный макрокультурный ареал, наверняка обладают такой интуицией. Однако дело обстоит противоположным образом сейчас, когда перед нами стоит задача пояснить, какова интуиция поля осмысленности для процессуального варианта процедуры смыслополагания — интуиция, которой тот же самый читатель наверняка не обладает. Я обращаю на это внимание; пусть язык и приоткрывает нам, что такое процесс (мы умеем называть процессы, произнося имена «хождение», «писание» и тому подобные), однако мы не обладаем интуицией, позволяющей развернуть это понимание в полномасштабное полотно осмысленности (вот почему процесс в субстанциальной картине мира неизбежно оказывается вторичным в отношении вещи-субстанции). Именно эту интуицию, которой мы не обладаем, я и должен разъяснить читателю, — притом что разъяснить интуицию, кажется, невозможно, ведь любое объяснение уже покоится на базовой интуиции, благодаря которой слова оказываются для нас осмысленными.
131
Это — в самом деле серьезная задача. Может быть, ее облегчит подсказка, оставленная Аристотелем? Разбирая проблему осмысления движения (в широком смысле, как изменения) в субстанциальной картине мира, мы говорили, что описать изменение как смену атрибута субстанции можно, только если принять, что время дискретно; однако атомарный характер времени, согласовывающийся с нашим восприятием «теперь» как настоящего момента, не длящегося, но присутствующего и наличествующего, входит в неустранимое противоречие с самим понятием движения. Это вынуждает Аристотеля прибегнуть к парадоксальному представлению «теперь» как общей границы прошлого и будущего, так что «теперь» перестает, собственно говоря, быть наличествующим моментом.
Я оттолкнусь от аристотелевского понимания «теперь», которое наверняка знакомо читателю, и попрошу немного модифицировать эту модель. У Аристотеля «теперь», составляющее общую границу прошлого и будущего, скользит по линии времени, направляясь из прошлого в будущее. Сама линия времени от этого никак не меняется, она остается — как ни странно это звучит в отношении времени — неизменной, и если представить себе момент «теперь» раздвинувшим свои границы, распахнувшим их до максимальных пределов, то «теперь» просто охватит всю линию времени. Такое всеохватное «теперь», для которого все времена явлены сразу («одновременно»), и представляет собой вечность. Для меня важна эта тенденция, это стремление «теперь» ко все-охвату линии времени: в так достигаемом понятии вечности субстанциальное мышление реализует интуицию задания предела как полностью охватывающего и опоясывающего опредéливаемое.
Откажемся от этого фундаментального стремления к овнутряющему охвату и представим «теперь» не скользящим вдоль линии времени, а зафиксированным, неподвижным: не «теперь» будет двигаться вдоль линии времени, стремясь охватить ее всю, а, напротив, время будет перетекать через неподвижное «теперь». Если время, наподобие некоторой реки, непрерывно течет из прошлого в будущее через «теперь», то, коль скоро мы фиксируем свой взгляд именно на «теперь», окажется, что прошлое и будущее всегда представлены в схватываемом нами «теперь».
Заметим, что в этой модели мы никогда не достигнем того эффекта, который достижим в модели скользящего «теперь». Это крайне важно, и я еще раз подчеркну: здесь невозможно так раздвинуть, распахнуть границы «теперь», чтобы оно охватило все без остатка прошлое и будущее. Казалось бы, почему? Почему в мысленном эксперименте, где нам позволено все, мы не можем точно так же сделать «теперь» всеохватным? По очень простой причине: смысл «теперь» в нашей модели — в том, что через него прошлое перетекает в будущее, и без такого перетекания нет и «теперь»; однако, стоит нам раздвинуть границы «теперь» до абсолютных, полностью охватив все время (так мы поступали в первом случае), как это перетекание исчезнет, — а вместе с ним исчезнет и «теперь». (Из этого, в частности, следует, что понимание вечности в этой модели будет
132
существенно иным, нежели в первом случае, и опыт арабской культуры вполне подтверждает это.)
Чтобы завершить построение модели, хорошо отражающей интуицию поля осмысленности, соответствующую процессуальному варианту процедуры смыслополагания, следует добавить еще одно соображение. «Теперь», через которое прошлое перетекает в будущее, не является безразмерной точкой, как то было в модели скользящего «теперь»; напротив, здесь, в модели зафиксированного «теперь», этот момент настоящего представлен как будто резервуаром, имеющим вполне осязаемые размеры. Прошлое и будущее всегда находятся вне этого резервуара, за его пределами; всё время никогда не помещается в этот резервуар, а значит, всё время никогда не охватывается целиком некой внешней границей.
Во избежание недоразумений подчеркну еще раз: это не модель времени, это — символика времени, использованная исключительно для того, чтобы зримо, ощутимо представить интуицию, лежащую в основе процессуальной картины мира1. Интересно, что к этой модели мы пришли, оттолкнувшись именно от точки непреодолимого затруднения, которую давно нащупала греческая мысль в субстанциальной картине мира, — от точки «теперь», точки настоящего времени. Это небезынтересно потому, что процесс как раз и протекает всегда в настоящем времени, — а построенная нами модель позволяет схватить, зафиксировать именно этот момент настоящего как наличествующий, как «нечто».
Эту функцию и выполняет интуиция поля осмысленности, лежащая в основании процессуальной картины мира, интуиция, к которой я не могу просто отослать читателя, но модель которой, на мой взгляд достаточно внятную, я для него построил. Дальше я буду обсуждать, как выстраивается процессуальная картина мира в ходе осуществления процессуального варианта процедуры смыслополагания, используя эту модель и ее образность.
133
Сперва представим данную модель в абстрактном виде, устранив использованную символику. Первое, что мы должны зафиксировать: интуиция, схватывающая поле осмысленности, здесь не является пространственно-статической. Осмысленность не может быть представлена как лист бумаги, на котором мы расчерчиваем отдельные участки, сополагая их друг с другом, и, охватывая общей границей, держим перед глазами все сразу. Именно этого сразу нет и не может быть здесь потому, что граница не опоясывает и не «вмещает в себя» о-граничиваемое (и благодаря такому овнутряющему вмещению от-граничиваемое от всего остального).
Здесь действие границы — иное: граница задает возможность перехода одной противоположности в другую. Именно в этом заключается процессуальность субъекта, полагаемого таким образом: весь его смысл, все его содержание заключены в том, чтобы, связав две противоположности, схватить и зафиксировать момент перехода из одной в другую — момент, который объединяет их (но не включает «внутрь» себя, поскольку не окружает их со всех сторон) и в котором они, следовательно, приходят к своему единству.
Обратим внимание на свойства этой модели, которые вытекают из самого ее устройства и, следовательно, неотъемлемы от нее. Граница задана таким образом, что, не охватывая (не окружая) со всех сторон все составляющие эту модель части, она тем не менее опредéливает их (задает им предел) и тем самым их определяет. Это достигается благодаря тому, что граница, задавая возможность перехода между противопоставленными (и, таким образом, противоположенными) «правой» и «левой» частями (в предложенной символике — между будущим и прошлым), тем самым определяет и сами эти противоположности: они именно таковы, что могут найти свое единство в моменте перехода. Такой способ задания предела, целиком иной, нежели тот, что обосновывает субстанциальную картину мира, может работать и корректно выполнять свои функции потому, что само, так сказать, «вещество» (за неимением лучшего слова употреблю это) осмысленности здесь — другое: это — процесс во всех основных (неотъемлемых) составляющих, схваченный и зафиксированный в своей неизменности. Именно благодаря такой фиксации процессуальное мышление достигает того, что остается в принципе недоступным в пределах субстанциальной картины мира, где процесс неизбежно оказывается связанным с текучестью и изменчивостью.
Можно ли привести какой-либо пример, способный приблизить эту абстрактную модель к нашему пониманию, сделать ее наглядной и близкой? Конечно. Любое обозначение процесса в русском языке ориентирует нас именно на вневременное его понимание. Слова «хождение», «говорение» и им подобные всегда лишены семантики времени, как будто подсказывая, что схватывают процесс в его вневременном состоянии. Интересно, что в русском неопределенная форма глагола фактически выполняет ту же функцию и служит для обозначения процесса, будучи лишена семантики времени, а также лица, числа, рода — т. е. всего того, что непременно имеет глагол (например, можно сказать: «Курение запрещено», а можно: «Курить запрещено»).
134
Это дает возможность зафиксировать крайне важное положение: процесс и действие принципиально различаются, и различаются они именно тем, что процесс мы мыслим как совершаемый вне времени и не привязанный к конкретному действователю (мы не знаем, кем именно совершается «курение»), тогда как действие, выражаемое глаголом, не может не иметь семантики времени и всегда бывает связано с определенным действователем или их группой («куришь», «курю» и т. д. ясно указывает на время и конкретного действователя).
Любой процесс предполагает две стороны — действующее и претерпевающее. Заметим, что названия этих грамматических категорий отправляют нас к действию, а не к процессу. Это не случайно. Возьмем какой-нибудь процесс, например «говорение». Совершенно естественно считать, что говорение предполагает наличие «говорящего» и «проговариваемого», т. е. действующего и претерпевающего. Такое предположение едва ли может вызвать возражение, более того, оно представляется совершенно необходимым: процесс говорения не может состояться без наличия этих двух сторон, поскольку представляет собой их связь, а потому, естественно, попросту исчезает, если исчезает хотя бы одна из них. Точнее было бы сказать, что все эти три составляющих процесса — действующее, претерпевающее и процесс — наличествуют только все вместе, и если мысленно представить себе исчезновение хотя бы одного, мы не сможем удержать и остальных участников процесса. Это подсказывает, что мы имеем дело с целостностью, которая не может быть редуцирована: она либо имеется вся целиком, либо отсутствует вовсе.
Теперь обратим внимание на следующее обстоятельство. «Говорение» в самом деле обозначает процесс, не указывая ни на время, ни на конкретного действователя; произнося это слово и формируя в соответствии с ним свое представление, мы действительно схватываем процесс в его неизменности, фиксируем его как «нечто» и ставим в качестве субъекта перед своим мысленным взором; «говорение» как пример процесса выступает, таким образом, в качестве начальной точки формирования процессуальной картины мира. Но «говорящий» — уже не процессуальное, а действенное слово (т. е. имеющее отношение к действию, а не процессу). «Говорящий» указывает на время, равно как на лицо и число, а потому по праву «принадлежит» действию, а вовсе не процессу. То же самое касается и претерпевающего (это в нашем примере «проговариваемое»): здесь мы имеем указание на время, лицо и число.
Это означает очень важную вещь: как будто начав схватывать процесс, мы столкнулись с тем, что наш язык не позволяет довести дело до конца. Ведь процесс только потому процесс, что связывает две стороны — инициирующую и воспринимающую, и его, так сказать, процессуальность целиком заключена в этом связывании. Однако то, что он связывает, оказывается сторонами действия, а не процесса — так представляет дело наш язык; и «говорящий», и «проговариваемое» как будто требуют именно глагола, обозначающего действие со всеми его атрибутами (время, лицо, число, род), а не процесса как фиксируемого вне временнóго
135
изменения. (Может быть, поэтому грамматика называет слова типа «говорение» именами действия, а не именами процесса? Как знать, может быть, и так.) Дело обстоит так, как если бы наш язык с его формальными средствами был устроен таким образом, чтобы дать нам почувствовать, что такое процесс, но не позволить до конца построить процессуальную картину мира. Конечно, язык не предопределяет мышление, однако языковые средства не могут быть безразличными для мышления. Если мы в силу своих мыслительных и речевых (не языковых!) привычек склонны к формированию субстанциальной картины мира и если процессуальность требует иного базового подхода, а язык при этом блокирует полноценное осознание возможности схватить процесс не как действие-во-времени, а как «нечто», как зафиксированное изменение, то естественно, что процесс не становится действительным субъектом различения и основой формирования картины мира, а переинтерпретируется в терминах субстанциальной картины мира как изменение вещей-субстанций.
В этом смысле арабский язык являет разительный контраст русскому. Здесь наличествуют все необходимые формальные средства для того, чтобы целостно выразить процессуальность. Указания на время и лицо лишен в арабском не только масдар (эта грамматическая категория и является эквивалентом «имени действия», точнее, имени процесса: под нее подпадают арабские слова вроде кита̄ба «писание» или такаллум «говорение»), но также ’исм фа̄‘ил «имя действователя» и ’исм маф‘ӯл «имя претерпевающего»1. Это обстоятельство делает арабские слова, принадлежащие последним двум категориям, непереводимыми в строгом смысле на русский, поскольку наш язык начисто лишен соответствующих формальных средств. Арабское имя действователя ка̄тиб мы должны перевести одним из множества вариантов: «пишущий», «написавший», «писавший» и т. д., однако все они, как мы видели, включены в смысловую сферу действия, а не процесса, поскольку указывают на время и завершенность либо незавершенность действия — в отличие от арабского ка̄тиб (имя действователя для процесса «писание») или мактӯб (имя претерпевающего для процесса «писание»), вовсе не указывающих на время и на совершенность-несовершенность действия. Не зная арабского языка и находясь целиком в пределах русского, мы можем лишь, обладая достаточной силой воображения, представить, что значит использовать язык, наделенный такими свойствами.
Однако дело, конечно же, не в языке и его формальных средствах: это — лишь необходимое, но не достаточное условие. Если бы все ограничилось арсеналом формальных средств арабского языка, тогда как в арабской речи мы не нашли бы
136
никаких свидетельств того, что именно процессуальная, а не субстанциальная картина мира характерна для носителей этого языка, то и само наличие формальных средств осталось бы интересным для лингвистов фактом, но ничего не сообщало бы об архитектонике сознания говорящих на арабском языке. Однако арабская речь устроена как раз в соответствии с процессуальным видением мира.
Это выражается прежде всего в том, что «околомасдарная», «процессуальная» лексика занимает неизмеримо бóльшую долю арабского текста, нежели ее аналоги в русском. Я не могу привести количественные данные: для этого необходимы специальные исследования, однако нет сомнения в том, что они подтвердят этот вывод, с которым едва ли не согласятся коллеги-арабисты. Один из важнейших навыков, которые необходимо сформировать у студента, и один из важнейших приемов, необходимых для получения хорошего перевода, заключается в том, чтобы отказаться от нашей привычки использовать конструкции, составленные из имен существительных и глаголов, и вместо них переключиться на околомасдарную лексику. Речевые привычки носителей арабского языка вполне подтверждают процессуальность их взгляда на мир, и очень перспективным и интересным, как мне представляется, направлением исследования станет проведенное с этой точки зрения сравнение текстов, созданных арабами, и текстов, написанных мусульманскими учеными, которых можно фактически рассматривать как носителей арабского языка (в классические времена он был языком науки, и будущий ученый в совершенстве овладевал им с детства), но для которых речевые привычки сформированы их родным несемитским языком: такого рода тексты, принадлежащие, например, иранцам, всегда представлялись мне гораздо более «ладно» скроенными, нежели тексты самих арабов, и подобное стихийное восприятие, ответственность за которое несут глубинные совпадения речевых интенций автора текста и его читателя, не является только моим.
Прежде чем покинуть сферу речи и языка, выскажу еще одно наблюдение. В русском мы имеем возможность использовать форму, точно соответствующую нейтральному в отношении времени арабскому имени действователя. Для этого арабское ка̄тиб нам надо передать не как «пишущий», а как «писатель». Слова такого рода хорошо известны и широко употребимы: проситель, ваятель, сеятель, деятель и т. д. Однако, во-первых, такого рода слова могут быть образованы отнюдь не от всех глаголов: не скажем же мы «ходитель», хотя вполне скажем «водитель». Во-вторых, такие слова по семантике и узусу разводятся в русском с причастиями. Нам трудно представить, что в выражениях «человек, пишущий письмо» и «человек-писатель» надо передавать «писатель» и «пишущий» одним и тем же словом, поскольку это — одно и то же; однако именно так устроено арабское речевое сознание. И в-третьих, мы не имеем такого рода вневременной формы для второй стороны процесса — для претерпевающего. Как и в других случаях, здесь русский язык устроен так, что позволяет прикоснуться к инологичному речевому мышлению — но не дает погрузиться в его стихию и до конца понять, каково оно.
137
Процессуальная логико-смысловая картина мира
Суть процессуальной логико-смысловой картины мира заключается в том, что для ее носителя мир состоит не из вещей-субстанций, которые обладают свойствами, находятся между собой в определенных отношениях и совершают какие-то действия; мир для него состоит из вещей-процессов, связывающих действователя и претерпевающее. Это значит, что он видит не солнце, которое заходит за горизонт, а закат заходящего-солнца; не стрелу, летящую в мишень, а полет летящей-стрелы в направлении того-куда-направлен-полет; не катящийся со склона камень, а качение катящегося-камня. Собственно, чтобы ближе передать это мировидение, надо было бы говорить не «закат» или «заход», а «захождение» или «закатывание», не «полет», а… (здесь приходится оставить знак вопроса: нужно что-то вроде «летания»; а вот «качение», пожалуй, подходит). Точно так же в подобных случаях надо говорить не об «ударе», а об «ударянии», и так далее. Очень интересно читать ранние философские тексты исламских мыслителей, созданные до того, как фальсафа внедрила стандарты грекоподобного философского языка: эти тексты безусловно процессуальны, они становятся удивительно понятными во всех нюансах, как только мы принимаем процессуальный взгляд на мир. Процессуальность осталась характерной для арабского мышления и в дальнейшем, хотя в том, что касается именно философии, в зрелую эпоху всегда приходится решать, имеем ли мы дело с автохтонным мышлением или мышлением, сознательно «подгоняющим» себя под стандарты греческого субстанциального мышления.
Для этого, процессуального, взгляда мир, повторю, состоит не из вещей-субстанций, а из вещей-процессов. Нам непривычно, быть может, называть вещью процесс. Но если мы понимаем под вещью нечто зафиксированное в качестве основания различения, нечто, способное стать носителем предикатов, то именно процесс должен быть назван здесь вещью. Процессуальность задает иную архитектонику сознания: оно устроено иначе, это верно; оно по-другому выстраивает полотно осмысленности.
Осмысленность — стихия нашего сознания — представляет собой установление тождества свернутости-и-развернутости. Такое тождество, возможное благодаря связности, разворачивает полагаемый субъект, раскрывая его на поле осмысленности. В процессуальной логико-смысловой конфигурации субъект представляет собой свернутость двух сторон, между которыми он располагается, воплощая возможность перехода между ними и вместе с тем (и именно в силу этого) будучи чем-то иным, нежели они. Данный тезис станет вполне понятным, если мы спроецируем его на любой пример процесса, например процесс «записывания». Как таковой этот процесс непременно предполагает две стороны, записывающего и записываемое, и располагается «между» ними в том смысле, что воплощает их связанность. Вместе с тем сам процесс является чем-то иным, нежели эти две стороны, которые связаны им и находят в нем свое единство. Далее,
138
эти две стороны непременно должны наличествовать вместе, соответствуя одна другой, чтобы процесс состоялся: процесс целостен, он не может состояться при отсутствии хотя бы одной из этих составляющих или при нарушении согласованности между ними.
Логико-смысловая конфигурация для процессуального варианта процедуры смыслополагания
Для процессуального сознания процесс являет собой единство двух противоположностей, которые соотнесены таким образом, что, будучи противоположены, вместе с тем не дихотомичны. Так потому, что, во-первых, противоположные стороны процесса не задаются делением некоего общего «участка» на две исчерпывающие исходное пространство части, как это верно для субстанциального варианта процедуры смыслополагания. Здесь интуиция осмысленности иная: две противоположности предполагают одна другую, как будто будучи отражением одна другой; они не исключают одна другую по принципу «или-или», а, напротив, полагают необходимость друг друга. Далее, они приходят к единству не в том, что охватывает и «суммирует» их: их единство — это нечто третье, то, что не присутствует ни в одной из противоположностей. В этом также — принципиальное отличие от интуиции осмысленности, характерной для субстанциального варианта процедуры смыслополагания, где, если выразить эту мысль в привычных родо-видовых терминах, родовой признак непременно присутствует в каждом из двух дихотомически заданных для этого рода видах и не может не присутствовать в них. А здесь, в процессуальной логико-смысловой конфигурации, напротив, единство достигается за счет «семантического скачка»: процесс, составляющий единство двух противоположностей, не присутствует как «семантическая компонента» ни в одной из них.
Как видим, процессуальный вариант процедуры смыслополагания, как и субстанциальный ее вариант, предполагает задание логико-смысловой конфигурации как целостного и нередуцируемого «минимума» осмысленности. В этой логико-смысловой конфигурации любое, о чем мы говорим, определено любым другим и всем вместе: в силу этой целостности логико-смысловая конфигурация и представляет собой «минимум» осмысленности, так что осмысленность исчезает, как только мы пытаемся взять какую-либо ее составляющую изолированно и превратить ее в «элемент», как если бы мы могли иметь дело с неким «атомом», с неким простым началом. Нет, здесь не так: только целостность может играть роль такого «начала».
Принцип соотнесенности логического и содержательного, являющийся ведущим принципом логико-смыслового анализа, сполна проявляет себя в процессуальной логико-смысловой конфигурации. Содержательность предполагает логику, логика же, напротив, требует именно такой, а не иной содержательности. Именно процессуальностью, ее особенностями определены все узловые моменты
139
соотнесения составляющих логико-смысловой конфигурации, — а эти особенности соотнесения «кристаллизуются» при их формализации как логические законы. Целостный характер логико-смысловой конфигурации (этого «минимума» осмысленности) предполагает и целостность формализованной версии логических законов; взаимная инаковость (напомню, инаковость означает несводимость друг к другу и к общему основанию) процессуального и субстанциального вариантов процедуры смыслополагания влечет и инаковость систем логических законов. Взаимно-инаковое не относится одно к другому как отрицание (мы видели, где корректно употреблять понятие отрицания), поэтому нельзя говорить, что процессуальное видение мира отрицает логические законы, найденные Аристотелем в пределах субстанциальной картины мира. Чтобы говорить об отрицании, необходимо указать общее основание, в котором воплощено единство того, что отрицает друг друга, — а именно это и невозможно сделать в случае взаимной инаковости.
Процессуальная архитектоника арабо-мусульманской культуры
Процессуальное мышление составляет доминанту арабо-мусульманской культуры, которая служит в целом, в разнообразных ее проявлениях, подтверждением этого тезиса, — за исключением тех явлений, что определены влиянием субстанциального взгляда на мир. Исламский мир не гомогенен, и было бы ошибкой думать, что абсолютное единообразие царит здесь в сфере смыслополагания. Конечно, это не так, и процессуальный взгляд на мир составляет доминанту, но не исчерпывает все явления этой культуры. Логико-смысловой подход дает удобный и эффективный инструментарий для различения по меньшей мере двух типов, двух архитектоник мышления — субстанциальной и процессуальной — и их ясного отличения друг от друга.
Приведем отдельные, но очень показательные примеры. В арабской философии наиболее глубинной онтологической категорией оказалась категория с̱убӯт «утвержденность»; это верно для мутазилизма, исмаилизма и суфизма. «Утвержденность» неотличима от вещи как таковой и ничего не добавляет к понятию чистой вещи, тогда как вуджӯд «существование» (или аналоги этой категории) оказываются предикатами вещи, всегда прибавляемыми к ней, причем реально (не только в понятии)1. В системе онтологических категорий утвержденность фиксирует процессуальность, представленность вещи-процесса, и именно потому она ничего не прибавляет к понятию вещи, — тогда как вуджӯд «существование» раскрывает процессуальность вещи как «находящейся между существованием и несуществованием» (я почти цитирую арабских философов), а потому принимающей предикат вуджӯд «существование» или парный ему
140
‘адам «несуществование» и притом остающейся вещью, т. е. утвержденной, равно в том и другом случае. Даже фальсафа, обычно представляемая как полностью зависимая от античности школа комментаторов и систематизаторов, развила (в лице ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣны, с очень интересными предчувствиями и параллелями у ал-Киндӣ и Ибн Т̣уфайла) неаристотелевскую, собственную онтологию возможного (мумкин), признаваемую исследователями как оригинальное учение этой школы. «Возможность» (имка̄н) как онтологическая категория играет здесь ту же роль, что «утвержденность» других школ арабской философии, фиксируя процессуальную схваченность вещи между существованием и несуществованием: «возможность» и есть сама вещь, представляющая собой мостик перехода между двумя состояниями, в которых она оказывается, принимая атрибуты существования и несуществования. Все направления классической арабской философии, таким образом, развили эту фундаментальную онтологию, соответствующую процессуальному пониманию вещи.
Этот подход имел свое соответствие и в области теории познания. Схватывание вещи как таковой, как процессуальной фиксированности вне существования и несуществования, понимаемых как атрибуты, было описано в разных гносеологических теориях как интуитивное (не мистическое!) познание, открывающее вещь именно таким образом. Аристотелевское логическое учение, широко признававшееся и ценившееся, не могло конкурировать с такого рода теориями, поскольку не имело средств предложить им замену. Очень показательна известная дискуссия между Матта̄ и ас-Сӣра̄фӣ, описанная ат-Тавх̣ӣдӣ: там ясно показано отношение арабского интеллектуала к греческому силлогизму как к игре, неспособной схватить суть проблемы и решить стоящие перед наукой задачи ([Тавхиди, 123], рус. пер. [Таухиди 2012]). Да и в целом этот текст необыкновенно показателен как пример искреннего непонимания носителями процессуальной картины мира того, почему апологет греческой науки не видит элементарных вещей, сводящихся к необходимости схватить процессуальную связанность противоположностей (например, при обсуждении калима «слова» как процессуального единства лафз̣ «высказанности» и ма‘нан «смысла»), и вместо этого сбивается на какие-то бессмысленные вещи (см. [Тавхиди, 108—133, особенно 115—119, 121, 124—127])…
В любой сфере арабо-мусульманской культуры мы найдем свидетельства того, что ее архитектоника задана как процессуальная, а не субстанциальная. Возьмем такое важнейшее для классической культуры понятие, как ’ӣма̄н. Его обычно передают словом «вера». Между тем ’ӣма̄н следует понимать процессуально; а в качестве процесса ’ӣма̄н требует непременного наличия двух противопоставленных сторон, двух противоположностей, переходом между которыми и утверждается, представляя собой их единство. Такими противоположностями выступают телесная (внешняя) и душевно-духовная (внутренняя) стороны; вот почему ’ӣма̄н традиционно определяется как соответствие внутреннего («того, что в сердце») внешнему (тому, что представляет собой некое «движение телесного органа»,
141
в т. ч. языка). Дело не просто в требовании такого соответствия, которое могло бы трактоваться лишь как некий содержательный тезис; дело в том, что при устранении хотя бы одной из этих двух непременно гармонизуемых противоположностей рассыпается и вся конфигурация, и понятие ’ӣма̄н обессмысливается, — это требование имеет, таким образом, логико-смысловую, а не просто содержательную природу. Взгляд на человека как на процессуальное единство внешнего, телесного, и внутреннего, душевного, отчетливо проведен в арабо-мусульманской мысли и ясно задает ее контуры, равно как отличие от христианского понимания человека. Мусульманская этика построена на процессуальной трактовке поступка как единства (именно в процессуальном понимании единства) внутреннего намерения и внешнего действия, что определяет ее принципиальные положения и объясняет отличие исламского взгляда на этику как науку о доброделании (их̣са̄н) от античных теорий этики как науки о добродетелях (фад̣а̄’ил) и нравах (ах̱ла̄к̣): контраст процессуального и субстанциального пониманий предмета и строения этой науки объясняет точки несоприкосновения автохтонных и заимствованных этических теорий.
Логико-смысловая конфигурация может быть описана как противоположение-и-объединение, а ее вариативность задается как вариативность субстанциального и процессуального пониманий противоположения и нахождения единства противополагаемого. Классическая арабская мысль использует два понятия — з̣а̄хир «внешнее» и ба̄т̣ин «внутреннее» — для обозначения двух сторон отношения противоположенности, как оно предполагается процессуальной логико-смысловой конфигурацией. Эти понятия употребляются очень широко в самых разных областях культуры и теоретической мысли, выражая фундаментальные особенности отношения противоположения в его процессуальном понимании, а потому я называю их макрокатегориями культуры. В них арабо-мусульманская мысль схватила наиболее существенные характеристики собственной трактовки противоположностей: их недихотомический характер, обязательность их одновременного наличия, их «равноправный» (не подчиненный и не иерархизированный) характер. Мне неоднократно приходилось говорить об этом в «Логике смысла» и других работах, поэтому нет нужды повторять это. Такого рода подсказки культуры очень важны и служат возможности независимой проверки и уточнения выводов логико-смыслового анализа.
Рассматривая субстанциальную, а затем процессуальную логико-смысловую конфигурацию, мы говорили об отношении противоположения-и-объединения, т. е. о полагании субъекта и его различении как первом шаге к формированию осмысленности. Наряду с противоположением-и-объединением, другим фундаментальным отношением, формирующим осмысленность, является отношение целое-часть. Это отношение «работает» не с единичным субъектом различения, оно задает возможность объединения субъектов, связываемых отрицанием. Мы рассматривали трактовку отношения целое-часть в рамках субстанциальной картины мира; скажем несколько слов о том, как оно выстраивается в процессуальной картине мира.
142
Целое и часть в процессуальном понимании
Отношение целое-часть устроено так, как если бы оно «подражало» фундаментальным процедурным особенностям отношения противоположения-и-объединения. При субстанциальной его трактовке отношение целое-часть строится таким образом, что целое охватывает все свои части, как будто заключая их внутри себя, и если мы говорим, что целое не сводится к простой сумме частей, но представляет собой также и нечто «дополнительное», то это дополнение является самим фактом приведения к единству того, что относится одно к другому как отрицание. Мы можем ожидать, что в рамках процессуальной картины мира отношение целое-часть будет выстроено в соответствии с основополагающими характеристиками процессуального варианта процедуры смыслополагания, задающего соответствующую трактовку отношения противоположения-и-объединения.
Парой макрокатегорий, используемых арабо-мусульманской культурой при описании отношения между частями процессуально понимаемого целого, являются ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь»1. Подобно з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношению, отношение ’ас̣л-фар‘ широко используется в самых разных областях культуры, но, в отличие от первого, схватывает процесс объединения частей в целое.
Важнейшей особенностью, отличающей процессуальное понимание целого от субстанциальной его трактовки, является отсутствие общей опоясывающей границы, задающей контур целого и заключающей внутри себя его части2. Целое в процессуальном понимании — это возможность перехода от ’ас̣л «основы» к фар‘ «ветви». Вспомним, что в классической арабской мысли фар‘ «ветвь»
143
понимается в самом общем, методологическом значении как ’ас̣л + ма‘нан «основа + дополнение (букв. [дополнительный] смысл)». Фар‘ «ветвь», таким образом, всегда богаче, чем ’ас̣л «основа», она содержательно более наполнена — но именно в силу этого она «отходит», «отклоняется» от ’ас̣л «основы».
Как правило, основа может иметь более одной ветви, и этот процесс тафрӣ‘ «ветвления» (т. е. образования ветвей из основы по определенным процедурам) широко использовался в классических филологических науках и был концептуализирован арабской мыслью, в частности, в фикхе1. Ветвление можно представить как «расползание» в разные стороны от единого центра; для меня важно, что такое «расползание» не схвачено заранее заданной или a posteriori возникающей общей рамкой, которая задавала бы границы целого (как это трактовало бы субстанциально-ориентированное мышление), когда бы целое диктовало своим частям, как именно им сополагаться и располагаться в заданных этим целым пределах. Нет, ветвление как прием образования целого в процессуально-ориентированной мысли строится, если можно так выразиться, снизу вверх: ветвь отклоняется от основы туда и настолько, насколько ей нужно, в зависимости от прибавляемого к основе «смысла» (ма‘нан). Здесь целым приходится считать сам момент ветвления, сам момент перехода, позволяющий ветвям отдаляться от основы и в то же время привязывающий их к основе за счет того, что процесс прибавления ма‘нан «смысла» к основе, т. е. перехода основы в ветвь, регламентирован в своих основных процедурных моментах.
В качестве примера такого процессуально выстроенного целого можно привести шарӣ‘а «Закон» (русск. «шариат»). Слово «шариат» настолько широко употребляется в русской речи, что едва ли не любой считает его понятным, и выражение вроде «мусульмане живут по своему закону, по шариату» не вызывает как будто трудностей понимания. Но что такое «шариат», как обычный человек представляет себе этот «мусульманский закон»? Скорее всего — как некую сумму предписаний и запретов, данную мусульманам. В такой формулировке как будто нет никакой ошибки; в самом деле, нормативная метонимия Закона — ал-’амр ва-н-нахй «приказания и запреты» едва ли не чаще употребляется в арабской мысли, нежели само слово шарӣ‘а «шариат».
Я сейчас совершенно отвлекаюсь от любого рода стереотипов, которые сопровождают представления о мусульманском законе, и спрашиваю только о приведенной его трактовке как сумме приказаний и запретов: правильна ли она? Мы видим, что она фактически буквально совпадает с тем, как сама исламская мысль обозначает шариат, — и тем не менее стандартное, распространенное представление о шариате в корне ошибочно. На границе двух логико-смысловых пространств, арабского и русского, происходит странное преломление, целиком меняющее представление об обсуждаемом предмете. Это преломление — процедурного (или, что то же самое, логико-смыслового) характера, оно касается не номинальности как
144
таковой (арабская формула ал-’амр ва-н-нахй и ее русская калька «приказания и запреты»), а логики и соответствующей ей содержательности. Важно подчеркнуть этот момент: содержание, вкладываемое в ту или иную номинальность, не просто «стоит» за ней или «закреплено» в словарях либо общим употреблением; содержание выстраивается нашим сознанием в непосредственном сцеплении с логикой, отвечающей за «вылепливание» содержательности, в результате принятия (как уже не раз говорилось, неосознанного и неизбирательного) определенной процедуры смыслополагания.
В данном случае при перемещении между русской и арабской (номинально идентичными) фразами происходит именно это — замещение одной процедуры соотнесения целого и его частей другой. Мы невольно видим целое в качестве данного, представленного (как будто развернутого в пространстве) и в этом смысле субстанциального, полагая целое в согласии с базовыми интуициями, характерными для субстанциального варианта процедуры смыслополагания. В этой логико-смысловой среде целое устроено правильно, если представлено как система своих частей, развернутая сразу, а потому и данная наподобие субстанциальной вещи. Такое понимание субстанциально-трактуемого целого с неизбежностью предполагает общую опоясывающую границу, «схватывающую» целое в его данности.
Подчеркну, что здесь речь идет о правильности в логико-смысловом понимании, т. е. о соблюдении требований процедуры смыслополагания в том или ином ее варианте, — а не о том, уже производном от этого, смысле правильности, который мог бы пониматься в данном случае как требование непротиворечивости частей. Это второе понимание правильности, повторю, производно от первого. Правильность во втором понимании этого слова может нарушаться — и такое целое мы назовем «неправильно устроенным», «нуждающимся в исправлении», «внутренне противоречивым». Правильность может нарушаться и в ее первом понимании, но тогда мы получаем в результате не нечто «неправильное», а попросту «бессмысленное». Это — более глубокое понимание правильности как соблюдения правил выстраивания осмысленности, делающее возможным обсуждение правильности во втором смысле.
Процессуально устроенное целое, в рассматриваемом примере — Закон (шарӣ‘а), требует иного понимания логико-смысловой правильности. Целое здесь — это процессуальное единство, переход между своими частями. Частей может быть арифметически много или мало, но они распадаются на две группы: то, что называется ’ас̣л «основа», и то, что называется фурӯ‘ «ветви». Каждая ветвь соотносится именно с основой, но не с другими ветвями; чтобы целое было устроено правильно (в базовом, логико-смысловом понимании), нужно, чтобы каждая ветвь была правильно выведена из основы. Вместе с тем это понимание целого как момента перехода ’ас̣л ⇒ фар‘ «основа ⇒ ветвь» не требует ни того, чтобы ветви помещались в каких-либо заранее (или задним числом) очерченных пределах, ни того, чтобы они не противоречили или иным образом были согласованы одна с другой, ни того, чтобы тафрӣ‘ «ветвление» когда-либо прекратилось (т. е. чтобы целое могло считаться полным и уже-достигнутым).
145
Это, повторю, принципиальные моменты процессуального понимания целого, и они интуитивно предполагаются мышлением, которое устроено процессуально. В применении к нашему примеру эти логико-смысловые закономерности объясняют, как в исламском понимании Закона совмещаются два (казалось бы, несовместимых) аспекта: богоустановленность Закона (а значит, его неизменный характер) и постоянное изменение и лавинообразный рост (увеличение числа шариатских норм и их изменение по мере хода истории). Богоданные и в принципе (т. е. теоретически, но не практически) неотменяемые нормы, именуемые в исламском праве нус̣ӯс̣ букв. «тексты», — это ’ас̣л «основа»; в качестве основы эти нормы и должны оставаться неизменными. А всё изменяющееся и являющееся результатом творчества людей — это фурӯ‘ «ветви». Исламский Закон может поэтому расти неограниченно, оставаясь самим собой (растут ветви, основа та же); различные школы исламского права придерживаются разных и зачастую несовместимых норм (эти нормы — ветви), но все они одинаково правы и одинаково представляют исламский Закон, — ведь если ветви выведены правильно, значит, момент перехода от ’ас̣л «основы» к фар‘ «ветви» выстроен правильно, а этот переход и есть целое, Закон. Тогда понятно, почему знаменитый аят «сегодня Я завершил для вас вероустав ваш» (Коран 5:5, С.1), толкуемый как указание на полноту данного в Коране Закона, никак не противоречит факту постоянной изменяемости и развития этого же самого Закона: «тем же самым» является процессуальное целое как момент ’ас̣л-фар‘-перехода, а вовсе не субстанциальное законченное (а значит, не терпящее добавлений и изменений) целое2.
146
Наукой, которая занимается развитием Закона, является фик̣х (букв. «понимание», русск. «фикх»). Обратим внимание, что в ’ус̣ӯл ал-фик̣х «основы фикха» включаются Коран и сунна, а также к̣ийа̄с «соизмерение» и иджма̄‘ «консенсус». Первые два представляют собой исходные неизменные нормы — нус̣ӯс̣ (то, что в рамках понимания Закона — не фикха — мы вслед за исламской мыслью называли ’ас̣л «основой»), третье — рациональную процедуру перехода от ’ас̣л «основы» к фурӯ‘ «ветвям», четвертое — процедуру установления новых норм путем консенсуса1. Таким образом, «основы фикха» — это, во-первых, та часть Закона, которая является ’ас̣л «основой», а во-вторых, процедуры вывода ветвей-фурӯ‘. В таком понимании фикх и является деятельностью, обеспечивающей поддержание и развитие Закона как процессуального целого. Все это, наконец, поясняет, почему при необыкновенном лексическом богатстве арабского языка именно слово шарӣ‘а было взято для обозначения исламского Закона: шарӣ‘а обозначает и непересыхающий открытый источник воды, и путь, ведущий к нему.
Эти процессуальные особенности понимания отношения целое-часть хорошо согласуются с такими фундаментальными особенностями арабо-мусульманской культуры, как отсутствие потребности в кодификации права, отсутствие кодифицированной (охваченной общей рамкой) вероучительной доктрины; в качестве примера из области культуры, как будто совсем далекой от названных, укажем на крайне интересное наблюдение Д. В. Фролова относительно отсутствия в арабском языкознании понятия, которое было бы идентичным понятию предложения как целого в его субстанциальной трактовке. У основателя арабской грамматической теории Сӣбавайхи, пишет он, «на уровне синтаксиса элементарными и в то же время единственными единицами считаются слова (калимы). Все остальные объекты, рассматриваемые на этом уровне, не имеют статуса целостной единицы. Теория представляет их как совокупности единиц — слов, определенным образом оформленных и расположенных по отношению друг к другу, а не как сложные единицы, состоящие из нескольких слов» [Фролов 2006а: 20]. Рассматривая развитие взглядов виднейших арабских грамматиков по этому вопросу, Д. В. Фролов показывает, что выработанное в дальнейшем понятие джумла (обычно передаваемое как «предложение») обозначало на деле определенный комплекс слов, являющийся единицей построения речи наряду с другими такими единицами, но не законченный целый (в западном понимании целого) отрезок речи, который был бы в западной грамматической теории назван предложением, брался бы в качестве исходного пункта анализа и определял бы — именно как целое, «опоясывающее» свои части, — внутреннюю логику строения и соположения частей. Для меня крайне интересны наблюдения мэтра российской
147
арабистики1 относительно динамического, а не статического подхода к анализу речи в арабской науке (см. [Фролов 2006а: 21]) — здесь практически текстуальные совпадения с совершенно независимыми наблюдениями отечественного логика и философа А. М. Анисова относительно абсолютного доминирования статической концепции времени в западной философии и науке и моими выводами о, напротив, принципиально динамическом характере теории времени, выработанной самой арабской (а не заимствованной из античности) философией (см. [Анисов 2009]). Такого рода параллели объясняются логико-смысловым единством культуры, общими мыслительными привычками и императивом базовых очевидностей, ответственных за принципиальные, глубинные контуры выстраивания осмысленности.
Право, доктрина, философия, филология, поэзия, устройство языка и речи — везде здесь мы находим свидетельства доминирования процессуального взгляда, обнаруживаем свидетельства процессуальной архитектоники. А ведь я ограничился лишь отдельно взятыми, почти наугад названными примерами; системное исследование арабо-мусульманской культуры как процессуально устроенного целого впереди.
Методология логико-смыслового исследования
Логико-смысловое исследование, имеющее в качестве объекта тексты (в самом широком понимании этого термина) культуры, а в качестве предмета — законы устройства их осмысленности, опирается на ряд методологических принципов и приемов. Их можно разделить на вспомогательные и собственно логико-смысловые.
148
Вспомогательные готовят почву для логико-смыслового исследования. Тем не менее их значение велико, поскольку без соблюдения этих требований такое исследование не может состояться или будет ошибочным.
Основным вспомогательным принципом является требование полноты интерпретации. Если взять ограниченные участки текста, они практически всегда могут быть переинтерпретированы так, что в результате текст будет подогнан под собственные приемы мышления и понимания, некритически принимаемые как очевидные и универсальные (по принципу «не может же быть иначе»). Заранее никогда нельзя сказать, насколько искажающий эффект окажет такая подгонка на логико-смысловое устройство текста. Однако в предельном случае его архитектоника, заданная, к примеру, процессуальным мышлением, будет разрушена, а текст прочитан так, чтобы соответствовать требованиям очевидности, предъявляемым субстанциальным мышлением. Понятно, что подобная интерпретация, а точнее, переинтерпретация напрочь закрывает путь к обнаружению логико-смысловых закономерностей и подлинного устройства текста. Заметим, что иллюзия понимания при этом вовсе не обязательно нарушается. Скорее всего, она будет сохранена и поддержана, а коммуникация состоится. Другое дело, насколько успешной она будет; но неуспех всегда спишут на что угодно, а только не на собственное непонимание логико-смыслового устройства культуры, с которой вступают в контакт. Поэтому факты взаимодействия, культурных заимствований и т. п. никогда не могут служить аргументом в пользу логико-смысловой общности культур.
Такая искажающая переинтерпретация будет тем успешнее и тем большую иллюзию истинного понимания создаст, чем ограниченнее участок интерпретируемого текста и чем больше произвола в его вычленении. Вот почему требование целостной интерпретации столь важно, поскольку на целостном пространстве текста подтасовки и натяжки, неизбежные при подмене логико-смысловой архитектоники текста, удаются с гораздо большим трудом и становятся куда заметнее.
Очень важным я считаю принцип презумпции правильности текста. Переводчики восточных текстов знают, насколько часто случаются «сбои» понимания, а в перевод закрадываются «шероховатости», когда переводной текст начинает нестерпимо «резать слух». Обычно в таких случаях переводчик решает, что прав не автор текста (раз он пишет столь шероховато и неприятно на слух), а он сам, и предлагает «гладкий» перевод, ссылаясь на то, что переводит смысл, а не букву. Конечно, случается всякое, не всегда такие сбои вызваны несовпадением логик смысла и далеко не каждый восточный автор безупречен, однако широта (мягко говоря) переинтерпретации, допускаемая в подобных случаях, подчас поражает. Лишь очень внимательное и бережное отношение к тексту может уберечь от такого рода «кавалерийской атаки», которая сметет все псевдо-шереховатости, на самом деле служащие сигнальными огнями, указывающими на моменты логико-смыслового расхождения текста и его переводчика.
Такие моменты я называю моментами контраста. Они являются результатом несовпадения логико-смысловой архитектоники мышления автора текста и его
149
переводчика и исследователя. Выявление моментов контраста при конкретной переводческой или исследовательской работе может стать результатом только очень кропотливой работы и повышенного внимания к тексту. Само собой разумеется, что гипотеза контраста должна быть не первым, а только последним объяснением: инологичность не может постулироваться заранее. Напротив, к тексту другой культуры мы всегда должны подходить так, как если бы никакого логико-смыслового расхождения не было, и только после того, как все мыслимые и даже почти немыслимые возможности «обычного» объяснения исчерпаны, следует выдвигать гипотезу инологичности и считать контраст установленным.
Выявление контраста при работе с текстами культуры — основной путь к выяснению вопроса о ее инаковости, т. е. инологичности. Установленный контраст требует многократной проверки, поскольку только целостная архитектоника культуры служит подлинным свидетельством того, что культура устроена в соответствии с той или иной логикой смысла. Выявление контраста — последний из подготовительных шагов. На этом этапе пропедевтические методы смыкаются с методами собственно логико-смыслового исследования: выявить контраст или удостовериться в его отсутствии скорее всего удастся именно в тех моментах, которые составляют непосредственный предмет логико-смыслового исследования.
Таковым прежде всего служат две процедуры: противоположение-и-объединение и соотнесение целого-и-части. Работа с этими двумя процедурами составляет стержень логико-смыслового исследования.
Изучение каждой из них распадается на ряд этапов. Необходимо понять, каким является господствующий, «привычный» для культуры способ противоположения; удобнее всего это исследовать на примере категориальных систем, сверяя выводы с другими областями культуры. Так, мы постоянно говорили о двух уровнях: спонтанно-речевом и теоретическом; расширяя сферу исследования, необходимо привлекать и материал невербальной сферы, прежде всего искусства. Каким образом противоположности приводятся к единству и как это единство относится к собственной множественности, — следующий вопрос логико-смыслового исследования. Точно так же по шагам должно быть изучено и понимание целого в его отношении к своим частям. Большую помощь в таком исследовании может оказать внимание к тому, как в данной культуре истолковывается категория границы и ее отношение к ограничиваемому; полезным может оказаться изучение соответствующих понятий, таких как понятие абсолюта, предела, конечного и бесконечного. Поскольку интуиции смыслополагания, вероятно, «замкнуты» на образы пространства и времени, внимательное изучение теорий времени и пространства с точки зрения их логико-смыслового устройства может послужить существенной подсказкой.
В разъяснении всех этих вопросов большую помощь окажут макрокатегории культуры, описывающие эти соотношения или какие-то их аспекты, если такие макрокатегории удастся выявить. Для арабо-мусульманской культуры таковыми служат з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое» и ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь», описывающие соотнесение противоположностей и частей целого между собой.
150
При этом надо быть готовым к тому, что на роль подобных макрокатегорий будут претендовать, скорее всего, невзрачные и на первый взгляд как будто незаметные слова: выявление терминологического статуса слов является отдельной задачей, подлежащей разрешению. Это касается не только макрокатегорий, но любых терминов и понятий. Мы склонны придавать терминологический статус тем словам, которые находят какое-то соответствие, прямое или косвенное, в категориальной сетке нашей собственной культуры. Это вполне естественная установка исследователя; однако следует помнить, что в случае инологичной культуры именно те понятия, в точках которых нащупывается контраст, могут не иметь вовсе никаких аналогий в привычной нам по опыту своей культуры терминологической системе. Примером отсутствия соответствия и вытекающего из этого незамечания терминологического статуса служит обсуждавшаяся фундаментальная онтологическая категория с̱убӯт «утвержденность». Подлинная роль макрокатегорий з̣а̄хир-ба̄т̣ин и ’ас̣л-фар‘ только нащупана, и то не до конца, отдельными, наиболее чуткими исследователями; дело тут все в том же: в отсутствии ощутимой аналогии в нашей собственной терминологической системе.
При изучении терминологической системы инологичной культуры не просто эффективным, но незаменимым оказывается тезаурусный метод. Необходимость его применения вытекает из двух вещей: целостности логико-смысловой конфигурации, которая служит неснижаемым «минимумом» осмысленности, и различия ее устройства в разнологичных культурах. Тезаурусный метод предполагает установление логико-смысловых связей между терминами и категориями и исследование целостных терминологических гнезд, а не прямое приравнивание «один к одному» отдельных понятий изучаемой культуры и понятий собственной культуры. Если речь идет об инологичной культуре, тезаурусный метод позволяет «не потерять» характерную для нее логику смысла и не подменить ее логико-смысловой архитектоникой собственной культуры исследователя.
Культуры, входящие в тот или иной макрокультурный ареал, различны по своему отношению к «материнской» логике смысла. Различение чистых и смешанных случаев восприятия и воспроизведения логико-смысловых закономерностей имеет большое значение. Мы рассматривали чистые варианты процедуры смыслополагания и соответствующие логики смысла. В действительности, т. е. в голове конкретного человека или под пером конкретного автора, логики смысла могут иногда каким-то образом «смешиваться» и «скрещиваться». Такие случаи логико-смысловой эклектики подлежат специальному выявлению и исследованию. Как любая эклектика, некритическое логико-смысловое смешение приводит к внутренним неувязкам и противоречиям, поскольку нарушает фундаментальные законы осмысленности. Смешение логик смысла может происходить, по-видимому, только при столкновении очень серьезных и устойчивых императивов, например речевых и мыслительных привычек, усвоенных с родным языком, и инологичных речевых и мыслительных императивов, впитываемых вместе с усвоением инологичного естественного и теоретического языка. Я думаю, что такие примеры
151
логико-смысловой эклектики будут обнаружены в точках столкновения иранской (индоевропейской) и арабской (семитской) культур, при усвоении второй представителями первой; возможно, и в каких-то других случаях.
И последнее замечание методологического характера, определяющее статус логико-смысловых законов. Императивность логики смысла как задающей законы осмысленности вовсе не означает, что любой текст культуры будет правильно и сполна воплощать их; что он, иначе говоря, будет до конца безошибочен в логико-смысловом отношении. Вовсе нет: ошибок и отходов от логико-смысловой архитектоники, характерной для данной культуры, можно найти сколько угодно. Это не значит, что логико-смысловые законы в таких случаях не действуют; это значит, что в таких случаях неизбежно будут — при достаточном исследовании — обнаружены логические ошибки и содержательная бессвязность. Софисты довольно долго развлекали публику нарушением логико-смысловых закономерностей, — но ведь именно тех, что характерны для греческого (и в целом западного) мышления. Эффект софизма возникает как иллюзия соблюдения логико-смысловых закономерностей, и в этой необходимости создать иллюзию и выражается императивность логики смысла. Часто приходится слышать, что люди мыслят не по Аристотелю и формируют гнезда понятий с нарушением логических закономерностей. Это тоже верно; к примеру, класс «людей» обычный человек разделит, скорее всего, на «мужчин» и «женщин», нарушая дихотомию, а значит, и допуская логико-смысловую ошибку, поскольку содержательные области «мужчины» и «женщины» вкупе меньше, чем область «людей». Но такая распространенная ошибка — нарушение именно субстанциальной логики смысла; она никак не свидетельствует ни о том, что допустивший ее человек может не соблюдать эту логику (он как раз стремится ее соблюдать), ни о том, что он придерживается другой, например процессуальной, логики смысла.
Вообще исследование того, что располагается «рядом» с правильным и существует именно благодаря особому уравновешиванию двух сил — отталкивания от правильного и одновременного притягивания к нему; что существует, подражая правильному, но избегая быть им, — исследование логико-смысловой природы таких феноменов в разнологичных культурах было бы крайне интересным. Я имею в виду как минимум три сферы: софизмы, парадоксы и смешное. Логико-смысловое исследование этих сфер прояснило бы различия в их природе, вызванные логико-смысловыми закономерностями.
Итоги и перспективы развития логико-смысловой теории
В завершение есть смысл кратко подытожить сделанное и сказать о том, что предстоит сделать. Уже установленное служит вместе с тем отправной точкой дальнейшего движения.
Все, что было сказано о логике смысла как системе законов, лежащих в основании осмысленности, было изначально поставлено на твердую почву наиболее простого внутреннего опыта, доступного любому, а значит, обладающего силой
152
всеобщей ясности. Таким опытом служит безусловная данность Я самому себе и постоянное «сопровождение» нашего сознания самосознанием. Однако Я дано себе только потому, что, будучи свернутым в абсолютно непроницаемую «точку» (мы не можем сказать, что такое наше Я), оно вместе с тем представлено себе же самому — но уже как развернутому. Я соотносит с самим собой любой факт сознания, делая его — своей проекцией. Мы подробно говорили об этом; не буду повторять здесь сказанное.
Положения, вытекающие из этого и служащие исходными пунктами обсуждения осмысленности, можно сформулировать в виде двух тезисов: (1) осмысленность представляет собой предельную категорию; (2) осмысленность — это связность, ближайшим образом раскрываемая как тождество свернутости-и-развернутости.
Это означает, попросту говоря, что осмысленность — это всё, с чем мы имеем дело и что нам дано, это абсолютная сфера явленного нам, т. е. нашего сознания. Мы не можем «выскочить» за пределы осмысленности, причем, по-видимому, по двум причинам. Во-первых, любое такое «выскакивание» должно само быть чем-то осмысленным, а значит, оно оставит нас в сфере осмысленности, а не вынесет за ее пределы. Поэтому, во-вторых, сфера осмысленности вовсе не имеет предела, который можно было бы пересечь. Это прямо подводит нас к толкованию второго тезиса. Осмысленность — это континуум, в котором одно перетекает в другое, в котором любое связано с каждым. Разрыв всеобщей связности — это всегда травма для нашего сознания, а отсутствие связности сознания — повод для обращения к врачу. И в то же время эта текучесть не является абсолютной; не менее императивна схваченность, остановленность, опредéлéнность. Только в фокусе правильного сочленения текучести и схваченности может быть поймана связность, может быть поймана осмысленность.
Я отвлекусь ненадолго ради одного наблюдения. Что связностью соткана «ткань» осмысленности, едва ли представляет собой загадку, а скорее служит очевидным наблюдением, которое нетрудно сделать любому, кто задумается над этим вопросом. Связность предполагает обе стороны — текучесть и схваченность. Для мышления, воспитанного в долгой традиции практически исключительного внимания лишь к одной стороне, другая должна показаться преувеличенно привлекательной. Неудивительно поэтому, что для Делёза поиск стихии осмысленности обернулся едва ли не исключительным акцентом на изменении, как будто исключающем платоническую схваченность. Разыскивая осмысленность, Делёз видит лишь текучесть, противопоставленную схваченности, а не сочлененную с ней; к тому же текучесть он трактует как со-бытие, как становление, не сцепляющееся с бытием-схваченностью. Этот путь не выводит за рамки субстанциальной логико-смысловой картины мира и не ведет к пониманию логики смысла.
Оба тезиса, выражающие понимание осмысленности, даны в самом достоверном внутреннем опыте. Наше сознание — выражение всеобщего и предельного характера осмысленности; наше самосознание — воплощение сцепленности
153
самотождественности-и-несамотождественности. Вот почему я говорю, что все рассуждение о логико-смысловых законах было поставлено на твердую почву внутреннего опыта, на самое последнее и достоверное основание — наше самосознание. Все это было подробно раскрыто в ходе нашего рассуждения, поэтому здесь я лишь суммирую его результаты.
Далее, (3) осмысленность, понимаемая как свернутость-и-развернутость, представляет собой след целостности. Это — следующее принципиальное положение, которое можно считать третьим тезисом, раскрывающим, что такое осмысленность.
След целостности на минимальном уровне представляет собой логико-смысловую конфигурацию (ЛСК). ЛСК может быть взята и как чистый смысл, как чистая целостность, когда она берется как таковая, как противоположение-и-объединение, где противоположение и объединение еще не стали отношениями между единицами, между субъектами; так взятая ЛСК еще не может быть названа, потому что, именуя, мы всегда полагаем субъектность именованного. Тогда ЛСК — целостность. Но она же может быть взята как структура, как система отношений между их носителями-субъектами. Тогда это — конкретизированная, остановленная, схваченная целостность, в силу этой схваченности и фиксированности утерявшая свою континуальность; это только — след целостности, но не сама целостность.
Если уж говорить об «атомах» осмысленности (хотя это выражение может вводить в заблуждение, и я чуть ниже скажу об этом), то таким «атомом» надо считать ЛСК. ЛСК воплощает связность как сцепленность схваченности и текучести. Осмысленность — след смысла, и смысл, взятый как без-различная различенность, как то же иначе, оставляет свой след в ЛСК.
Следующий принципиальный тезис заключается в том, что (4) реализация ЛСК вариативна: противоположение-и-объединение может быть осуществлено на основании разных интуиций. Мы говороили о субстанциально-ориентированном и процессуально-ориентированном вариантах такого осуществления. Этот тезис может быть также сформулирован как положение о вариативности процедуры смыслополагания.
Говоря о процедуре смыслополагания, я выделял отдельные ее «шаги»: полагание типа субъекта и задание предела, формирование логико-смысловой конфигурации, задание логико-смысловой картины мира. Эти шаги, или аспекты, удобно вычленять для анализа и описания, а также в методологических целях; при этом всегда приходится помнить, что в силу принципа целостности разделение на шаги или аспекты более чем условно.
Заглубленность осмысленности в целостность смысла, следом которой (или которого) она служит, проявляет себя и в целостном характере процедуры смыслополагания. Отдельные ее шаги, или аспекты, неотъемлемые и не отрываемые один от другого, также составляют все вместе целостность. Эта целостность вбирает все поле осмысленности — от «начальной» точки, самосознания, до «конечной» точки, внешнего мира. Все, что мы говорили об осмысленности, все, что было поставлено на твердую почву самосознания и сознания, — все это находит прямое и твердое отражение и в устройстве того, что зовется «внешним миром».
154
Вариативность процедуры смыслополагания означает множественность логик смысла. Укорененная в самом функционировании нашего сознания (взять, скажем, недостаточность одной логики смысла для осмысления фундаментального факта изменчивости мира, в чем мы убедились на примере субстанциального варианта процедуры смыслополагания), множественность логик смысла проявляется на различных уровнях нашего сознания (мы рассматривали теоретический и речевой) и имеет непосредственный коррелят во внешнем мире, который «складывается» — в числе прочего — и из процессов. В этом суть последнего, пятого тезиса, характеризующего осмысленность: (5) сегментация является фундаментальным фактом, открываемом на уровне нашего языка и речи, на уровне внутреннего сознания (мы можем мыслить процессы и можем мыслить субстанции, хотя не можем совместить одно с другим), на уровне теоретического мышления и на уровне самого мира. Я уверен, что субстанции и процессы — не единственные сегменты полотна осмысленности. Выявление новых логик смысла должно будет учитывать необходимость целостного представления процедуры смыслополагания, заглубляющего новый найденный ее вариант и в почву сознания, и в почву устройства внешнего мира.
Я определил осмысленность как след целостности. Осмысленность можно понять только через заглубление в целостность, а потому принцип целостностности (отнесенности к целостности — но не к целому) является ведущим принципом описания осмысленности. И вместе с тем целостность остается всегда не-до-осуществленной, пока мы ведем речь об осмысленности; вот почему я говорю об осмысленности как о следе целостности.
На всех своих шагах, кратко упомянутых выше (полагание субъекта различения и задание предела, формирование ЛСК, прорисовка логико-смысловой картины мира), процедура смыслополагания может быть понята только как целостность. При этом целостность не должна объясняться в духе холизма: подобная трактовка неверна, поскольку не выводит за горизонт содержательности, и в силу этого неустранимо парадоксальна. Холизм имеет дело с субъект-предикатными комплексами, с вещами, которые утвердили свою автономию, свою субъектность. Но целостность — до вещей, а не после них; целостность имеет дело с тем уровнем смыслополагания, когда субъектность (вещность) еще не прошла стадию становления, еще не стала. Целостность — это логико-содержательная соотнесенность. Обоснование логического содержательным и наоборот, их взаимная «пригнанность» — вот в чем суть принципа логико-содержательной соотнесенности.
Вариативность логик смысла означает и вариативность логико-содержательной соотнесенности: устроенная различно, на основе различных интуиций субъекта (содержательности) и поля осмысленности (логики), в разных логиках смысла логико-содержательная соотнесенность дает разные, но равно осмысленные результаты. При другом понимании субъекта (вещь-процесс вместо вещи-субстанции) иначе устроены и отношения, связывающие «стороны» логико-смысловой конфигурации (отношения противоположения, единства и др.); как именно — об этом мы говорили выше.
155
Наконец, логико-смысловая картина мира — последний шаг процедуры смыслополагания. Независимо от различия логик смысла, определяющих архитектонику мышления, мы стремимся к созданию целостного полотна картины мира, при построении которого принцип логико-содержательной соотнесенности по-прежнему проявляет себя. Мы видим мир преимущественно либо как собрание субстанций, либо как собрание процессов; в каждом случае нам требуется соответствующее понимание логических отношений, чтобы «собрать» именно такие вещи в целостную картину.
На каждом из этих этапов целостность оказывается не достигнутой до конца; она остается тем, что как будто оставило свой след, но не осталось само. Иначе говоря, на каждом из этих условных уровней, или шагов, процедуры смыслополагания можно указать на разрывы целостности.
Прежде всего и наиболее зримо они проявляются в самом факте наличия различных логик смысла (иначе говоря, в вариативности процедуры смыслополагания). Логики смысла характеризуются именно целостным различием, или инаковостью, в отношении друг друга. Так потому, что несомненным фактом является сегментация мира, соответствующая инаковости архитектоник выстраивания осмысленности. Факт не-до-осуществленности целостности как мира, так и сознания, является также фундаментальным фактом, подтверждаемым нашим внутренним опытом.
Каждое найденное и установленное положение служит отправной точкой дальнейшего движения. Кратко намечу основные из них.
Если ЛСК представляет собой «атом» осмысленности, то еще предстоит понять, как этот «атом» разворачивается в целостное полотно, будь то на уровне речи (полноценные фразы и тексты), на уровне теоретического мышления (полноценное рассуждение) или логико-смысловой картины мира. Мы сделали только первые шаги в этом направлении, показав, что ЛСК является своеобразной «свернутой пружиной», разворачивающей свои внутренние возможности в устроении предикации на основе определенного типа связки. Эти исследования предстоит продолжить и расширить. Речь идет о том, как сочетаются, как соотносятся два последовательных шага смыслополагания: противоположение-и-объединение и соотнесение целого-и-части. Осмысленность выстраивается из (еще предстоит понять, что значит это «из») «нечто», которые мы различаем и благодаря этому отличаем друг от друга. Мне представляется, что целостное полотно не выстраивается из кубиков ЛСК, как тело из атомов, вот почему название «атом» может вводить в заблуждение; оно имеет смысл только как указание на неснижаемый уровень сложности, с разрушением которого распадается и осмысленность.
Мы открыли вариативность процедуры смыслополагания, исходя из внутреннего опыта, и нашли уверенные подтверждения этого в строении внешнего мира и архитектонике инологичного сознания. Однако вопрос о том, почему процедура смыслополагания вариативна, вовсе не был поставлен. Между тем это — один из наиболее интересных и перспективных вопросов для развития логико-смысловой теории. Его аспектом служит вопрос о конечности вариантов процедуры
156
смыслополагания, который должен решаться путем нахождения основания для вариативности процедуры смыслополагания и сегментации осмысленности.
Факт сегментации полотна осмысленности несомненен; столь же несомненно, что он противоречит связности — другому фундаментальному свойству осмысленности. Факт сегментации, неустранимой, пока мы ведем речь об осмысленности, объясняет, почему осмысленность — это след целостности, но не «сама» целостность. Каким образом сегментация преодолевается и уступает место связности — уже не в пределах одной логики смысла, а между различными логиками смысла — вопрос еще более открытый, нежели предыдущие. Разыскивая ответ на него, придется помнить, что логики смысла не относятся одна к другой как отрицание, следовательно, не имеют некоего данного, от них отличного инварианта, снимающего сегментацию полотна осмысленности и их взаимную инаковость. Преодоление инаковости логик смысла должно идти иным путем, нежели поиск подобного инварианта.
Наконец, вопрос о стратификации сознания, т. е. о тех достаточно независимых и как будто самостоятельных уровнях, на которых проявляются — на каждом по-своему — логико-смысловые законы, был поставлен лишь частично. Мы говорили о двух уровнях — речевом и теоретическом, на которых прослеживали действие логик смысла. Было дано основание для их отличения друг от друга: речевой уровень демонстрирует преобладание одной логики смысла, однако дает возможность по меньшей мере частично представить принципы построения и закономерности других, тогда как теоретический уровень строится как сознательное вытеснение всех конкурирующих способов выстраивания осмысленности, кроме одного, избираемого в качестве правильного. Вместе с тем мы не говорили, почему сознание стратифицировано именно таким образом и какие еще страты могут быть найдены. Очевидно, что, помимо сегментации поля осмысленности и соответствующей сегментации внешнего мира, можно и нужно говорить и о сегментации сознания, находя ее основание в различии модусов проявления логик смысла. Только первые шаги сделаны в направлении логико-смыслового исследования невербальной сферы1, о которой здесь вовсе не шла речь. Вопрос о стратификации сознания представляет собой еще одно важнейшее направление развития логико-смысловых исследований.
157
 |

|
 |

|
159
Выглянув из окна на улицу, я говорю: «Сегодня снег — не белый». Сказав это, я не мог бы сообщить собеседнику ровным счетом никакой позитивной информации, если бы мы оба не подразумевали при этом, что (во-первых) снегу может быть приписан цвет, что (во-вторых) цвет бывает белым и не-белым и (в-третьих) любой цвет, не являющийся белым, является не-белым. В таком случае мой собеседник, услышав от меня, что сегодня снег на улице — не белый, понимает, что снег имеет какой-то другой цвет, в принципе — любой, кроме белого; это заключение чисто логического свойства он помещает в контекст своего опыта и делает вывод, что снег, скорее всего, давно не выпадал, а потому превратился в желто-коричневый из-за разбросанных на улицах песка и соли или даже приобрел черный оттенок, впитав грязь городского воздуха.
Но откуда мой собеседник узнал все это — ведь я этого не говорил? Какой именно цвет может иметь снег и почему, он вывел из своего опыта; заключение о том, что снег вообще имеет цвет, служит обобщением этого опыта. Однако по опыту он знает также, что снег имеет температуру, что он может быть пушистым или слежавшимся, сухим или мокрым, искристым или тусклым, и так далее. Откуда мой собеседник узнал, что, отрицая белизну снега, я подразумеваю некий другой его цвет — а не какое-то еще его качество? А ведь я мог и вовсе ничего не подразумевать, а просто отрицать белизну снега?
Он знает это только потому, что знает, что отрицание «не белый» построено не как абсолютное. Будь так, фраза «Снег — не белый» означала бы «Снег не есть белый» и, следовательно, снег мог бы быть каким угодно, кроме белого (например, мокрым и легко лепиться в снежки или, наоборот, пушистым и легко сметаться с ветрового стекла машины), или вообще не быть никаким. Отрицание «не белый» предполагает другую фразу: «Снег есть не-белый»2, что не просто отрицает белизну снега, но утверждает наличие некоторого другого цвета снега, иного, нежели белый.
Но вопрос остается: откуда у моего собеседника, понявшего мою фразу (да и, видимо, у меня, построившего ее именно так), все это знание? Знание, которым обладаем мы оба — и, наверное, огромное множество людей, с которыми мы можем общаться, строя подобные фразы?
160
Связность
Это знание никак не эксплицируется, никак специально не проговаривается — и тем не менее им обладают все. Такое возможно, только если данное знание вплетено в ту «субстанцию», благодаря которой происходит наше общение. Как человек, копающий землю, не может не знать, как пользоваться лопатой, даже если не изучал физику и механику и не знает формул, определяющих давление режущей кромки на твердый предмет или законы рычага, — так и человек, способный окунуться в осмысленность (способный сформировать осмысленную речь и понять речь как осмысленную), не может не знать ее законов, пусть никогда не слышал о них и не способен изложить их в явном виде. Вернемся к нашему примеру: источник того знания, которым обладаем я и мой собеседник, — связность осмысленности.
Связность изначальна; она не привносится в речь, выстроенную из слов-кирпичиков. Удивительно настойчивое стремление истолковать осмысленную речь (и вообще любую осмысленность) в рамках атомистической стратегии, разъяв ее на «составляющие» и далее моделируя процесс «составления» осмысленной речи из этих атомарных «значений» (неважно, лексических или грамматических), не может быть успешным в принципе. Связность изначальна, потому что это — целостность; она может быть дана только сразу, но не может быть выстроена задним числом из собственных осколков. Надо начинать со связности, а никак не с атомарных «значений»: целостность связности редуцируется к этим значениям, но не может быть восстановлена из них.
Обладаем ли мы связностью; можем ли представить ее на обозрение, объективировать, сделать предметом рассмотрения? Мы не можем не владеть ею интуитивно, не можем не обладать ею уже потому, что способны к осмысленности, что интуитивно владеем ее законами. Но интуиция может ошибаться, она может быть более или менее отчетливой. Опытный землекоп знает, как держать черенок лопаты, чтобы при том же усилии достичь максимального эффекта, но новичок, скорее всего, не владеет этим искусством; он может двигаться наощупь, а может, зная законы рычага, сократить свой путь. Так и с осмысленностью: мы все способны передвигаться в этой среде, но знание ее законов сделает такое передвижение куда более эффективным. Как могут быть эксплицированы законы осмысленности?
Их ближайшим раскрытием, следующим — после введения категории «связность» — шагом послужит указание на неразрывность отношений противоположения-и-объединения.
Противоположение-и-объединение
Противоположение только потому имеет смысл, что оно совершается в рамках некоего единства; единство, напротив, только потому имеет смысл, что раскрывается через свое внутреннее противоположение. Мы знаем, что фраза «Снег — не белый» означает, что снег имеет какой-то другой цвет; мы знаем это только потому,
161
что знаем, что «не белый» — это отрицание, выстроенное внутри категории «цвет», и что «белый» дополняет это отрицание до полного: что, иначе говоря, фраза «Снег — не белый» означает то же самое, что «Снег — какого-то цвета, кроме белого». Это знание о равнозначности двух фраз имеет своим источником связность, и более ничего: неразрывность, открываемая нами дискурсивно, в последовательном рассуждении, имеет своим источником связность — компактную, упакованную целостность, природу которой нам предстоит раскрыть.
Итак, мы знаем, что фраза «Снег — не белый» означает то же самое, что фраза «Снег — какого-то цвета, кроме белого». Эти две фразы — одно и то же; это, если угодно, одна и та же фраза.
С другой стороны, в этих двух фразах — разные содержательные элементы. В первой у нас только «снег» и «белый»; во второй — «снег», «цвет» и «любой, кроме белого». Но две фразы различаются не только этим; они различаются и тем, что носит название формально-логических элементов.
В первой фразе у нас отрицание «не-», а во второй — имплицитное отрицание «кроме». Поскольку вторая фраза, которую мы формулируем так: «Снег — какого-то цвета, кроме белого», — может быть сформулирована и иначе: «Снег — какого-то цвета, который является не-белым», то в этой формулировке мы вместо имплицитного отрицания «кроме» получаем эксплицитно выраженное отрицание «не».
Далее, в обеих фразах мы имеем предикационную связку «есть», хотя она и не выражена явно. Учитывая все это, мы можем переформулировать наши две фразы таким образом:
(1) «Снег есть не белый»;
(2) «Снег есть какого-то цвета, который не белый».
Эти две фразы, как мы видели, равнозначны; это, по сути, одна фраза. Мой собеседник, которому я высказал ее в формулировке (1), воспринял ее в формулировке (2). Его восприятие правильно; и мы можем даже записать следование:
(3) «Снег есть не белый» ⇒ «Снег есть какого-то цвета, который не белый».
Стрелка ⇒ означает, что из левой части вытекает правая, что они в этом смысле равнозначны, говорят одно и то же.
Однако вопрос, который задан, остается: на каком основании мой собеседник смог выстроить следование (3)? Почему простое отрицание белизны привело к появлению нового содержательного элемента — «цвет»? Откуда он узнал, что отрицание белизны снега — это нечто большее, чем отрицание его белизны: это, во-первых, утверждение о том, что снег вообще имеет цвет, а во-вторых, о том, что если этот цвет не белый, значит, он какой-то другой?
Могут сказать, что понятие цвета имплицитно содержится в понятии белизны, поскольку «снег белый» и «снег белого цвета» — это одно и то же. С этим можно было бы согласиться, имея в виду, скажем, тот факт, что физический смысл обоих высказываний — один и тот же: электромагнитная волна определенной длины, отражаемая снегом, и совершенно не важно, назовем ли мы ее белизной или белым
162
цветом, поскольку в любом случае она останется тем, что она есть, — электромагнитной волной такой-то длины. Различие между двумя высказываниями — это различие смысла, а не значения (во фрегевском понимании).
Однако это возражение против нашего права задать свой вопрос (откуда собеседник знает, что фразы (1) и (2) равнозначны, или в чем основание следования (3)) все же не достигает своей цели. Если бы дело ограничивалось отсылкой к некоему физическому факту, то отрицание того, что снег отражает волну определенной длины, ровным счетом ничего не значило бы, кроме этого отрицания. Если бы высказывание (1) понималось как фиксация строго понятого значения (снег не отражает волну такой-то длины), то высказывание (2) не могло бы вытекать из (1). Между тем оно вытекает, и это — не ошибка, вызванная нашей манерой использовать язык, и не иллюзия сознания, а непреложный факт, подтверждаемый наблюдением. Если же скажут, что высказывание (2), истолкованное как физический факт (снег отражает волну некой длины, не равной длине волны белого), все же вытекает из (1), то это будет верно лишь потому, что мы каким-то образом будем знать, что снег вообще отражает волну некоторой длины, и только в силу этого — знать, что ее длина иная, нежели длина волны, воспринимаемой как белый цвет. Откуда взялось это знание — именно этот вопрос я и задаю: ведь мы не имеем ничего, кроме высказывания (1), которое каким-то, пока необъяснимым для нас образом влечет высказывание (2).
С утверждением о том, что понятие цвета имплицитно содержится в понятии белизны, поскольку «снег белый» и «снег белого цвета» — это одно и то же, можно было бы согласиться и на другом основании. Цвет — родовое понятие, и белизна, как и другие обозначения цветов, имплицитно содержится в понятии цвета, поскольку, говоря «цвет», мы не имеем в виду ничего иного, кроме «белый, или желтый, или красный… или фиолетовый», перебирая весь цветовой спектр. Можно выразить это и более компактно, сказав, что «цвет» означает «белый или не-белый», если «не-белый» — это любой цвет, кроме белого.
Это все верно, но и это скорее подтверждает право задать наш вопрос, нежели отвергает его. Ведь говоря «белый», я вовсе не подразумеваю ничего, кроме моего восприятия определенного цвета; отрицая это восприятие в отношении снега, я опять-таки не говорю ничего, кроме того, что в данном случае отсутствует такое восприятие. Откуда мой собеседник знает всю хитрую родовидовую механику, позволяющую ему вывести (2) из (1)?
Да и использует ли он ее? Следование (3) будет ощущаться как правильное и будет произведено сознанием едва ли не любого человека, для этого нет нужды изучать родовидовое строение понятий и знать законы противоречия и исключенного третьего. Основание следования (3) — какое-то другое, вовсе не эта эксплицитная теория; хотя теория схватывает и разъясняет важные вещи, не она работает в сознании человека, который интуитивно и безошибочно производит следование (3).
Что подобные ощущения носят интуитивный характер и не нуждаются в эксплицитной теории, подтверждает и такой пример. Все помнят, что ответил Остап
163
Бендер на вопрос озадаченного руководителя речной агитационной поездки, увидевшего, что вместо обещанного «мальчика» на борт судна поднимается Киса Воробьянинов. Остап сказал тогда: «Кто скажет, что это девочка…» Почему это смешно? Да потому, что спонтанно выстраиваемая нами по опыту языка оппозиция для слова «мальчик» будет и в самом деле «девочка» (а не «не-мальчик», как того требовала бы логика): смешно и представить себе Кису девочкой, смешон и руководитель, которому нечего ответить на этот «убийственный» довод; смешно, наконец, и то, как выстроено это суждение: софистическое нарушение принципа дихотомии приводит к видимости логически-неопровержимого вывода. Эту ситуацию нетрудно истолковать, зная начала родовидовой логики; но верно и то, что любой читатель смеется, вовсе не воспроизводя в своей голове все эти построения: восприятие интуитивно, и все то, что было сказано в развернутом виде, оказывается в голове читателя в некоем «свернутом» состоянии.
В чем же основание этой интуиции; интуицией чего она является? Что именно мы знаем, когда знаем, что правильно следование (3)?
Сжатость и развернутость, интуиция и дискурсивность
Мы как будто не знаем ничего определенного, что обосновывало бы следование (3): задав этот вопрос самим себе или другим и попытавшись ответить на него столь же спонтанно, сколь спонтанно мы улавливаем само следование (3), мы скорее всего не получим внятного ответа. И в то же время мы знаем, что следование (3) — правильное. Наше знание интуитивно в том смысле, что оно не развернуто; оно сжато и каким-то образом спрятано от нас самих. Но оно оставляет свой след. Что этот след имеется, очевидно хотя бы потому, что следование (3) не смущает нас, оно кажется оправданным, оно комфортно для нас. Каков источник этой неэксплицированной уверенности, обосновывающей развернутость нашего знания, и как можно говорить о ней?
Мы говорим, что основание следования (3) для нас интуитивно. Это значит, что оно сопротивляется разворачиванию в привычной речевой форме. Оно как будто хочет остаться неразвернутым, как будто желает сохранить свою сжатость. Однако само следование (3) развернуто, оно дано нам дискурсивно, как наша речь.
Это противостояние, это напряжение между сжатостью, неэксплицированностью, с одной стороны, и развернутостью, дискурсивностью — с другой, определяет динамику смыслополагания. Мы разворачиваем в речи то, что сжато и целостно, — но никогда не разворачиваем это до конца. Развернутость неизбежно предполагает дискретность, атомарность смысловых единиц, которые в нашей речи воспринимаются как отдельные значения. Целостность и сжатость, напротив, невозможны без слитости и непрерывности — без той целостности, в которой любое атомизируемое в нашей речи значение черпает свою силу быть значением.
Научность, доказательность, объективность, правильность (этот ряд можно продолжить) знания часто, если не всегда, ассоциируются с его развернутостью,
164
представленностью на всеобщее обозрение. Такая развернутость дает всем возможность судить о том или ином высказывании. Только развернутость объективирует знание и позволяет моему собеседнику проделать те же самые ходы, что проделал я, и убедиться в оправданности (или ошибочности) моего рассуждения.
То, что сжато и неразвернуто, что ощущается нами как целостность «внутри» нас, не может быть объективировано и представлено на суд другого. Объективированному знанию, развернуто представленному на всеобщее обозрение и суд, противостоит эта внутренняя уверенность, сопротивляющаяся разворачиванию и, следовательно, объективированию. Она как будто ничем не обоснована, кроме себя самой: мы уверены, потому что уверены; мы не можем предъявить никаких доказательств и обоснований этой предельной уверенности.
Может быть, совсем не случайно эта предельная уверенность остается свернутой и сопротивляется разворачиванию? Если суть философии заключается в том, чтобы стремиться прояснить предельные основания любого нашего рассуждения, ей следовало бы сделать своим предметом именно это. Но как можно прояснить то, что само служит основанием любого прояснения; как можно остранить то, что предельно: ведь тогда надо преодолеть его предельный характер, а значит, уничтожить эту предельность? Разве не выглядит это как подвиг барона Мюнхгаузена, решительным рывком выдернувшего себя за волосы из болота и так избежавшего верной гибели?
И все же есть возможность отстранить от себя, одновременно сохранив предельный характер этой фундаментальной, конечной интуиции, составляющей основание любой объективной удостоверенности знания, основание логики. Это можно сделать только на контрасте. На эту возможность пока не обращали внимания, не замечали ее — и тем не менее она существует.
Дело в том, что предельная уверенность может быть разной, точнее, одна и та же уверенность (все та же предельная очевидность, все то же предельное основание разворачивания знания) может быть «исполнена» по-разному. Оставаясь предельной, она тогда отстранена от меня как иная, — хотя, будучи иной реализацией той же самой предельной уверенности, она одновременно и неиная. Мы можем ту же предельную уверенность, то же предельное основание высказать иначе.
Но если так, то и развернутое знание, основывающееся на этой иначе выполненной, но той же самой предельной уверенности, будет иным — хотя в своем основании тем же самым. Отношение контраста, которое связывает разные исполнения одной и той же предельной интуиции, связывает и развернутые, объективированные результаты смыслополагания, которые черпают свою логическую и смысловую силу в этой свернутости.
Каким же может быть иное исполнение той же самой предельной уверенности, которая лежит в основании следования (3) и которая ощущается нами интуитивно, не только не требуя разворачивания, но и сопротивляясь ему?
165
Разворачивание осмысленности: субъектность и предикация
Отвечая на этот вопрос, нельзя апеллировать к интуиции: необходимо представить развернутое рассуждение. Но разве можно развернуть интуицию? Ведь тогда она перестает быть интуицией; она превращается в то, что сама же и обосновывает, — в дискурсивность. Это похоже на тупик; и тем не менее выход есть. Интуицию в самом деле нельзя развернуть; но можно дать понять, чем она не является, во-первых, и, во-вторых, с чем может быть максимально сближена.
Обратим внимание: развернутость нашей речи, равно как развернутость нашей мысли (в этом между ними нет различия), предполагают субъектность. Мы не можем ясно говорить или отчетливо мыслить, не фиксируя субъект высказывания (субъект нашей мысли). Субъект — это то, о чем мы говорим. Субъект, подлежащее разворачиваемого нами предложения, требует предикат — свое сказуемое, то, что говорится. Мы не можем развернуть речь иначе, нежели полагая субъектность. Полагание субъекта и связанное с этим полагание предиката — необходимый шаг смыслополагания и первый, совершающийся в сфере развернутости.
Конечно, возможны бессубъектные языковые формы предложений, например «Подойди!», «Уже вечер» или «Что-то нездоровится». Однако нет языковой формы предложения, которая не могла бы быть приведена к субъект-предикатному виду. «Я хочу, чтобы ты подошел», «Вечер наступил», «Я чувствую, что я нездоров» — эти предложения разворачивают приведенные примеры сокращенных языковых форм предложений до полных. Развернутость невозможна без субъект-предикатной формы; она может быть сокращена в языке, но никак не в мысли, а потому и в языке может быть всегда восстановлена. Однако это исследование — не лингвистическое, и нас не заботят формы языка сами по себе. Нас заботит, как устроено наше мышление, как оно зависит от законов полагания смысла и каковы эти законы. Это значит, что нас заботит речь, а не язык, — речь постольку, поскольку в ней отпечатывается и оставляет свой след разворачивание осмысленности. А смыслополагание — в ближайшем приближении — и представляет собой разворачивание осмысленности: разворачивание той сжатости, той интуитивно ощущаемой целостности, которую мы разыскиваем как наше предельное основание уверенности в оправданности шагов, подобных следованию (3).
Пространственная интуиция целостности
Мы ответили на первый вопрос: чем не является разыскиваемая интуиция. Она не может быть выражена в субъект-предикатной форме; она, иначе говоря, исключает субъектность. Именно благодаря этому она может быть целостностью и свернутостью, а не развернутостью. Если мы хотим понять, где наше речевое высказывание, неизбежно облачающееся в субъект-предикатную форму, черпает свою способность разворачиваться, мы должны быть готовы встретиться с тем, что не заключено в форму субъектности.
166
Отрицательное определение приближает нас к цели. Его, однако, совсем не достаточно. Если мы не можем дать развернутое представление нашей предельной интуиции, обосновывающей следование (3), — ведь тогда она перестанет быть самой собой, — мы все же можем дать наводящую метафору. Эта метафора, с одной стороны, покажет, как обстоит дело и почему следование (3) обосновано: она, таким образом, развернет обоснование. С другой стороны, с этой метафорой мы молчаливо согласимся: она для нас окажется комфортной, не нарушающей нашей интуитивной предельной уверенности. Эта метафора будет иметь отношение к обеим противоположностям — и к свернутости, и к развернутости, как будто опосредуя их. Она, возможно, нечто большее, нежели просто метафора; но этот вопрос мы только зададим, поскольку здесь он выходит за рамки того, что предполагается данным исследованием.
Представим себе некое ограниченное пространство, например шкатулку. Представим, далее, что она поделена надвое внутренней перегородкой. Пусть эта шкатулка принадлежит скупцу, одержимому накопительством. Он держит в ней монеты, запирая их на замок. Каждый день он открывает ее и добавляет новые: золотые монеты — в левое отделение, а не золотые — в правое. Он так боится за свое сокровище, что не держит монет нигде, кроме этой шкатулки.
Теперь, если границы нашего воображаемого универсума — это границы дома одержимого накопительством скряги, который складывает в свою шкатулку все монеты — и золотые, и не золотые, то мы можем сделать несколько абсолютно истинных высказываний. Мы знаем наверняка, что все монеты нашего универсума находятся в шкатулке и ни одна из них не будет найдена вне ее границ. Пусть наш скупец откроет крышку шкатулки и запустит туда руку, решив полюбоваться своим кладом. Он так дорожит монетами, что никогда не вытаскивает на свет больше одной и всегда кладет монету обратно, прежде чем достать следующую. Тогда мы точно знаем, что, запуская руку в шкатулку, он непременно вытащит оттуда монету. Мы знаем также, что в любой данный момент он любуется либо золотой, либо не золотой монетой. Мы знаем, наконец, что он не может сразу разглядывать и золотую, и не золотую монету.
Откуда мы знаем все это? Конечно, пример настолько прост и нагляден, что нетрудно поставить себя на место скупца и вместе с ним мысленно таскать монеты из шкатулки, убеждаясь, что эти действия никогда не дадут сбоя и перечисленные абсолютные истины останутся абсолютными. Но сколь бы живописной ни была воображаемая картина, она не может дать полной уверенности, поскольку абсолютная истина потому и абсолютна, что не зависит ни от какого ряда экспериментов, реальных или мысленных. Основание нашей уверенности — другое, не экспериментальное. Оно коренится в самом устройстве шкатулки, которое не назовешь иначе, нежели пространственным; и в самом устройстве акта вытаскивания монеты, который не назовешь иначе, нежели временным.
Это пространственно-временное устройство — вот что обосновывает нашу уверенность в том, что высказанные истины абсолютны и непременно будут под
167
тверждены любой серией опытов. Мы совершенно уверены, — причем эта уверенность имеет предельный, интуитивный характер, — что два отделения нашей шкатулки исчерпывают ее пространство и что они отделены одно от другого так, что перегородку невозможно преодолеть. Это значит, что любая монета может оказаться либо в одном отделении, либо в другом, никак иначе: она не может быть в обоих сразу или не быть ни в одном. Когда мы говорим «сразу», мы имеем в виду временной аспект: невозможно одновременно быть и там, и там.
Субстанциальность и логические законы
Это — констатация, имеющая временной и пространственный характер. Но мы можем сказать, выражая ту же мысль: невозможно иметь некое качество и его противоположность; монета не может быть и золотой, и не золотой. Эти две констатации — пространственно-временная и логическая — тождественны, они переводятся одна в другую.
Логическая необходимость обоснована пространственно-временной интуицией. Но не только. Очевидным, хотя обычно не проговариваемым условием правильности логических констатаций (и, совершенно необходимо, правильности пространственно-временной интуиции) является субстанциальность. Невозможность приписать оба противоположных признака одному и тому же носителю и невозможность для него не иметь ни одного из них — закон противоречия и закон исключенного третьего — работают только потому, что речь идет о субстанциях. Значит, очевидность не просто логическая, она — логико-содержательная. Логическая очевидность законов противоречия и исключенного третьего, равно как закона тождества, напрямую зависит от содержательности («субстанциальность»).
Из этого вытекает, что логическая необходимость и логический закон не могут быть поняты как «чисто формальные». Эта аберрация, проходящая едва ли не через всю историю европейской логики, имеет своим источником представление о том, что логику можно строить только на основе субстанциального взгляда на мир и, следовательно, что сам факт такой обоснованности логики может быть проигнорирован в силу своей инвариантности. Мы увидим, что это неверно и что содержательное основание логики (в европейском случае такое основание — субстанциальность) может быть другим. А раз так, оно не может не учитываться, и логические законы не должны пониматься как имеющие исключительно формальную природу. Вот почему необходим логико-смысловой подход, вскрывающий зависимость формальных логических законов от содержательного аспекта.
Это положение нуждается в прояснении. Речь не о том, к чему прилагается логика, подходит она или не подходит к предмету исследования и как она должна быть модифицирована (если это возможно) с тем, чтобы ему соответствовать. Речь о том, чтó обосновывает формальную логику, — а не о том, к чему прикладываются формальные логические законы, уже имеющие определенное обоснование.
168
Телесная интуиция пространственных границ
Вернемся к нашему скупцу и его монетам. В чем основание абсолютной уверенности в том, что, сколько бы ни таскал наш скряга монеты из шкатулки, он никогда не нарушит ни закон противоречия, ни закон исключенного третьего? Мы сказали, что такая уверенность ближайшим образом раскрывается как интуитивное ощущение такого пространственно-временного устройства, при котором эти законы действуют с неизбежностью. Можно ли продвинуться дальше; можно ли ответить на вопрос: почему такое пространственно-временное устройство представляется нам абсолютно обоснованным, работающим без сбоев?
Несомненно, что все мы как существа, наделенные телом и вынужденные приспосабливаться к окружающей среде, в которой встречаемся с телесностью других существ и предметов, обладаем интуитивным ощущением границ собственного тела. Это — те замыкающие, обнимающие наше тело границы, которые мы ощущаем физически (кожа и ее поверхностные рецепторы) и которые мы вынуждены охранять. От сохранности этих границ зависит наша жизнь и благополучие. Современный городской человек не всегда отдает себе в этом отчет, но достаточно отправиться в густой лес за грибами или выехать в час пик на городские улицы за рулем автомобиля, как острое ощущение границ нашего тела (во втором случае — границ автомобиля, которые водитель воспринимает как продолжение собственного тела) вернется.
Интуиция замкнутых границ пространства, заключающих внутри себя всё, берет начало в этой телесной интуиции, которая необходима всем нам и которая не может не быть для всех одинаковой, поскольку вырабатывается в ходе приспособления к более или менее одинаковым условиям внешней агрессивной среды. Телесная интуиция естественным образом пространственна, поскольку именно пространство делает телесность возможной: мы не можем представить себе тело вне пространства (хотя можем вообразить его вне времени). Телесность и пространственность не просто связаны, они вытекают одна из другой. Телесность, далее, дает начало нашему представлению о субстанциальности — представлению о неизменном, фиксированном носителе качеств. Субстанциальность, таким образом, неразрывно связана с обеими исходными логико-смысловыми интуициями, которые делают возможными логические законы, управляющие поведением монет в шкатулке (и бесчисленного множества вещей-субстанций в бесчисленном множестве аналогичных ситуаций), — интуицией определенной пространственной организации и интуицией субстанциальности.
Интуиция процесса
Однако интуиция границ нашего тела — не единственная необходимая для выживания существ вроде нас в агрессивной среде. Не менее важно видеть и слышать все, что происходит вокруг. Я открываю глаза и вижу мир, окружающий меня.
169
Я слышу звуки, идущие со всех сторон. Видение и слышание как процессы предполагают совсем иную интуицию, нежели интуиция границ моего тела. Здесь нет никакой замкнутости. Мы не можем сказать, что видение или слышание необходимо заключены в некотором пространстве, что они очерчены границами, которые охватывают их и заключают внутри себя.
Под вопросом вообще оказывается необходимость интуиции пространства для осмысления процессов видения и слышания. Действительно, зрение всегда удостоверяет, что вещь, которую мы видим, находится с нами в одном пространстве (мы не можем видеть то, что не соединено с нами пространственно). Но это неверно для слуха: мы можем не знать, где располагается то, что мы слышим, и если линия зрения как будто прочерчивает пространственную ось, то слух вовсе этого не предполагает.
Видя и слыша, мы не замыкаем границы пространства и не оберегаем их, как делаем это в случае собственного тела. Наша забота в другом: поддержать связь с тем-что-мы-видим и с тем-что-мы-слышим. Для нас важно именно это: где бы ни располагались видимое и слышимое, пока мы связаны с ними, пока эта связь не разорвалась, видение и слышание продолжаются.
Связанность-с-другим, с некой ответной стороной нашего действия, является тут центральной. Наша забота здесь — совсем другая, нежели в первом случае, когда мы рассматривали интуицию собственного тела и его границ. Нас заботит здесь не то, чтобы охранить эти границы и сохранить их в неприкосновенности. Нас заботит сохранение связанности-с-другим — с тем, что отвечает нам и с чем мы устанавливаем взаимодействие.
Забота о поддержании такого взаимодействия и такой связанности, забота, которой мы живем и которую проявляем постоянно, не задумываясь об этом специально, порождает в нас особую интуицию. Это — интуиция неразрывности двух сторон, связанных процессом, который един для них и который одновременно противопоставляет и соединяет их. Мы можем сказать, что процесс соединяет свои стороны именно потому, что противопоставляет их; или что он их противопоставляет только благодаря тому, что соединяет.
Как соотносятся субстанциальная и процессуальная интуиции
В каком-то смысле интуиция процессуальной связи может быть противопоставлена интуиции пространственных границ телесной субстанции. Первая ориентирует на связанность-с-другим, с тем, что противоположено мне, но с чем я не могу не быть един, образуя две стороны одного процесса. Вторая, напротив, ориентирует на строгое отделение меня ото всего прочего: пространственные границы тела ясно обозначают это деление. Здесь важна не связанность-с-другим, а, напротив, поддержание нерушимости собственных границ и отталкивание от другого.
Вместе с тем такое противопоставление двух интуиций — интуиции процессуальной связи и интуиции пространственной замкнутости субстанции — верно
170
лишь до какой-то степени. Ведь для интуиции процесса вовсе нет пространственных границ, и она связывает меня с другим не потому, что эти границы нарушает, а потому, что они для нее изначально отсутствуют. Точно так же субстанциальная интуиция отделяет меня ото всего остального мира не потому, что разрывает процессуальную связанность с другим: такая связанность для нее просто отсутствует. Значит, противопоставленность двух интуиций не означает их противоположенности и несовместимости; скорее это отношение дополнительности, когда каждая выполняет ту работу, которую не может выполнить другая.
Две интуиции — интуиция субстанции и интуиция процесса (или, иначе, интуиция замкнутых пространственных границ и интуиция неразрывности связи с другим) — целиком инаковы в отношении друг друга. Они выстроены по-разному, они ни в чем не пересекаются. Мы не можем что-то переменить в одной, чтобы получить другую; мы должны выстроить описание каждой целиком с самого начала.
Эти интуиции, иначе говоря, невозможно истолковать как варианты некоего инварианта. Такого инварианта попросту нет: эти две интуиции, а значит, и смыслы, которые «схватывают» их для нас (говорим же мы о них словами и понимаем эти слова: мы делаем эти интуиции высказанными, осмысленными) и которые позже, на следующих шагах исследования, развернутся в термины, понятия, категории, — эти интуиции и осмысляющие их смыслы не служат экземплярами чего-то единого и общего для них. Отношение между ними — другое. Это отношение я называю отношением то же иначе.
Чтобы понять, что это такое, вернемся к понятию целостности.
Физическое событие и логический закон
Откуда мы знаем, что высказывание «Сегодня снег — не белый» сообщает нам что-то еще, помимо отрицания белизны снега?
Мы точно знаем, что любая монета, возвращенная скупцом в его шкатулку, попадет в отделение либо для золотых, либо для не золотых монет. Эта безусловная несомненность нашего знания гарантирована интуицией замкнутого пространства (эта интуиция подсказана нашей телесностью), которое нам остается лишь разделить пополам, получив два его отделения. Деление пополам по сути ничем не отличается от прочерчивания внешних, охватывающих границ: каждое из полученных отделений шкатулки точно так же замкнуто и ограничено, как прежде вся шкатулка. Монете просто некуда деваться; она обязана попасть в одно из отделений, и это «обязана» гарантировано нашей телесной интуицией.
А что же «снег»? Представим на минуту, что в нашей шкатулке в одном из ее отделений лежит белый снег, а в другом набросано снегу разных цветов и степеней загрязнения. Конечно, это должна быть довольно большая шкатулка; но дело ведь не в размерах, дело в ее устройстве. А устройство — точно такое же, как у шкатулки скупца, и если мы говорим, что снег — не белый, это значит, что мы указываем на другое отделение, где лежит снег любого другого цвета.
171
Вот где основание нашей уверенности в том, что следование (3) непременно верно. В этом же — основание уверенности в том, что будут выполняться и закон исключенного третьего, и закон противоречия. Ведь если наша шкатулка — универсальная и в двух ее отделениях собран весь снег мира, то любой снег должен быть либо белым, либо не-белым (он лежит либо в одном, либо в другом отделении шкатулки), и при этом не может оказаться ни белым, ни не-белым (иначе говоря, он должен непременно быть в одном из отделений шкатулки, он не может не попасть ни в одно из них). Наконец, никакой данный снег (представим, что мы можем указать на единичный снег, наподобие единичной монеты, например на снежинку, и тогда скажем: никакая снежинка) не может оказаться одновременно и в одном, и в другом отделении шкатулки.
Интуиция пространства делает эти законы настолько очевидными, что в них невозможно сомневаться. Но заметим вот что. Для шкатулки скупца данное нами описание абсолютно естественно в том смысле, что логическая форма законов здесь прямо подтверждается физическими событиями (взятие единичной монеты: мы всегда выудим ее из одного из отделений, но не из двух сразу и не так, чтобы ни из одного из них) и физической реальностью (единичная монета и есть то, что подпадает под эти законы). Здесь физическое событие падения в одно, и только одно отделение шкатулки прямо отражает и закон исключенного третьего, и закон противоречия, которые описывают разные аспекты этого события; закон тождества также не остается в стороне, поскольку событие имеет место и названные два закона соблюдаются, только если монета равна самой себе на протяжении этого события. Так три закона традиционной логики оказываются прямым «слепком» с физического события.
Почему в шкатулку скупца можно уложить не только монеты
Но если бы дело было только в физическом событии и если бы эти три закона отражали только данное событие внешнего мира, от них было бы немного проку и их невозможно было бы распространить ни на какие другие случаи. Однако такое распространение имеет место, и любая ситуация, которую можно, с какой бы то ни было долей условности, привести к форме «шкатулки скупца» (мы увидим вскоре, что это — случай субстанциально устроенной предикации), будет подчиняться этим законам. Распространить эти законы за пределы прямо и непосредственно сопряженного с ними физического события можно только потому, что любая приведенная форма отсылает к той же интуиции пространства и замыкающих его границ, что и непосредственное физическое событие падения монет в отделения шкатулки, прямо «воплощающее» эту интуицию замкнутого пространства.
Возьмем пример, с которого мы начали, — вопрос о белизне снега и ее отрицании. Мы смогли уложить весь снег мира в гигантскую емкость с двумя отделениями, полностью воспроизведя ситуацию шкатулки скупца. Однако очевидно, что сделали мы это только в нашем воображении. Если шкатулка скупца существует
172
(или способна существовать) в действительности и каждый может услышать звон падающих в нее монет или полюбоваться их блеском, то никто никогда не видел (и вряд ли увидит) емкости с отделениями для белого и не-белого снега. Реальное физическое событие, которое описывается предложением (1), — это разбросанность не-белого снега на каком-то определенном пространстве, причем не обязательно компактно. Точно так же белый снег вовсе не обязательно лежит перед нашими глазами; и тем не менее мы производим следование (3), воспроизводя ситуацию шкатулки скупца и тем самым опираясь на интуицию замкнутого пространства и свойств его границ.
Более того, мы можем сформировать высказывание, где будет фигурировать предмет, который даже при большой доле фантазии невозможно представить как располагающийся пространственно. Например, мы можем сказать: «Любовь бывает платонической и неплатонической». Такое высказывание абсолютно истинно, оно может быть конвертировано в другие абсолютно истинные высказывания, например: «Если любовь данного человека не есть платоническая, значит, она неплатоническая» и т. п. Все они истинны, и все они опираются на интуицию шкатулки скупца — на интуицию пространства и физического события попадания в одно из отделений шкатулки, хотя никто никогда не видел никакой емкости с двумя отделениями, в которых располагалась бы любовь двух сортов, и никто никогда не держал в руках единичный экземпляр любви, как мы держим в руках монету или пробуем ее на зуб.
Выводы и вопросы
Сделаем краткие выводы из сказанного. Интуиция замкнутых границ нашего тела, которая воспитывается и подпитывается нашей естественной жизнью как телесных существ-в-мире, обосновывает базовую интуицию, оправдывающую абсолютную уверенность в следовании (3) и в трех законах традиционной логики, лежащих в его основе. Эта базовая интуиция принимает форму интуиции замкнутого пространства, разделенного надвое (таково наименьшее членение: дальнейшее внутреннее деление может идти сколь угодно далеко) исчерпывающим образом. Эта базовая интуиция, далее, «воплощена» в физическом объекте (шкатулка скупца) и в физических событиях (вытаскивание монет из шкатулки и возвращение их в нее), которые подтверждают правильность трех названных логических законов. Эта же базовая интуиция растягивается и распространяется на объекты, ситуации и события, которые в разной степени удалены от физической реальности шкатулки скупца, но которые могут быть осмыслены по ее модели и служат ее приведенной формой.
Зададим теперь два вопроса:
1. Почему три закона традиционной логики обосновываются одной, единственной интуицией? Ведь они не случайно формулируются как три разных, отдельных закона, так что один может применяться независимо от двух других;
173
и тем не менее они восходят к чему-то единому и неразъемному, как едина и неразъемна интуиция целостного пространства, охваченного общей границей.
2. Что значит «быть осмысленным по модели “шкатулки скупца”»? Что именно позволяет «растянуть» исходную естественную интуицию, сращенную с естественным, реальным событием, зримо-телесно ее подтверждающим, на случаи, где такого подтверждения нет или даже не может быть в принципе, случаи, которые, кажется, противоречат этой интуиции, поскольку предполагают нарушение предпосылок такой естественной сращенности с реальным физическим событием? И каковы условия, которые должны выполняться для того, чтобы такое «растягивание» происходило и не нарушало нашу естественную уверенность в его правомочности?
Ответим на эти вопросы по порядку.
Целостность и категории части и целого,
единства и множественности
Единая и единственная интуиция обосновывает все три закона традиционной логики потому, что эта интуиция является интуицией целостности. Целостность — особое понятие, и нам надо научиться мыслить его в соответствии с его подлинным содержанием, воздерживаясь от вчитывания в него тех значений, которые подсказаны нашим мыслительным опытом и естественно-языковыми коннотациями.
Прежде всего, целостность исходна. Целостность — ни в коем случае не целое, которое сложено из частей и распадается на части, о котором спорят, равно ли оно сумме своих частей или больше их. Целостность вообще не противопоставляется части. Целостность такова, что как будто замкнута на себя; но замкнута без того, чтобы иметь сдерживающие ее границы. Ее замкнутость — не та, что предполагает отграниченность от другого, когда бы граница отделяла ее от чего-то иного в отношении нее. Исходный характер целостности не предполагает, что мы можем говорить о чем-то ином в отношении нее и вообще отделять ее от иного.
Поэтому граница целостности и оказывается замкнутостью целостности на себя. Целостность раскрывает себя через обращенность к себе. Ее ограниченность и есть ее само-раскрытие.
Целостность, иначе говоря, объясняет сама себя; при этом делает это целостностно. Ее объяснением служит ее целостное устройство — можно так сказать; пытаясь понять устроенность целостности, мы уясняем ее для себя. Уясняем шаг за шагом; но никакой шаг не может быть понят как отдельный, потому что уяснение любого из них предполагает связанность со всеми остальными. Все они как будто присутствуют в любом из них, поскольку никакой шаг нельзя сделать, не сделав и остальные. Вот почему целостность — не целое, состоящее из частей: всякая часть может быть представлена отдельно от прочих. Целостность —
174
и не холистическое целое: эмерджентные свойства возникают, когда части собраны вместе, и составляющие такой системы все же могут мыслиться и изучаться отдельно, как изучаются части генома или компоненты живой клетки. Но не такова целостность: она не имеет частей, из которых была бы собрана.
Целостность — не единство, но это и не множественность. Категории единства и множественности в их соподчинении всегда организовывали мышление и определяли его стиль. Такие пары, как дедукция и индукция, эманация и эволюция, идеализм и материализм, реализм и номинализм и многие аналогичные, организованы как попытка вывести множественность из прежде полагаемого единства или, напротив, взять за основу множественность и прийти к единству, отталкиваясь от нее. Эти противопоставленные друг другу стратегии смыслополагания кажутся непримиримыми, поскольку начинают свое движение с разных сторон и движутся в противоположных направлениях. Но пространство их движения — одно и то же (как у поездов, идущих по параллельным веткам во встречных направлениях), и определено оно как базовое, априорное представление о том, что единство и множественность должны быть полагаемы одно после другого и на основе другого, что они, иначе говоря, должны выводиться одно из другого.
Но это неверно относительно целостности. Целостность — нераздельность единства и множественности, где одно не может быть после другого, но только — вместе и за счет другого. Это «за счет» и служит лучшим гарантом невозможности их линейного полагания (рядополагания), невозможности вывести одно из другого. Иначе говоря, целостность демонстрирует нам, что единство и множественность не могут быть источником одно для другого.
Противоположение-и-объединение
как концептуализация целостности:
пространственная интуиция
Мы уже встречались с целостностью, когда говорили о противоположении-и-объединении. Мы можем теперь вернуться к этому, закрепив сказанное и поставив это на почву достигнутого результата.
Возьмем пространство, ограниченное охватывающей его границей и помещенное целиком внутри этой границы и, далее, разделенное пополам. Такова шкатулка скупца с ее двумя отделениями. Эти два внутренних пространства сохраняют все свойства внешнего, охватывающего их пространства. Каждое из этих двух подпространств полностью отделено ото всего прочего и имеет охватывающую его внешнюю границу. Но с разделением общего пространства на два подпространства появляется нечто новое. Теперь два подпространства, если их сложить вместе и не обращать внимания на разделяющую их границу, превращаются в единое, «большое» пространство. Если отвлечься от внутренней границы, невозможно будет заметить разницы между, с одной стороны, двумя отделениями большого пространства, взятыми вкупе, и, с другой — самим этим большим пространством:
175
это будет строго одно и то же. И вместе с тем каждое из подпространств (каждое из «малых» пространств) исключает другое, поскольку полностью заключено внутри собственных границ и не допускает в них ничего внешнего.
Такое понимание большого пространства, разделенного на два малых, и соотношения между ними обладает силой абсолютной очевидности для нас. Мы не можем сомневаться в правильности этого представления, причем правильности априорной, не зависящей ни от какого опыта и в этом смысле абсолютной. Эта очевидность, как говорилось выше, восходит к общей для всех людей интуиции охватывающих и замыкающих внутреннее пространство границ тела. Мы, правда, сделали очень существенный шаг, поскольку не только углубили эту интуицию, распространив ее на бестелесное пространство, но и развили ее путем внутреннего разделения полученного чистого пространства. Но при этом мы ни в чем не отошли от интуитивного ощущения замыкающих и охватывающих границ, заключающих все ограничиваемое внутри себя и задающих неизбежную логику деления пространства.
Два подпространства большого пространства противоположны в том смысле, что абсолютно исключают друг друга. Мы видим, что идея совершенного исключения, вытеснения другого (другого подпространства) идет прежде ее категориального осмысления как абсолютного исключения противоположности. Я хочу сказать, что трактовка противоположности как абсолютно несовместимой, как совершенно исключающей, как заданной по принципу «или-или» находит свое объяснение и окончательное (интуитивное и несомненное) обоснование в этом ощущении пространства, разделенного внутри себя пополам, где подпространства ограничены так же, как ограничено единое, охватывающее их пространство.
Два подпространства дают нам множественность, тогда как одно большое пространство — единство. Категории единства и множественности не более чем концептуализируют это изначальное и укорененное в нашей базовой интуиции представление. То, как будут вести себя эти категории, какое отношение между ними будет установлено, определяется никак не прозорливостью философа, открывающего их, не неким «собственным» содержанием этих категорий (как будто бы они имели некое несводимое ни к чему другому, изначально заданное «подлинное» содержание, которое можно было бы открыть и установить) и уж никак не свойствами объектов (единичных вещей), которые будут подводиться под эти категории или упорядочиваться с их помощью. Категории единства и множественности будут вести себя так, как то определено нашей изначальной интуицией, в данном случае — интуицией замкнутого пространства, на котором задано внутреннее исчерпывающее деление.
Это деление, кстати говоря, может быть сколь угодно дробным как горизонтально, так и вертикально. Мы можем делить исходное пространство не на два, а на три и более отделений; мы можем любое из подпространств брать за исходное и подвергать его дальнейшему внутреннему делению, сколь угодно глубокому. Родовидовое древо задано во всех своих чертах этой интуицией (мы пока ничего
176
не говорим о единичных вещах, «подпадающих» под это деление, но рассматриваем лишь деление само по себе).
Единство и множественность как большое пространство и подпространства, дробящие его сколь угодно глубоко в горизонтальном и вертикальном отношениях, даны нам в этой интуиции ограниченного пространства только вместе, только одно за счет другого, но никак не одно после другого. Не разделив пространство на подпространства, мы не можем знать, что это пространство едино. Оно цельно, это верно; но оно не едино и никак не целостно. Всего одна внутренняя черта, проведенная от одной точки охватывающей границы к любой другой ее точке, совершает волшебный переворот. Теперь мы можем знать, что исчерпывающее внутреннее деление пространства дает возможность складывать полученные подпространства и получать в целости и сохранности изначальное, исходное для этого деления пространство. Теперь это большое пространство едино, потому что внутри себя множественно. Теперь оно объединяет противоположности, причем объединение их неотъемлемо от самого их полагания. Это — противоположение-и-объединение, целостность, в которой единство имеется благодаря собственной множественности, а множественность — благодаря своему единству.
Этот концептуальный разбор целостности легко соотнести с нашей шкатулкой. Ее два отделения — это два внутренних подпространства, сохраняющих принципиальные свойства идеального пространства и его внутренних отсеков в том отношении, которое нас интересует, а именно — в отношении сохранения свойств противоположения-и-объединения. Два подпространства шкатулки исчерпывают ее общее пространство, причем любое из подпространств может быть взято за исходное и подвергнуто дальнейшему делению, равно как исходное пространство всей шкатулки может быть поделено не на два, а на три, четыре и т. д. отделения. (Мы делим пополам лишь для удобства объяснения, получая минимальную множественность; ее дальнейшее арифметическое наращивание не дает ничего принципиально нового.) Мы можем сделать устройство шкатулки более изощренным, устроив в ней отделения для золотых, серебряных, бронзовых и никелевых монет (это горизонтальное деление ограничено только нашей реальной потребностью в упорядочивании монетной массы, но никак не свойствами исходного пространства), а каждое из этих отделений разбив на внутренние отсеки в зависимости от номинала попадающих в него монет. Шкатулка, усложненная таким образом, сохранит все свойства целостности, которую мы концептуализируем как противоположение-и-объединение.
Бессубъектность целостности
и субъектность предикативного высказывания:
разворачивание целостности
А что же монеты? Мы лишь готовим для них пространство — то вместилище, что готово принять их. Но сами они — нечто иное, совсем иное, нежели это пространство, и хотя их поведение будет управляться и определяться именно свойства
177
ми нашего упорядоченного пространства, они тем не менее служат чем-то совершенно иным, нежели оно.
Напомню, что мы отвечаем на первый вопрос — вопрос о том, почему единая интуиция объясняет и обосновывает три известных закона традиционной логики, которые вполне могут быть разъяты и рассматриваться в своем действии независимо друг от друга. Ответ на этот вопрос — в бессубъектности целостности и в (напротив) принципиальной субъектности предикативного высказывания, черпающего в этой целостности основание своей несомненной истинности.
В самом деле, целостность исключает какую-либо «выделенность», какую-либо «единичность» на тех (под)пространствах, что делают ее целостностью. Единое пространство и подпространства, составляющие его множественность, однородны, на них нельзя увидеть какое-либо отличие «одного» от «другого». «Одного» и «другого» попросту нет внутри этих пространств и подпространств — нет постольку, поскольку мы рассматриваем их как таковые. Шкатулка скупца пуста до тех пор, пока в нее не попала первая монета. Но попадает она туда извне, вообще говоря, неизвестно откуда; если угодно, монета чужеродна в отношении принимающего и располагающего ее пространства.
Падение монеты в шкатулку — событие, никак не определенное самой шкатулкой и ее свойствами. Но что ею определено, причем определено именно и только ею (но никак не монетой и вообще ничем иным), так это тот факт, что монета непременно попадет в одно из отделений шкатулки и что она попадет только в одно из них, но никогда не в другое (или другие — сколь бы сложным ни было горизонтальное и вертикальное устройство нашей шкатулки).
Эти две как будто совершенно разные стороны — событие падения и пространство, задающее его закономерности, стороны, как таковые между собой совершенно не связанные и не зависящие одна от другой, — сопряжены субъектностью монеты. «Монета падает»: здесь «монета» — субъект высказывания, получающая предикат, выраженный глаголом. Событие падения разворачивает целостность, и наша монета падает не в пространство вообще, не в его целостность, а непременно и только в одно из его отделений. Любое из этих отделений теперь отделено от другого и от целого пространства вообще: целостность нарушена, поскольку разрушена невозможность и немыслимость чего-то одного отдельно от другого. Целостность получила части — свои подпространства; но она получила их только потому, что развернулась в событие падения (в мире вне нас) и в развернутое субъект-предикатное высказывание (в нашей речи).
«Монета падает в отделение либо для золотых, либо для не золотых». Это высказывание верно всегда; но в нем мы уже не имеем той целостности, о которой говорили раньше. Целостность развернута в дискурсивное высказывание; однако истинность этого высказывания гарантирована именно целостностью — которой в нем самом уже нет, которая исчезла вместе с появлением субъекта («монета»), но которая продолжает обеспечивать его несомненную правильность.
178
Целостность и три закона логики
Три закона традиционной логики описывают событие падения монеты в шкатулку, определенное целостностью ее пространства. Целостностью, которая теперь уже, в развернутом виде, разрушена; эти законы могут рассматриваться и применяться отдельно один от другого, поскольку они указывают на различные аспекты этого события. Закон тождества сообщает нам главное — то, что делает возможным само событие и разворачивание целостности в дискурсивное высказывание: субъектность. «А есть А» — эта формула взрывает целостность, врывается в нее и заставляет ее развернуться. Монета, задавшая на целостности субъектность, определяет (именно в силу своей субъектности), что она — как субъект — может оказаться лишь в одном из двух отделений шкатулки и что она непременно окажется в одном из них. Оба смысла закона исключенного третьего «А есть либо В, либо не-В», отрицательный и положительный, верны и неразъемны здесь в том смысле, что один не может быть верен без другого. Если под «А» мы понимаем монету, под «В» — тот факт, что она оказалась в отделении для золотых монет, а под «не-В» — тот, что она упала в отделение для не золотых, тогда сразу и непременно верно, что монета упадет в одно из отделений (она не может не оказаться в одном из них) и только в одно (упав в одно, она не упадет в другое). Наконец, верен и закон противоречия «В не есть не-В»: если монета упала в одно отделение шкатулки, значит, неверно, что она упала в другое; оказавшись в отделении для золотых монет, она не может быть обнаружена в отделении для не золотых.
Три закона традиционной логики как будто обходят с разных сторон одно и то же событие, определенное целостностью пространства и субъектностью монеты, разворачивающей эту целостность в событие. Как в известной притче, они осматривают и ощупывают это одно событие с разных сторон; но, в отличие от ее героев, мы заранее знаем, что событие — одно и что эти разные впечатления получены от чего-то неразъемного, как в событии падения монеты в шкатулку неразъемны ее субъектность и целостность пространства, развернутая благодаря этой субъектности.
Мы получили ответ на первый из двух вопросов. Три закона традиционной логики разворачивают описание единого события, находя свое обоснование в единой интуиции целостности, концептуализируемой в данном случае как внутренне члененное, ограниченное замыкающими границами пространство; это разворачивание возможно благодаря сопряжению субъектности и данной интуиции.
Как переделать шкатулку скупца
Перейдем теперь к ответу на второй вопрос: почему мы можем приложить эти законы логики к описанию событий совсем другого типа, вроде обнаружения цвета не-белого снега или установления характера любви, — событий, которые не копируют схематику физического действия падения монет в отделения шкатулки, а значит, и не обладают наглядностью и доказательностью этого действия?
179
Монета падает в отделение для золотых монет; что это значит? Это может означать, что монета уже золотая, что скупец точно знает это, а потому придирчиво следит за тем, чтобы она попала именно и только в соответствующее отделение шкатулки. Он может это знать, поскольку неоднократно держал ее в руках и имел возможность многими способами убедиться в ее золотом достоинстве. Он может знать это потому, что, прежде чем вернуть в шкатулку, взял ее именно из отделения, где лежат золотые монеты, а потому, доверяя правильности устройства шкатулки и распределения монет в ней, он уверен, что монета золотая и что она должна попасть на свое прежнее место.
Нам, однако, ничто не мешает предположить, отвлекшись на минуту от нашего скупца с его сокровищем, что монета нейтральна в отношении своего качества в момент падения в шкатулку и получает его только после того, как окажется в том или ином отделении шкатулки. Мы тогда переворачиваем ситуацию: не потому монета попадает в то или иное отделение шкатулки, что она золотая или не золотая, а, напротив, она становится золотой или не золотой только потому, что попала в соответствующее отделение шкатулки.
Физический аналог такой интерпретации нетрудно вообразить. Пусть у нас в руках — неокрашенные кружочки бумаги, и пусть в отделения нашей шкатулки будет налита краска, в одно — золотая, а в другое — не золотая (это может быть смесь всех красок; или, при желании, мы можем усложнить горизонтальное разбиение шкатулки, чтобы оно соответствовала физической реальности, устроив там отделения для серебряной, бронзовой и никелевой красок). Теперь наш кружок бумаги превращается в золотую монету только после того, как побывал в одном из отделений шкатулки, а в не золотую (или, если угодно, серебряную, бронзовую, никелевую) — после того, как мы окунули его в другое ее отделение. Качество нашей бумажной монеты зависит теперь от того, в каком именно отделении шкатулки она очутилась; она была никакой до того, как это произошло.
Бумажная ли в руках у нас монета или металлическая, имеет принципиальное значение для нашего скряги, но для нас и то и другое обладает несомненной убедительностью факта, реального физического события, которое происходит у нас на глазах и в котором мы не можем сомневаться. И то и другое описывается одними и теми же тремя законами традиционной логики, которые в обоих случаях черпают свою несомненность в нашей интуиции целостности. Однако второе толкование (бумажная монета) позволяет нам сделать принципиальный шаг вперед. Ведь если в первом случае отделения шкатулки пусты, они — чистое вместилище, само по себе нейтральное, то теперь нейтрален субъект (бумажная монета), тогда как отделения не пусты, но заполнены качествами. Пусть в нашем примере эти качества — краска, обладающая несомненной физической достоверностью для наших органов чувств. Однако схема мышления, законы логики и их интуитивное обоснование никак не изменятся, если вместо краски в этих отделениях окажется (уже только в нашей голове) белизна и не-белизна для снега; платонический и неплатонический характер любви.
180
Так мы получаем ответ на второй вопрос. Мышление, выстроенное по схематике шкатулки скупца, может быть распространено на другие предметы, которые физически в такую шкатулку или не укладываются, или в принципе не могут быть уложены. Условием очевидности служит не привязка к убеждающему физическому примеру-событию (падение монеты в шкатулку), а обязательная (пусть и неявная) отсылка к интуиции замкнутого, ограниченного внешними опоясывающими границами и внутренне члененного пространства. Шаг от первой ко второй интерпретации шкатулки скупца, от металлической к бумажной монете был именно шагом к тому, чтобы облегчить применение интуиции такого пространства к случаям, где мы имеем дело не с физическими носителями качеств, а с такими предметами, которые не могут быть представлены по аналогии с единичным объектом-монетой и не могут быть уложены в шкатулку как объекты (например, любовь). Но это и не обязательно: важно лишь, чтобы качества, которые мы приписываем этим предметам—их носителям, вели себя так же, как краска в отделениях шкатулки, полностью заполняющая емкости и не переливающаяся через разделяющие их границы. Если эти качества ведут себя именно так, они становятся предикатами, подчиняющимися трем законам традиционной логики, и могут быть описаны с их помощью.
Смысл субстанциальности
Возвращение к этой интуиции целостности, реализованной как внутренне члененное ограниченное пространство, — вот в чем смысл категорий «субстанция», «субстанциальность» и связки «есть». Сами по себе эти категории плохо поддаются разъяснению, нам не так-то просто понять, в чем же их собственный смысл. Но дело просто в том, что весь их смысл — в этой интуиции, обосновывающей любые мыслительные ходы, в которых фигурирует носитель качеств.
Субстанциальный взгляд на мир — это взгляд, обоснованный в конечном счете описанным вариантом реализации целостности, взгляд, который стремится привязать многообразие качеств к их носителям, всегда помещая качества в шкатулку скупца и бережно распределяя их по ее отсекам. Связка «есть» указывает на то, что так понятые и распределенные качества приписаны их единичному носителю. Понять мир субстанциально — значит увидеть его как сумму качеств, разложенных по шкатулкам и привязанных к своим носителям. Интересно, что качество само по себе не может быть: никто не видел белизну, красоту, скупость и т. д. сами по себе; быть может субстанция (это она есть), — но все, что мы говорим о ней, определено исключительно тем, как разложены качества по шкатулке скупца. Наше знание о принципе этой «раскладки» — изначальное, оно носит интуитивный характер и не подлежит сомнению. Именно поэтому верны три закона традиционной логики; именно поэтому мой собеседник знает, что верно следование (3), и всегда произведет его, осознанно или (скорее всего) неосознанно.
Наш скупец таскает монеты из шкатулки не для того, чтобы убедиться, что законы логики верны и что всякий раз, вынимая монету наугад, он выудит либо
181
золотую, либо не золотую. Он, наверное, и не слышал о таких законах; он вынимает свое сокровище только для того, чтобы полюбоваться его блеском, услышать дорогой его сердцу звон драгоценных кружочков, увесисто шлепающихся в кучу своих собратьев. Скупец разглядывает монеты и прислушивается к их звону. Что может сказать нам об этих фактах субстанциальный взгляд, основание и закономерности которого мы очертили?
Он сообщит нам, что «скупец» — это субъект-субстанция, единичный носитель качеств, который мы берем как таковой: «А есть А». Он сообщит нам, далее, что этот субстанциально понятый субъект обладает предикатом; этот предикат — «разглядывающий» (возьмем для простоты только первый из двух). Значит, мы можем строить высказывание по формуле «S есть P», говоря, что «скупец есть (не) разглядывающий», где отрицание может стоять, а может не стоять, в зависимости от того, что имеет место на самом деле, то есть любуется ли скупец своим сокровищем или занят чем-то другим, добывая новые монеты. Значит, мы точно знаем, что скупец всегда или разглядывает, или не разглядывает свои монеты: третьего не дано («А есть В либо не-В», в позитивной трактовке закона: один из противоположных предикатов непременно должен быть приписан субъекту); знаем также, что он не может одновременно разглядывать и не разглядывать свои монеты («А есть В либо не-В», в негативной трактовке этого закона: только один из противоположных предикатов может быть приписан субъекту, но не оба сразу). Наконец, мы знаем, что, если он разглядывает свои монеты, значит, он не занят ничем другим («В не есть не-В», приписанный предикат исключает противоположный себе).
«Разглядывание» и «не-разглядывание» мы поместили в воображаемую шкатулку с двумя отделениями, куда наш субъект—носитель качеств попадает так же, как монета в одно из отделений шкатулки, и эта интуиция обосновывает для нас правильность всего, что было сказано о скупце, (не)разглядывающем свои монеты. Горизонт нашего рассуждения задан пространством данной шкатулки, вмещающей два противоположных качества (в аристотелевских терминах, две акциденции — «разглядывать» и «не разглядывать», относящиеся к категории «действовать»). Мы не можем сказать ничего, что выходит за пределы данного горизонта, что превышает смысл, заполняющий отделения нашей шкатулки; и субъект нашего высказывания, «скупец», пуст и чист, как пусты бумажные кружочки до того, как их окунули в краску и превратили в монеты: все свое содержание субъект черпает в предикате, окунаясь в одно из отделений нашей универсальной шкатулки предикации и окрашиваясь в тот или иной цвет.
Может ли шкатулка быть устроена иначе? Может ли целостность, обосновывающая нашу уверенность в трех законах традиционной логики, развернуться в предикативное высказывание иначе?
Вернемся к нашему событию — скупец разглядывает монету — и воздержимся от трактовки его в субстанциальном ключе. «Воздержимся» — это значит: не будем устраивать шкатулку с двумя отделениями для действий «разглядывать» и «не разглядывать» и не будем помещать туда нашего скупца, превращенного в субъект
182
предикативного высказывания. Заметим, что именно в этом смысл воздержания от субстанциальной трактовки события: не в том, чтобы отрицать субстанциальность скупца, а в том, чтобы не задавать границы универсума высказываний как внутренне расчерченное, ограниченное внешними охватывающими границами пространство (наша «шкатулка»).
Смысл субстанциальности именно в этом — в том, что субъект должен «нырнуть» в одно из таких отделений, — а вовсе не в том, что то, о чем говорится «субстанция», представляет собой нечто устойчивое, самостоятельное, обладающее собственной сущностью. Все это может быть верно, но это приходит задним числом, после того, как мы устроили нашу предикационную шкатулку и можем теперь оперировать качествами, которые приписываем субъекту: любое описание субстанции, хотя бы приписывание субстанциальных форм, нуждается в механизме предикации, устроенном именно так, как я его описал, но не наоборот (устройство этого механизма не нуждается в развернутом представлении о субстанциальных формах и т. п.). То, что скупец — это некий полнокровный молодец или, наоборот, иссохший старец, но в любом случае — осязаемый человек во плоти, не подлежит сомнению: именно такой человек, полноценный и осязаемый, участвует в событии разглядывания монеты. Но этот человек, вовлеченный в событие, — вовсе не субстанция и вовсе не субъект; он станет субстанциально понятым субъектом предикации только после того, как мы устроим нашу предикационную шкатулку и низведем его до статуса пустого кружочка бумаги, окунаемого в одно из ее отделений. Следовательно, воздержаться от субстанциальной трактовки нашего события разглядывания монеты — значит воздержаться от того, чтобы осмыслить его через интуицию пространственно-устроенной шкатулки, которая заполнена качествами и в которую будет попадать, по описанной логике, превращенный в субъект предикационного высказывания участник этого события.
Событие и высказывание
Скупец разглядывает монету. В этом событии участвуют двое: скупец и монета. Правда, в нашем предложении, описывающем этого событие, подлежащее — «скупец»; это наводит на мысль, что он более важен, чем «монета», служащая всего лишь дополнением. Грамматическая форма дополнения как будто выражает что-то дополнительное, а значит, неосновное, несущественное. «Скупец разглядывает» — вот минимальная, нередуцируемая форма предложения: подлежащее и сказуемое, без которых предложение просто не может состояться. Они необходимы для того, чтобы высказывание было высказыванием (то есть единицей речи) и чтобы оно, далее, могло получить значение «истина» или «ложь», соответствуя или не соответствуя действительности, миру вне нашей речи. Если «скупец разглядывает», то он может разглядывать монету, шкатулку, стол, на котором она стоит, собственную руку или даже очки на кончике своего носа: все это, от монеты до носа скупца — дополнения к основной структуре предложения.
183
Если мы мыслим так и так воспринимаем нашу речь, нам совсем нетрудно превратить высказывание «Скупец разглядывает» в «Скупец есть разглядывающий», иначе говоря, совсем нетрудно дать субстанциальное толкование нашему событию разглядывания монеты. Мы тогда совершим преобразование, описываемое формулой Г → ИС, превратив глагол в имя, понятое как имя субстанции. Этот ход представляется настолько естественным и необходимым, что мы привыкли совершать его чуть ли не автоматически. И все же попробуем от него воздержаться. Вернемся к самому событию разглядывания монеты, чтобы посмотреть, нет ли другой возможности придать ему смысл, нежели рассмотренное нами субстанциальное толкование.
Осмысление и целостность
Придать смысл — значит возвести к целостности. Целостность обосновывает и возможность разворачивания субъект-предикатных высказываний, и формальную логику, управляющую ими, и возможность сличить любое высказывание с миром, приписав ему истинность либо ложность. Значит, наш вопрос о том, можно ли ситуацию разглядывания монеты осмыслить иначе, нежели субстанциально, означает следующее: можно ли эту ситуацию возвести к целостности как-то иначе, а значит, обосновать иной тип разворачивания субъект-предикатных высказываний, иную формальную логику, управляющую ими, и возможность иным образом сличить каждое из них с миром, приписав ему истинность либо ложность?
Процессуальное устройство целостности
Скупец разглядывает монету. В этом событии монета ничуть не менее важна, чем разглядывающий ее скупец. Ведь если бы монеты не было, скупцу нечего было бы разглядывать, и событие бы не состоялось. И все же в построении нашего предложения «скупец разглядывает монету» мы отдаем предпочтение скупцу: ему выделено место подлежащего, это он — субъект высказывания. Конечно, мы можем осмыслить это высказывание, субстанциализировав его субъект, и тогда мы скажем: «Скупец есть разглядывающий монету». Но ведь субъект — совсем не обязательно субстанция, и он совсем не обязательно должен мыслиться как субстанция. Субъектность и субстанциальность совпадают не по существу, а лишь в конкретном случае осмысления нашего высказывания.
Скупцу отдано место субъекта предложения только потому, что он — действующий. Это от него проистекает действие разглядывания монеты, и даже если без монеты разглядывание бы не состоялось, все равно действие инициировано им, а не ею. Действие проистекает от скупца, и субъектность последнего фиксирует именно это.
Так мы открываем другой путь осмысления нашего события. Мы отправляемся от возможности понять субъект не как субстанцию, а как действователя. На этом
184
пути придется отказаться от всех очевидностей, которые подсказала нам шкатулка скупца, чтобы открыть для себя новые; нам придется начать заново.
Действователь не был бы действователем, если бы не его связь с претерпевающим. Действующее и претерпевающее — пара противоположностей; но эта пара выстроена не по принципу «или-или»: эти противоположности не исключают одна другую, а, напротив, друг друга предполагают. Их не может быть одной без другой: уберем действователя — исчезнет претерпевающее; устраним претерпевающее — будет устранен и действователь.
Скупец и монета — некие предметы, данные нам в наших ощущениях: их можно увидеть, услышать, дотронуться до них. Но не эта их предметность и не наделенность качествами важны для нас сейчас. Нам важно другое: их вовлеченность в процесс, который связывает их воедино. Процесс разглядывания — вот что соединяет скупца и монету и при всей их противоположности делает из них нечто неразъемное — такое, что не может быть разъято, не разрушившись.
Это — также целостность, но целостность, устроенная целиком иначе, чем в первом случае. Здесь мы также имеем противоположение-и-объединение: две противоположности соединены третьим, объединяющим их, и здесь, как и в первом случае, мы объясняем смысл каждого из этих трех (двух противоположностей и их единства), отсылая к двум другим, через два других, и никак не иначе. Здесь также каждое предполагает все остальные, они даны как будто сразу, целиком, и не могут быть изменены ни в одной детали, чтобы при этом не разрушилось всё. Но эта целостность устроена целиком иначе, нежели в первом случае.
Процессуальное понимание границы
Функция границы — скрепить противоположности, удержать их от распадения; эту функцию выполняет процесс. Но процесс не включает в себя действователя и претерпевающего, не охватывает их единой опоясывающей линией. Интуиция замкнутого пространства, полностью охваченного внешней, охраняемой от проникновения границей, не помогает здесь, потому что не объясняет этот вариант целостности.
Интуиция сцепленности и неразрывности — вот что приходит на помощь: одно связано с другим через третье, инициатор связан с претерпевающим через процесс, соединивший их. Именно эта сцепленность должна быть поддерживаема и охраняема — а не внешняя граница. Собственно, никакой внешней границы тут и нет, и интуиция пространства, сыгравшая такую роль в схематизации и концептуализации субстанциальной трактовки целостности и построенной на ней предикации, не годится здесь вовсе.
В случае субстанциально-ориентированной предикации субъект высказывания получает свою определенность благодаря тому, что оказывается в ограниченном со всех сторон «отсеке» и приобретает ту содержательность, которая ассоциирована с этим отсеком пространства; так кружок бумаги становится золотым или
185
серебряным, смотря по тому, в какой отсек емкости с краской он попадает. Однако субъект-действователь получает свою определенность совсем по-другому. Он ограничен не тем замкнутым пространством, в которое попал; он ограничен своей связью с претерпевающим. Именно это придает ему содержательность: субъект процессуально-ориентированной предикации получает свою содержательность благодаря этой связанности. А эта связанность и есть процесс.
Процессуальность и связка
Другое устройство предикации, другая базовая интуиция, к которой она возводится, концептуализируются и как другая связка. Как мы видели, смысл связки «есть» — в возведении к целостности как ограниченному, внутренне члененному пространству, где субъект получает определенность благодаря неизбежному и однозначному попаданию в один из его отсеков. Получив эту определенность, он «есть» такой-то; это «есть» возводит его в вечность, делает пребывающим: субъект оказывается субстанцией.
В этом смысле нет различия между аналитическими и синтетическими высказываниями, между субстанциальными и акцидентальными атрибутами: предикация везде совершается по одной и той же логике, и разница лишь в границах временных интервалов, для которых эти высказывания верны. Представлять, будто аналитическое высказывание «раскрывает» субъект и показывает содержание, которое «уже мыслилось» в его понятии, — значит ставить все с ног на голову. Субъект любого высказывания столь же пуст и неопределенен, как пуст и неопределенен бумажный кружок до того, как его окунули в металлическую краску: «золотистость» вовсе не мыслится заранее в понятии «монета», она приобретается благодаря предикации.
Точно так же совершенно пустой субстанциальный субъект может окунаться в емкости с «круглостью», «бумажностью» и т. п., приобретая эти качества. И так далее: платоновская причастность идее выражает не более чем полноценную окрашенность субъекта предикации той содержательностью, что он находит всякий раз в той или иной емкости с качествами. Наша способность мыслить субстанциально и описывать мир высказываниями типа «S есть P» зависит исключительно от того, насколько удачно мы можем уложить все качества мира в емкости, устроенные по типу шкатулки скупца. Все мы, мыслящие субстанциально, — скупцы, разлиновавшие пространство и поместившие в него все качества мира.
Какова же связка, предполагаемая процессуально-ориентированной предикацией? А с другой стороны, есть ли разница, как мы ее назовем? Связка «есть» становится собой вовсе не потому, что она названа так и что это ее русское название легко находит эквиваленты во многих языках, во всяком случае индоевропейских; и «бытие» становится высшей категорией европейского философского мышления вовсе не потому, что названо так. И связка, и категория имеют столь фундаментальное значение потому, что отправляют нас к базовой интуиции, на которой строится
186
здесь смыслополагание, — к интуиции очерченного пространства. Если процессуально-ориентированная предикация построена на совсем другой интуиции, то естественно, что она предполагает и другую связку. Однако понять, какова эта связка и как осуществляется связывание субъекта и предиката11, мы можем, рассмотрев, что именно играет роль базовой интуиции целостности здесь, в процессуально-ориентированном смыслополагании. Мы сможем тогда осмыслить (возвести к целостности) то название для связки, которое обнаружим здесь.
Сцепленность
Представим, что человек, идущий рядом со мной, оступился и может упасть. Я инстинктивно пытаюсь удержать его от падения, схватив рукой. И вот мне попадается в ответ его рука: две руки сцеплены, они отчаянно цепляются друг за друга, чтобы удержать свою связанность.
Моя рука принадлежит мне, а та, с которой моя рука сцеплена, — другому человеку. И меня, и другого человека, и наши руки, и любые другие части тела можно рассматривать как субстанции. Но сколько бы мы ни рассматривали их как таковые, как субстанции, помещая в контекст шкатулки скупца, мы ни за что не разглядим в них главного — того, что интересует нас сейчас, что удерживает моего визави от неминуемого катастрофического падения: мы не разглядим сцепленности.
Зафиксируем наше внимание на ней. Теперь нам безразлично, что представляют собой руки как таковые; для нас важно то, что они сцеплены. Для нас, собственно, важна сцепленность, а не они сами; или мы можем сказать так: они важны лишь постольку и лишь потому, что смогли сцепиться друг с другом.
Сцепленность двух рук требует усилия с обеих сторон — и со стороны того, кто удерживает своего партнера, и со стороны удерживаемого. Эта сцепленность, иначе говоря, взаимна; она — как будто обоюдное движение. Здесь важно приложение усилия, а не обретение качества; здесь важно, что субъект — действователь, а не то, что он попал в то или иное отделение шкатулки.
Усилие действователя, которое поддерживает сцепленность и не позволяет ей распасться, должно прикладываться всегда. Это «всегда» выводит нас в область не подверженного временным изменениям, в область того, что закономерно и постоянно, — но выводит совсем иначе, чем это делала шкатулка скупца. Сцепленность связывает действователя и претерпевающего, инициатора и ответную сторону. Сцепленность не «есть»; сцепленность завязана и поддерживаема. Это завязывание и поддержание, за которые отвечает сторона действователя, но также и сторона восприемлющего действие, и делает сцепленность возможной. Сцепленность — не субстанция; сцепленность — это связанность, или, еще точнее, связывание.
187
Такое связывание и есть действие действователя в своей самой чистой форме. Любое действие, каким бы оно ни было, т. е. независимо от его конкретной содержательности, представляет собой связывание воедино действователя и претерпевающее. Так, писание связывает пишущего и записываемое, чтение связывает читающего и прочитываемое, и т. д. Всякое такое действие — собственное усилие действователя, и связанность двух противоположностей воедино имеется только потому и лишь постольку, поскольку это усилие действователя прикладывается. Это усилие действователя утверждает действие, которое придает определенность и действователю, и претерпевающему.
Целостность и процессуальная предикация
Когда монета падает в одно из отделений шкатулки, она не может не падать и в саму шкатулку. Попадая в одно из двух противопоставленных отделений, монета попадает и в то, что их объединяет. Интуиция замкнутого расчерченного пространства безошибочно убеждает нас в том, что иначе просто не может быть. Мы уверены поэтому, что невозможно обладать видовым признаком, не обладая родовым: такое попросту абсурдно. Если «живое» — родовой признак, а «разумное» — видовой, то не может быть разумного неживого существа. Все, что есть разумное, тем самым есть и живое; все, что есть «белое», тем самым есть и «цветное», а значит, быть «не-белым» означает с неизбежностью обладать цветом, иным, чем белый.
Целостность сцепленности — не меньше целостность, нежели целостность замкнутого пространства. Сцепленность — это тоже противоположение-и-объединение, но устроена эта целостность иначе. То же самое, что мы открывали в устройстве шкатулки, мы откроем и в устройстве сцепленности, — но откроем это выполненным иначе, целиком иначе.
Отношение между двумя разными «исполнениями» целостности — это не отношение между вариантами чего-то инвариантного: здесь нет реализованного, осуществленного инварианта, т. е. того, для чего шкатулка и сцепленность служили бы вариантами. Это отношение — совсем другое, и нам надо научиться мыслить его; точнее, нам надо научиться мыслить так, чтобы это отношение вошло в пространство нашего мышления. Мы должны научиться мыслить не в схематике единичного и общего, варианта и инварианта: такая схематика — не более чем слепок со шкатулки скупца, принимающей единичные монеты в общие для них отделения.
Но что значит — научиться мыслить иначе? Это значит — научиться видеть осмысленность простейшего субъект-предикатного высказывания как возведение к тому типу целостности, который предполагается в каждом конкретном случае. Смысл такого высказывания не может быть сложен из того, что принято называть лексическими значениями слов, даже если добавить к ним грамматические значения, предполагаемые синтаксисом фразы. Смысл высказывания раскрывается в отнесении к целостности, и только поэтому фраза «Снег сегодня — не белый» может
188
быть осмысленной и будет значить для меня, как и для моего собеседника, то, что предполагается следованием (3).
В своем простейшем виде субъект-предикатное высказывание — это субъект, предикат и связка, обеспечивающая предикацию. Предикация, взятая вообще, — это соотнесение субъекта с тем или иным видом целостности; связка поэтому — указание на такое соотнесение. В случае субстанциально-ориентированной предикации такое отнесение субъекта к целостности — это его попадание в то или иное отделение замкнутого разграниченного пространства. В случае процессуально-ориентированной предикации это — его помещение на одном или другом конце сцепленности, включение в связанность в позиции инициатора или восприемника действия1; либо — постановка его в ту позицию, которую занимает сама сцепленность3.
189
Сцепленность имеется только потому, что всегда есть две ее стороны и их связанность, а значит, есть и определенные отношения между этими двумя противоположными сторонами и тем, что их объединяет. Точно так же (но при этом целиком иначе) невозможно попасть в одно из отделений шкатулки, не упустив при этом возможность попасть в другое (или другие). Отношение к противоположности и к объединяющему их целому непременно выстраивается в обоих случаях — но выстраивается по-разному во всем, на каждом шаге. Эти два способа возведения к целостности движутся как будто вдоль одной линии — но совершенно по-разному. Оба способа возведения к целостности раскрывают противоположение-и-объединение — но раскрывают его на основании разных интуиций. Целостность, раскрытая иначе, на основе другой интуиции, предполагает и другую логику.
Процессуальная логика: базовая интуиция
Эта логика — назовем ее логикой процессуальности — относится к логике субстанциальности, три закона которой в их взаимосвязанности мы увидели как описание ситуации шкатулки скупца (ситуации замкнутого расчерченного пространства), не как частный случай, не как некое ее расширение и тем более не как отрицание. Эти привычные способы выстраивания отношений между теоретическими системами не сработают тут, где мы имеем дело с разными реализациями целостности и разными базовыми интуициями. Логика процессуальности относится к логике субстанциальности как то же иначе: как целиком иначе выполненная реализация того же.
Первый закон логики Аристотеля обычно формулируют так: «А есть А». Его можно трактовать как неизменность (субстанциальную устойчивость) субъекта предикации, как одинаковость и неизменность предмета рассуждения на протяжении рассуждения. Но его можно трактовать и как неизменность, замкнутость и фиксированность охватывающими границами того пространства, которое и будет пространством предикации; иначе говоря, как фиксированность, неизменность тех отделений шкатулки, в одно из которых неизбежно угодит брошенная в нее монета. Неизменность и фиксированность имеют разный смысл для субъекта и предиката: в первом случае это — субстанциальность, во втором — возведение к интуиции целостности, предполагающей фиксированность ограниченного пространства.
В процессуальной логике интуиция целостности как сцепленности помещает субъекта, взятого как «самость»1, на одно из двух противопоставленных мест — на место действующего либо место претерпевающего2. Описываемая нами вещь,
190
субъект высказывания, является действующей или претерпевающей только потому, что сцеплена со своей противоположностью. Эта сцепленность — не прямая; она осуществляется через третий элемент — процесс, то есть то, что соединяет действующее и претерпевающее.
Бросаемая скупцом монета попадает в одно из двух отделений шкатулки; субъект субстанциально-ориентированного предикационного высказывания («снег») получает один из двух противоположных атрибутов («белый» или «не-белый»). Субъект процессуально-ориентированного высказывания также получает один из двух противоположных атрибутов, становясь действующим или претерпевающим1. Но монета, попавшая в одно из отделений шкатулки, отделена границей — для нее непроницаемой — от другого отделения; «снег», оказавшийся «белым», не есть «не-белый». Эти «есть» и «не-есть», эти связки и характер отрицания открывают, как мы говорили, суть интуиции замкнутого, ограниченного опоясывающей границей пространства. В отличие от этого, действователь должен быть связан со своей противоположностью — претерпевающим. Наличие действователя требует наличия претерпевающего, утверждает его. Ни одна из противоположностей здесь, в процессуальной логике, не может быть замкнута в собственных границах: интуиция сцепленности требует перехода к другому. Такой переход не может пониматься субстанциально: субстанции действующего и претерпевающего остаются разделенными. Переход осуществляется процессуально — через то действие, которое связывает действующее с претерпевающим и, взятое как устойчивая, неизменная связь, может быть названо процессом.
Такой процесс (концептуализация нашей интуиции сцепленности) связывает действующего с претерпевающим, сам не будучи ни тем, ни другим. В отличие от субстанциальной логики, для которой верны родовидовые отношения, здесь общее (процесс) объединяет подчиненные ему противоположности (действующее и претерпевающее), не охватывая их опоясывающей границей, которая бы задавала их общее пространство (вспомним: попадая в одно из отделений шкатулки, монета не может не попасть в шкатулку в целом). Однако процесс служит границей (так же и род задает общие границы для всех своих подвидов) — но границей другого типа, границей, интуиция которой задана как интуиция сцепленности. Это — граница, стягивающая противоположности и служащая их связанностью — но не включающая их внутрь себя (в том смысле «внутрь», в каком пространство включает «внутрь» себя свои подпространства, или множество — свои подмножества). Стягивание противоположностей ограничивает их: сцепленные руки зафиксированы, утверждены в своей неподвижности. Когда руки сцеплены, нам, собственно, становятся безразличны они «сами по себе»: нам важна их стянутость и стягиваемость, тот факт, что они участвуют в процессе стягивания (сцепления). Здесь имеет значение не их субстанциальная идентичность, а их вовлеченность в процесс и их роль в нем.
191
В сцепленности нет ничего субстанциального. Попытавшись рассмотреть ее как субстанцию, мы не найдем в ней ничего, кроме двух рук. Но две руки — не сцепленность; даже не в том смысле «не сцепленность», что «еще не сцепленность», но в том, что наличие сцепленности не исключает наличия двух рук (наоборот, предполагает и требует их), тогда как сами по себе две руки попросту не могут образовать сцепленность. Сцепленность как связанность — нечто другое, совсем другое, нежели субстанциально понятые руки сами по себе.
Граница как связывание
Итак, сцепление как процесс помещает наше рассмотрение в сферу процессуальности, когда мы получаем возможность видеть то, чего не видно в ракурсе субстанциальности. Мы видим здесь связывание как объединение и одновременно — как задание общей границы связываемого (так же род задает общее пространство всех подвидов — но задает его иначе)1.
Процессуальная логика как формальный инструмент
Мы говорили о том, что процессуальная логика не менее логична, нежели субстанциальная логика, созданная Аристотелем. Выражение «не менее логична» означает две крайне важные вещи: строгость и отнесенность к реальности. Рассмотрим их по порядку.
Процессуальная логика столь же строга, как и логика, созданная для работы с субстанциями. Означает ли строгость непременную формализацию, и если да, то должна ли эта формализация принять тот вид, какой она принимала исторически вплоть до современной математической логики, — вопрос непростой. В текстах Аристотеля мы не встретим формальных значков, хотя это не означает, что его рассуждения нестрогие. Логика, объясненная словами без использования формул, не теряет ничего в своей строгости; если формализация нужна для других целей, она вполне может быть предпринята и для процессуальной логики. Какой она будет — не возьмусь предугадать; но можно точно сказать, что такая формализация не может использовать математические средства, предполагающие отнесение единичных предметов к классам, которые задаются как обладание тем или иным признаком.
192
Такой путь формализации хорош для субстанциально-ориентированной логики: бумажные кружки, попадая в емкости с золотой и серебряной краской, обретают определенность как субстанциальные носители качеств и оказываются отнесены к классам золотых или серебряных монет. Любой такой бумажный кружок сам по себе, вне своего попадания в ту или иную емкость, где он обретет свой окрас, — ничто, точнее, лишь потенция приобретения такой качественной определенности, лишь свойство стать носителем качеств. Как таковой он совершенно безразличен к любым различиям; я хочу сказать, что бумажному кружку все равно, какую краску принять — золотую или серебряную, он одинаково хорошо справится с любой задачей и одинаково успешно займет любое из мест.
Но в процессуальной логике у нас нет таких «пустых» носителей качеств, чистых «единиц», которые одинаковы и равно безлики. Действующее и претерпевающее не могут поменяться местами; вернее, так: то, что оказывается на месте действователя, не могло бы оказаться на месте претерпевающего. Для бумажного кружка все равно, в какую краску окунуться; но для участника процесса не все равно, на каком месте оказаться; более того, то, что пригодно для одного из этих мест, непригодно для другого, и наоборот. Участники процесса — вовсе не носители качеств, они — именно участники процесса, и эта их содержательная черта определяет логику их поведения.
Из этого вытекают довольно интересные следствия, сами по себе заслуживающие первостепенного внимания. Возьмем, например, требование универсализации этического предписания. В самом общем виде оно означает, что требование, которое я предъявляю к другим, я должен прежде того предъявить к себе. Смысл такого условия — в том, что я должен поставить себя на место другого, то есть как будто поменяться местами с другим, и только если мое требование после этого сохранит свою императивность, я имею право выдвигать его к другому. В свою очередь, это возможно, только если субъекты в принципе могут меняться местами, если они — как бумажные кружки, способные принять любой окрас. Иначе говоря, такое понимание универсализации этического императива (с чем связано и истолкование «золотого правила») имеет в качестве своего фундаментального условия понимание предикации как субстанциальной.
Что будет, если мы переместимся в пространство процессуальности? Если мы захотим понять, что означает здесь требование универсальности, мы должны, согласно принципу то же иначе, выполнить то же (предъявить универсальное требование) в иначе устроенном пространстве предикации. Смысл универсализации требования — в том, чтобы оно было выполнено другим; в пространстве субстанциально-устроенного мышления оно будет выполняться тогда, когда каждый убежден в его универсальности, поскольку универсальность понимается здесь как возможность предъявить одинаковое требование любому субъекту — как мне, так и другому. Но если мы имеем дело с процессуально-устроенным мышлением, субъект здесь понимается как непременно занимающий одно из двух мест: либо место действующего, либо место претерпевающего. Тогда универсализировать требование значит
193
быть готовым оказаться на втором из двух мест с тем, чтобы требование, которое я предъявляю другому, было выполнено. Скажем, если я выдвигаю требование к ученому (‘а̄лим) всегда делиться своим знанием, это означает мою готовность принимать это знание: только если я готов встать на место претерпевающего в процессуально-устроенной целостности, я могу предъявить другому требование действовать, поскольку лишь в таком случае это требование может быть выполнено. Если предъявляется требование выплачивать зака̄т1, это означает готовность обеспечить данное действие, т. е. готовность оказаться на стороне получающего зака̄т2.
Я лишь выдвину здесь это понимание универсализации этического требования в пространстве культуры, основанной на процессуальном мышлении, как гипотезу. Насколько я знаю, вопрос об универсализации этического требования не ставился исламскими авторами классической эпохи; но это не значит, что он в принципе не может быть поставлен или что рассуждения этих авторов вокруг этических вопросов не могут быть рассмотрены с этой точки зрения. Механизм, который я называю механизмом то же иначе, позволяет выполнить в разных логико-смысловых пространствах одни и те же операции. Вместе с тем «зацикленность» исламских авторов на двух сторонах любого действия и выстраивание полной процессуальной конфигурации понятий при рассмотрении этических вопросов представляется мне весьма характерной чертой, и исследование классической литературы в этом направлении способно было бы многое прояснить.
Требование универсализации этического предписания в том случае, если второй стороной отношения выступает Бог, принимает в исламской культуре другую форму. В таком случае невозможно занять позицию другой стороны (т. е. позицию Бога), чтобы обеспечить сохранность взаимодействия сторон, однако забота предписывающего и в этом случае остается той же. Этим, на мой взгляд, объясняется столь настойчиво подчеркиваемый неабсолютный характер таких предписаний и их сдерживание принципом «насколько это в твоих силах» или «насколько это не вредит тебе» (взять для примера хотя бы рассуждения об уповании-таваккул или терпении-с̣абр). Требования, которые осмысляются как выдвигаемые со стороны Бога, смягчаются настолько, насколько это необходимо, чтобы обеспечить сцепленность двух сторон взаимодействия, человеческой и божественной, и не превысить тот максимум требовательности, по достижении которого эта сцепленность разрывается.
Обобщая, можем сказать: требование универсализации здесь должно иметь вид не «пусть каждый А будет иметь данное качество, и прежде всего я сам», не «пусть
194
долженствование будет обращено к себе, прежде чем к другому», а такой: «если ты хочешь, чтобы А оказался на одной стороне взаимодействия, ты должен быть готов оказаться на другой», или же «требуя от другого быть на одной стороне отношения, ты должен быть готов оказаться на другой, чтобы отношение завязалось», или же «ты должен требовать от А выполнимого действия, и показатель этой выполнимости — твоя готовность быть на другой стороне взаимодействия».
Итак, логика процессуальности — это логика перехода-к-противоположности, логика сцепленности со своей процессуальной противоположностью. Здесь для нас важен действователь не «сам по себе», а как связанный с претерпевающим. То же для претерпевающего: оно берется не само по себе, не «как таковое», а как результат действия действователя. Если взять максимальный масштаб, масштаб Универсума, то мы увидим, что для процессуально-ориентированного мышления мир важен не сам по себе, не взятый как таковой (как субстанция); он важен как результат действия действователя1.
Я думаю, что в этом — адекватный ответ на изумление Масиньона, выраженное в его знаменитой статье о характере мусульманского искусства и обосновывающих его особенностях мышления2: мутазилиты мыслят несубстанциально не потому, что неспособны разглядеть устойчивость природы, определяемую ее субстанциальной формой. Для них смысловая наполненность естественных феноменов достигается благодаря тому, что те рассматриваются как претерпевающее в необходимой, закономерной и устойчивой (вот где место закономерности для процессуально-ориентированного мышления!) сцепленности с действователем, в качестве которого здесь выступает Бог — просто потому, что другого действователя в их системе взглядов для рассматриваемых ими феноменов обнаружить невозможно, а вовсе не потому, что они столь склонны к фидеизму. Такое рассмотрение не менее логично, нежели субстанциально-ориентированное, и оно способно открыть не менее устойчивую закономерность. Мутазилиты этого и достигали, фактически устраняя божественный волюнтаризм, чего не смогло простить им доктринальное мышление, выбравшее в лице
195
ашаритов противоположный путь и оставшееся в русле процессуального мышления, но купировавшее его логику и, вместе с ней, общие потенции рационализма.
Думаю также, что в этом — адекватное истолкование тезиса, который выдвинул М. А. ал-Джа̄бирӣ в своей «Критике арабского разума»1, утверждая, что история человечества знала два типа подлинного разума: европейский, или «греко-европейский», и арабский. Их подлинность марокканский философ видит в свободе от мифологических и анимистических представлений, в способности породить чистое научное, философское и юридическое знание. И тот и другой разум строится на исследовании трех осей: Бог, человек и природа. Из этих трех две являются основными, а одна — второстепенной. Для европейского разума ведущие оси — «человек» и «природа»: в природе европейский разум открывает самого себя, прежде полагая природу как предмет, — тогда как третья ось, Бог, служит гарантом правильности и истинности законов разума, открытых в природе как ее законы. Для арабского разума двумя главными осями служат Бог и человек, тогда как природа выполняет роль посредника между ними: через ее наблюдение и исследование человек должен достичь знания творца — Бога [Джабири 2009а: 17, 28—29]2.
Эта схема сама по себе более чем уязвима. В самом деле, разве сказанное ал-Джа̄бирӣ об арабском разуме не может характеризовать средневековое европейское мышление? И не является ли выдвинутое им различие скорее хронологическим, нежели типологическим: «арабский разум» ал-Джа̄бирӣ оказывается не более чем аналогом средневекового европейского разума, и не случайно этот автор, рассуждая о «греко-европейском» разуме, говорит об античности, а затем сразу перескакивает к Просвещению, минуя средневековье. Так схематика ал-Джа̄бирӣ оказывается шаткой, и ее можно было бы легко опровергнуть и отвергнуть, если бы не одно обстоятельство: он на самом деле рисует различие между субстанциально-ориентированным и процессуально-ориентированным типами мышления.
Схематика в самом деле хромает, но мысль, которая стоит за этими построениями, совершенно верна: западное мышление ориентировано на поиск субстанциальной устойчивости и закономерности, тогда как арабское ищет закономерность и устойчивость, стремясь открыть ее как связь между претерпевающим и действователем. Поэтому для первого природа важна «сама по себе», она — предмет исследования как таковой, тогда как для второго она важна только в функции своей связанности с Действователем — Богом. Если «греко-европейский» разум ориентирован на открытие субстанциальной логики, то арабский — на открытие и применение процессуальной логики. Так тезис ал-Джа̄бирӣ о двух типах разума обретает свою обоснованность.
196
Нельзя не отдать должное этому мыслителю, смело выдвинувшему идею различия типов разума, бросившему вызов универсалистскому тезису о единстве разума, который принимается в философии как абсолютная аксиома. С чем можно не согласиться, так это с ограничением типов разума двумя: думаю, что их больше, и типология реализации целостности не исчерпывается интуициями замкнутого расчерченного пространства (шкатулка скупца) и связанности-с-другим (сцепленность).
Мы сказали, что процессуальная логика не менее «логична», чем субстанциальная, и что это проявляется в двух чертах: ее строгости и отнесенности к реальности, способности быть критерием истинности и ложности суждений. Прежде чем перейти к рассмотрению второй черты, закончим разговор о первой.
Первый закон процессуальной логики
Известные три закона традиционной (точнее — субстанциальной) логики служат не более чем описанием целостности в ее различных аспектах при ее трактовке на основе интуиции разграниченного пространства. Соответствующие законы для процессуальной логики относятся к ним по принципу то же иначе. Они также эксплицируют целостность как противоположение-и-объединение, но делают это на иных основаниях, восходя к иной интуиции.
Первый закон субстанциальной логики, «А есть А», задает понимание границы как очерчивающей внешние охватывающие рубежи. Мы говорили об этом не раз; такая граница охватывает и общее пространство (род), и подчиненные ему подпространства (виды). Для процессуальной логики задание границы — это связывание противоположностей, а не разграничение их в рамках общего ограниченного поля. Мы также говорили об этом. Искомый аналог первого закона для процессуальной логики должен предполагать такое понимание границы как связанности.
Но первый закон определяет также механизм предикации. Это непосредственно подводит нас к сути дела, поскольку смысловая логика, о которой мы говорим, — это логика субъект-предикатного высказывания, в котором вещь (субъект) получает свою определенность благодаря приписыванию ей некой содержательности. Такое приписывание осуществляется через возведение к целостности, поэтому понимание границы имеет первостепенное значение: именно задание границы дает нам целостность как противоположение-и-объединение, как то, что может составить основу для предикационного механизма.
В субстанциальной логике закон «А есть А» означает, что вещь получает свою определенность за счет попадания в тот или иной отсек очерченного пространства, границы которого жестко заданы и непроницаемы: получив один окрас, субъект такого высказывания не получит другой, монета будет золотой, и только золотой. Мы знаем об этом потому, что верен второй закон этой логики: «А не есть не-А», и монета, оказавшись в отделении для золотых, не может оказаться одновременно и в другом отделении. Эти два закона (как и третий) связаны друг с другом неразрывно, раскрывая смысл друг друга и обосновывая друг друга. Устойчивость
197
предиката, приписанного субъекту, достигается в субстанциальной логике благодаря «отталкиванию» от противоположного предиката по принципу «или-или».
В процессуальной логике субъект получает свою определенность как действующее или претерпевающее за счет связанности с противоположной стороной. Устойчивость предикации здесь обеспечивается не отталкиванием от противоположности, а, напротив, благодаря надежной связанности с ней.
Имея в виду все это, выдвинем следующее предположение. Первый закон процессуальной логики звучит так: действие (процесс) учреждает (утверждает) неразрывную связанность действующего и претерпевающего. Такая формулировка этого закона отражает понимание границы как разделяющей противоположности и одновременно связывающей их, а также задает основание для понимания механизма процессуальной предикации как придания содержательной определенности субъекту за счет связанности с его противоположностью.
Такое понимание предикации, может быть, нуждается в некотором разъяснении. Возьмем центральное положение исламского вероучения — невозможность сказать, что есть Бог. Возьмем не менее известное положение вероучения о «прекрасных именах» Бога. Эти имена, или атрибуты, служат предикатами Бога. Если мыслить субстанциально, мы не можем не согласиться, что любое божественное имя, признаваемое вероучением, сообщает нам, чтó есть Бог, то есть делает именно то, что запрещено этим же вероучением. Но если мы мыслим процессуально, то заметим, что эти имена в своей значительной, если не большей части выражают действенный аспект Бога, то есть характеризуют его как действователя, — а значит, не сообщают ничего о том, что есть «Он сам» (это касается и имен действия, и большей части имен самости). Субъект высказывания (Бог) приобретает свою содержательность как действователь, связанный с претерпевающим (миром): такая предикация не раскрывает «собственные» признаки субъекта, а показывает, в какой связи с претерпевающим он может находиться. Известный хадис «не задумывайтесь о самом Боге, думайте о дарах Бога»1 как будто выражает этот императив: мыслите процессуально, а не субстанциально2.
198
Второй закон процессуальной логики
На месте второго закона традиционной логики «А не есть не-А» мы обнаружим следующий второй закон процессуальной логики: противоположность утверждает свою противоположность. Если есть действователь, не может не быть претерпевающего, и даже если наше субъект-предикатное высказывание не упоминает его, о его наличии свидетельствует непреложный закон этой логики.
Это кажется тривиальным (хотя логика в своем основании всегда тривиальна); однако все дело в том, что мышление, приученное к процессуальности, распространяет процессуальную логику и за пределы той сферы, где она «родилась» и которая для нее органична, — за пределы собственно действий. В этом нет ничего удивительного; точно так же мышление, приученное к субстанциальности, распространяет логику субстанциальности на осмысление не только субстанций в онтологически-ответственном смысле слова, но вообще всего, что может фигурировать как субъект высказывания. Эта универсализирующая тенденция, видимо, характерна для человеческого мышления: предикационный механизм, т. е. механизм построения субъект-предикатного высказывания, однажды отработанный и доказавший свою эффективность в «родной» для него сфере, начинает применяться универсально. Вещи, о которых мы говорим, субъекты наших высказываний, включаются в этот отработанный механизм и осмысляются в соответствии с ним.
Пара з̣а̄хир-ба̄т̣ин (явное-скрытое), имеющая кораническое происхождение (это имена Бога) и ставшая важнейшим методологическим инструментом арабо-мусульманского мышления, служит превращенной формой пары фа̄‘ил-маф‘ӯл (действующее-претерпевающее). В паре «явное-скрытое» процессуальный аспект этимологически стерт, и тем не менее он непреложно восстанавливается для теоретического мышления: в качестве явного и скрытого фигурируют такие противоположности, которые могут быть поняты как (соответственно) претерпевающее и действующее; что не менее важно, всегда может быть найден и третий элемент, играющий роль процесса, стягивающего з̣а̄хир- и ба̄т̣ин-стороны воедино. Из этого правила, как и из любого другого, есть исключения, но они (как всегда) лишь подтверждают правило, будучи неправильными случаями применения этой категориальной пары.
Возьмем важнейшее для арабо-мусульманской культуры понятие ’ӣма̄н («вера»). Само это слово — масдар (имя действия) от глагола «верить», а потому более близким к арабскому оригиналу переводом было бы «верование» (хотя и это слово в русском языке субстанциализировалось и утеряло процессуальный оттенок). Вера, как правило, определяется арабо-мусульманскими авторами как согласованность двух сторон — явной (з̣а̄хир) и скрытой (ба̄т̣ин), в качестве которых выступают действие (фи‘л) и знание (‘илм), или убеждение (и‘тик̣а̄д)1. Знание
199
и действие выступают в роли действующего и претерпевающего изначальной, исходной процессуальной парадигмы: знание вызывает действие, переходит в него, производит его. В таком правильном переходе и создается «вера» как единство скрытого и явного. Здесь знание и действие важны не как таковые и не сами по себе, а в своей связанности с противоположностью.
Это же требование процессуальной логики хорошо заметно на примере другой важнейшей пары — лафз̣ (высказанность) и ма‘нан (смысл). Высказанность — это звук, указывающий на смысл, и только такое определение будет адекватным: дело не в звуке как таковом, а именно в его связанности со смыслом. Точно так же и смысл может быть введен в поле нашего рассмотрения только благодаря своей связанности с высказанностью, которая на него указывает1, и только тогда он будет понят как скрытый (ба̄т̣ин): скрытое как таковое недоступно нам (потому оно и скрытое), но благодаря своей связанности с явным мы можем говорить о нем, и именно этой связанностью оно отличается от г̣айб — сокровенного и в принципе не обнаруживаемого (см. об этом также [Ибн Араби 2014: 153—154], где речь о производном от этого слова — г̣а̄’иб «сокровенное»). Сцепленность этих двух сторон, понимание их как действующего и претерпевающего здесь принципиальна, и только она дает ключ к истолкованию всех этих категорий и логики работы с ними.
Возьмем другой пример — фундаментальные для исламской этики категории ниййа (намерение) и фи‘л (действие). Они также выстроены по з̣а̄хир-ба̄т̣ин-модели, предполагая процессуальную логику своего понимания: скрытое «намерение» выступает в качестве инициатора, действователя, вызывая к жизни «действие», которое явно для всех2. Намерение как таковое никогда не может быть обнаружено, мы знаем только явное — действие, которое как таковое — нечто совершенно иное, нежели намерение, определяемое как внутренняя собранность и сосредоточенность на определенной цели.
Если бы мы мыслили субстанциально, мы не могли бы говорить о намерении вовсе, поскольку оно как таковое — вне досягаемости для нас, оно не менее отделено от нас, чем кантовская вещь в себе. Однако процессуальная организация мышления делает разговор о нем оправданным, позволяет нам достичь и выявить то, что с субстанциальной точки зрения осталось бы навсегда закрытым.
Выявление скрытого здесь, в процессуальном мышлении, — это не обнаружение сущности, это не наблюдение явлений, позволяющих судить о сути. Ведь действие — это не явление для намерения, и намерение — не сущность для действия. Они вообще не соотносятся по этой логике, и категориальная пара «сущность-явление» неприменима здесь, в системе процессуальной организации
200
мысли. Намерение и действие — это скрытое и явное, то есть действующее и претерпевающее: две разные стороны (а не сущность и явление), но неразрывно связанные между собой третьей — а именно, тем, что называется «поступок» (‘амал). Поступок совершен, если намерение связано с действием закономерной, устойчивой и постоянной связью. Именно это третье, то, что занимает место процесса в парадигматической тройке действующее-процесс-претерпевающее, и позволяет закономерно говорить о скрытом, имея перед глазами явное.
Как субстанциальная логика позволяет указать на один из двух видов, не называя его «по имени» и, вообще говоря, не зная о нем, не имея его «перед глазами», благодаря тому, что мы указываем род и вычитаем из него второй из его видов («снег не-белый», что дает следование (3)), — так и процессуальная логика позволяет высказываться о неизвестной нам и неназванной нами противоположности, если мы знаем другую и знаем то, что объединяет их, — процесс. На месте следования (3), которое предполагается субстанциальной логикой и широко используется нами в повседневной речи (возьмем хотя бы привычку обозначать качества через отрицание противоположности, которая выдает родовидовую схематику мышления и которая не обнаруживается в таком виде в практике употребления арабского языка), в пространстве процессуальной логики мы обнаружим другое следование: переход к ба̄т̣ин через з̣а̄хир благодаря процессу, связывающему их (в самом общем виде он может быть назван процессом указания — дала̄ла). Так процессуальное мышление делает то же, что делает субстанциальное, — но делает это целиком иначе.
Зная это, мы поймем, чем вызвана склонность арабской речи к метафорике, и вряд ли будем удивляться «гипертрофированному» (с нашей, конечно, точки зрения, воспитанной на привычке к субстанциальности) пристрастию к непрямому выражению мысли1. Здесь это — не украшение, не красивый завиток на уже выстроенном здании осмысленности, здесь это — способ выстроить его и добраться до той целостности, которая лежит в основании осмысления субъект-предикатных высказываний. На этом построена арабская поэтика и риторика с ее теорией непрямого выражения смысла (маджа̄з): такое выражение — не украшение речи и не ее туманность, а способ добиться большей ясности и большей подтвержденности сказанного, нежели при прямом выражении. Об этом читатель может больше узнать, обратившись к [Ибн Араби 2014: 81—82], где разбирается пространная цитата из ал-Кирма̄нӣ, обсуждающего именно такой способ указать на смысл. «Наставления ищущему Бога» Ибн ‘Арабӣ (см. [Ибн Араби 2014: 346—398]) служат прекрасным примером того, как смысл выстраивается на основе з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соотнесений и переходов, того, как такой прием позволяет сказать то, что не сказано (точно так же, как в субстанциальной логике это позволяет сделать следование (3)).
Склонность нашей речи и нашего мышления к использованию следования (3), когда мы мыслим субстанциально, и к вы-явлению смысла, т. е. к з̣а̄хир-ба̄т̣ин-переходу, когда мы мыслим процессуально, показывает, что мы мыслим
201
целостностями — но делаем это спонтанно, не научившись обращаться с ними инструментально. Мы — как землекоп, держащий в руках лопату, но не знающий физических законов, благодаря которым обеспечивается эффективность ее использования, и ковыряющий землю как придется.
Попробуем применить полученное знание о законах субстанциальной и процессуальной логик на деле. Возьмем знаменитую строку ал-Х̣алла̄джа (см. [Ибн Араби 2014: 389 и далее]):
أنا من أهوى ومن أهوى أنا
Я — тот, кто страстью пылает, и страстно любимый мной — я
Ее смысл которой можно передать так: «Я — и Любимый, и любящий». Прочитаем ее субстанциально, иначе говоря, считая ее утверждением, выполненным в субстанциальной логике. Мы увидим, что здесь — два субъект-предикатных высказывания: «Я есть Любимый (т. е. я есть Бог)» и «Я есть любящий (т. е. я есть человек, возлюбивший Бога, сам ал-Х̣алла̄дж)». Субъект этих двух высказываний — один и тот же, а именно сам ал-Х̣алла̄дж, а значит, мысля субстанциально, мы имеем право заменить «я» на «любящий» (поскольку это одно и то же). Тогда получаем «любящий есть Любимый»: это не что иное, как утверждение субстанциального тождества человека и Бога, любящего и Любимого. Не случайно Ибн ‘Арабӣ вслед за этой строкой приводит другое высказывание: «Я — Бог», как будто подтверждающее это субстанциальное отождествление.
Прочитаем теперь эту строку в процессуальной логике. «Я — Любимый» (но не «Я есть Любимый»: в процессуальной логике мы не имеем права так восстанавливать связку, предполагая определенный тип предикации, восходящий к определенной интуиции целостности) означает, что «я», т. е. сам ал-Х̣алла̄дж, занимает место Бога в связке «любящий—Любимый». «Я — любящий» означает, что он же занимает место любящего в той же связке. Ал-Х̣алла̄дж, точнее, его «я» оказывается на двух местах, а не на одном, как это должно было бы быть с точки зрения «нормального» восприятия действительности. Это означает никак не тождество любящего и Любимого (такой вывод вообще ниоткуда не следует в процессуальной логике анализа этого высказывания), но совсем другое — потерю определенности «я». Это и есть то, что на языке суфиев называется «растерянность», когда человек теряет ощущение фиксированности собственного «я» за счет того, что обычное «место» в конфигурации «действовователь-претерпевающее» оказывается утерянным, а вместе с ним теряется и фиксированность обычного мировосприятия.
Так сознательное применение инструментария процессуальной логики, которая (предположительно) адекватна для анализа этого высказывания, дает возможность достичь осмысленного результата. Даже если мы не можем сегодня точно установить, что ал-Х̣алла̄дж (или тот, кто зафиксировал эти слова) мыслил процессуально, во-первых, мы можем точно и ясно показать различие между субстанциальным и процессуальным прочтениями фразы и, во-вторых, выяснить, какое из них лучше
202
согласуется с контекстом. Во всяком случае, ясно, что комментарий ал-Г̣аза̄лӣ к этой строке опирается скорее на субстанциальное, а замечания Ибн ‘Арабӣ — на процессуальное прочтение этой фразы (см. [Ибн Араби 2014: 389 и далее])1.
Что получится, если мы не применим логический инструментарий, а будем толковать фразу, как это делают обычно, когда выходят за рамки филологического комментария и хотят показать ее смысл? Мы будем эксплицировать ее осмысленность, незаметно для самих себя применяя естественную для нас субстанциальную логику и тем самым искажая логико-смысловую перспективу, не подозревая о том, что логико-смысловой инструментарий можно применять не стихийно и наудачу, как получится, а вполне сознательно, владея им как эффективным инструментом.
Вот еще один пример. Разделение понятий «Самость» (з̱а̄т) и «божественность» (’улӯха, ’улӯхиййа) — важнейший пункт учения Ибн ‘Арабӣ, в котором он отделяет свои построения от всей предшествующей традиции и который позволяет ему выстроить целостную систему взглядов (см. [Там же: 110—124 и др.]). Разведение этих двух категорий можно понять только как разведение логики процессуальности (божественность) и логики субстанциальности (Самость), причем возможность применить вторую отвергается сразу же на том основании, что познание того, «чтó есть» Бог, невозможно, а главное, на этом основании нельзя выстроить понимание связи Бога с миром: этот путь закрыт. Открытым оказывается путь процессуального построения целостного учения о соотношении Бога, мира и человека, которое отправляется от понятия божественности как процессуального, предполагающего связанность с миром и бессмысленного без такой связанности. Отметим, однако, вот что: Самость и божественность — это не разные вещи (если вещь понимать субстанциально), это не два разных Бога и даже не разные «аспекты» Бога. Это — строго одно и то же. Как же могут быть разведены два понятия, имеющие один и тот же референт, причем разведены настолько кардинально? Ответ здесь один: они разведены по принципу то же иначе. То, что соотносится как то же иначе, не является отрицанием одно другого, не относится одно к другому как частный или общий случай, как вариант к инварианту, как аспект или грань рассмотрения. Это — именно одно и то же; поэтому мы имеем право вслед за Ибн ‘Арабӣ сказать, что это — один и тот же Бог, причем в прямом и строгом, арифметическом смысле выражения «один и тот же». Но процессуальная логика выстроена целиком иначе, чем субстанциальная, поэтому мы (также вслед за Ибн ‘Арабӣ) можем сказать, что рассмотрение божественности дает нам абсолютно иной результат, нежели рассмотрение Самости.
Я выдвинул тезис о том, что арабо-мусульманская культура в ее основополагающих моментах построена по процессуальной логике. Конечно, здесь даны только штрихи этого общего портрета, но я думаю, что и их для начала достаточно.
203
Мы говорили о процессуальности основополагающих категорий религиозного мировоззрения (понимание соотношения Бога и мира1, понятие «вера»), этики, филологии (понимание слова; риторика, поэтика); для философии это сделано во многих моих работах. Что касается фикха, этой важнейшей сферы арабо-мусульманской культуры, то, как мне представляется, процессуальность проявляется здесь сполна, поскольку сцепленность двух контрагентов в конкретном действии служит тут отправной точкой, единицей рассмотрения. Мышление факиха отталкивается не от общих принципов или общих правил, «под которые» подводятся реальные случаи — по той же логике и согласно тому же механизму предикации, который обеспечивает попадание монет в одно из отделений шкатулки скупца. Логика мышления факиха — иная, что очень хорошо заметно при рассмотрении споров о возможности ввести в фикхе силлогизм вместо к̣ийа̄са2. Учреждение нормы перво-действователем, Законодателем (Богом или Мухаммадом) и возможность повторения этого действия факихом — вот что лежит в основании фикхового к̣ийа̄са и что совершенно теряется при замене его силлогизмом. Здесь изначальная установка и направленность взгляда — другая: рассматриваемый факихом предмет3 — это не субстанциально-понятый носитель качеств, подводимый под норму (как бумажный кружок окунается в емкость с краской); он рассматривается как претерпевающее для действия: изначально — действия Законодателя, затем, вторично, — действия факиха, осуществляющего к̣ийа̄с либо иной вид иджтихада4.
Третий закон процессуальной логики
Перейдем к третьему закону логики Аристотеля — закону исключенного третьего: «А есть либо Б, либо не-Б». Он означает, что, если субъекту может быть предицирован родовой признак, ему 1) непременно будет предицирован один из видовых
204
и 2) наряду с ним не может быть приписан никакой другой видовой признак (речь именно о виде, а не о подвидах, которых может быть много). Этот закон задает понимание условий предикации для субстанциальной логики:
1) если мы предицируем субъекту признак, который можем считать родовым, то мы одновременно полагаем, что он обладает также одним, и только одним из видовых признаков;
2) если предицируемый признак — видовой, мы полагаем, что субъект обладает также родовым признаком и не обладает признаками, принадлежащими другим видам этого рода.
Для процессуальной логики условия предикации, которые мы получим путем переформулировки на основе принципа то же иначе, будут выглядеть следующим образом (третий закон процессуальной логики):
1) мы может говорить о процессе (об общем, о том, что едино для двух противоположностей и что связывает их), только если можем указать на подчиненные ему (процессу) противоположности (предикаты, занимающие место действующего и претерпевающего).
По этой логике и с использованием этого закона строится понимание многих категорий в исламской мысли.
Возьмем определение слова — центральной категории филологии, как оно устойчиво фигурирует в этой науке: слово — это высказанность, указывающая на смысл. В этом определении «слово» занимает место процесса, т. е. место «указания», будучи тем, что объединяет высказанность и смысл, но объединяет их не как род объединяет свои виды, а как сцепленность рук соединяет руки или как узел стягивает противоположные завязанные в него концы. «Указание» (дала̄ла) в исламской мысли понимается и как «доказательство» (а в фикхе и вероучении — даже в первую очередь как доказательство), что совершенно оправдано, более того, необходимо в свете второго закона процессуальной логики: такое понимание категории дала̄ла попросту следует императиву этого закона.
Возьмем понимание действия (фи‘л) — фундаментальной категории арабо-мусульманского философского мышления, выдвинутое мутазилитами и использованное в других областях мысли. Действие понимается как то, что совершается при наличии воли (ира̄да), с одной стороны, и способности (истит̣а̄‘а), или могущества (к̣удра) — с другой. Воля здесь играет роль внутреннего, скрытого (ба̄т̣ин), роль инициатора и в этом смысле — роль действователя, а противопоставленное (в процессуальном смысле противопоставления) ей могущество — роль явного, внешнего1, тогда как действие имеется всегда, когда воля связана с могуществом, и никогда, если этого не происходит.
205
Возьмем понимание категории х̣ак̣к̣ (букв. «право») — важнейшей категории правового мышления. Х̣ак̣к̣ всегда связывает две стороны некоего отношения, активную и пассивную, то есть действователя и претерпевающее, и потому оказывается их «завязанностью» — той сцепленностью, благодаря которой совершается их взаимодействие. Граница права здесь — это связанность со своим контрагентом, благодаря которому право осуществляется, а не противоположные в отношении сферы моего права и от-граниченные от него права других индивидов или мои обязанности: здесь работает интуиция сцепленности, а не расчерченного замкнутого пространства.
Движение у мутазилитов понимается как процесс, связывающий два положения тела, противоположенные по логике процесса, т. е. взятые как действующее и претерпевающее, как инициирующее и восприемлющее: движение возникает между ними, только если их два, причем предикат «движущийся» приписывается телу только при наличии обоих этих положений и не может быть приписан ему, если мы берем лишь одно из этих двух положений1. Контраст с субстанциальной логикой понимания движения тут очевиден, как очевидно и то, что процессуальное мышление не попадает здесь в ловушки, которые неизбежны для субстанциального мышления — просто в силу другой логической организации. Если в пределах субстанциально-ориентированного мышления решить проблему движения можно лишь ухищрениями диалектической логики, то процессуальное мышление не будет вынуждено, в отличие от субстанциального, покидать пределы строгого логического (формального) мышления, чтобы рассуждать о движении.
Точно так же время (точнее, атом времени, мгновение) у мутазилитов и суфиев понимается процессуально, как то, что служит сцепленностью двух противоположных событий — двух действий абсолютного Действователя, а именно — уничтожения и произведения всех вещей: время оказывается не вместилищем событий, а их объединителем.
Ярким примером процессуального понимания общего, объединяющего понятия служит «Третья вещь» Ибн ‘Арабӣ — центральный скреп универсума, то, что удерживает миропорядок и о чем можно говорить только при наличии противоположенных (по логике процесса) божественности и мира.
Таков аналог первого прочтения закона исключенного третьего в процессуальной логике. Что касается его второго аспекта, то сформулируем его таким образом:
206
2) мы приписываем субъекту предикат, который ставит его на место действующего или претерпевающего (т. е. на место одной из противоположностей), только если другому субъекту приписан противоположный предикат, и при этом они связаны (объединены) чем-то третьим (процессом).
Мы не можем, иными словами, приписать один из противоположных (занимающих место действующего или претерпевающего) предикатов данному субъекту, если другому субъекту не приписан противоположный предикат. Если мы мыслим субстанциально, то обладание родовым и видовым признаками никоим образом не имплицирует ни существования, ни несуществования субъектов, обладающих противоположным видовым признаком. Например, если все камни разделены на два вида, прозрачные и непрозрачные, и если я держу в руках кусок гранита и говорю, что этот камень — непрозрачный, из этого никак не вытекает ни существование, ни несуществование алмазов. Факт их наличия в мире удостоверяется не логикой; логика говорит лишь о том, что прозрачные камни мыслимы и, следовательно, могли бы существовать. В отличие от этого, приписывание одного из двух противоположных предикатов при процессуальном понимании противоположения с необходимостью (именно логической необходимостью) означает, что непременно имеется субъект, которому приписан противоположный предикат, и что эти два субъекта связаны воедино процессом.
Например, если я говорю, что «я — намеревающийся», это с необходимостью влечет высказывание «я — действующий» при том понимании намерения и действия, которое было очерчено выше и которое задано мусульманской этикой. В этих двух высказываниях субъекты оказались имеющими один и тот же референт, в других случаях референты могут быть различны: (не)совпадение референта здесь — случайность. Из этой чисто логической необходимости двух высказываний вытекают все принципиальные моменты нормативного понимания намерения и действия в их непосредственной связи (нет одного без другого, они всегда сопровождают друг друга1), а также аномальные случаи их разрыва.
Скажем, если человек не совершил реальное действие вследствие внешних обстоятельств, о которых заранее не знал, так что он выполнил бы действие под влиянием намерения, если бы не эти внезапные, вне его контроля находящиеся обстоятельства, то он считается совершившим действие: высказывание «я — действующий» остается в отношении него истинным, хотя в реальности он не действует. Действие как будто совершено (за него полагается вознаграждение), иначе говоря, субъекту приписан предикат «действующий». Напротив, если человек действует в реальности, но его действие не вызвано намерением, то нарушается важнейшее логико-смысловое условие: мы имеем претерпевающее без действователя (поскольку здесь намерение играет роль действователя, инициатора, а действие человека — роль претерпевающего, того, что вызвано
207
намерением). Это с точки зрения исламской этики едва ли не самое осуждаемое, напрасное (не вызванное намерением) действие. Императив избегания «напрасных» действий — это логико-смысловой императив, и данная черта исламской этики и исламского мировоззрения определена исключительно этим законом процессуальной логики.
Как видим, «закон исключенного третьего» — случайное название данного закона, верное только в пределах субстанциальной логики. Для процессуальной логики этот закон можно было бы именовать, скажем, законом обязательного наличия противоположности. А еще лучше называть этот закон адекватно — законом условий предикации: такое название верно и для субстанциальной, и для процессуальной логик.
На этот закон (закон обязательного наличия противоположности) активно опирается Ибн ‘Арабӣ, разрабатывая свои положения о «божественности», и в его «Тезисах» (см. [Ибн Араби 2014: 86—261]; конечно, и в других текстах) читатель найдет пространные рассуждения на эту тему. Они могли бы быть очень компактно изложены со ссылкой на этот закон, поскольку все, что Ибн ‘Арабӣ говорит о необходимом сопутствии друг другу мирской и божественной сторон, связанных Третьей вещью, является не более чем его применением.
Процессуальная логика и реальность
Таковы три закона процессуальной логики. Как было сказано выше, это первый из двух аспектов вопроса о том, почему процессуальная логика «не менее логична», нежели субстанциальная, законы которой сформулированы Аристотелем. Второй аспект того же вопроса — отношение к реальности.
Сила логики в том, что она «соответствует» реальности, что она может показать нам, как ведут себя вещи. Но что такое вещь?
С той точки зрения, которая принята здесь, вещь — это то, что может играть роль субъекта в субъект-предикатном высказывании. Субъект «пуст» до того, как мы включили его в контекст такого высказывания. Это значит, что вещь никак не дана нам до того, как мы построили субъект-предикатое высказывание, субъект которого и станет для нас вещью.
Конечно, нам дано многое до и независимо от таких высказываний. Нам даны чувственные ощущения, нам дан мир как полотно красок, звуков, запахов и тому подобных восприятий. Нам дано это восхитительное многообразие всего; но нам не даны вещи. Чтобы получить вещь, чтобы начать работать с ней, мы должны уметь построить субъект-предикатое высказывание; это значит, что мы должны иметь доступ к целостности, поскольку предикация — это способ соотнести субъект с целостностью, то есть придать ему смысл.
Эта смыслополагающая активность и есть наше мышление. Его первый шаг — задание целостности как противоположения-и-объединения на основе определенной интуиции. Мы говорили о двух; я показал, что они восходят к естественным,
208
фундаментальным условиям существования нас как живых существ и, следовательно, обе оправданы. Второй шаг — попытка упорядочить многообразие мира, точнее, многообразие «разбросанных» чувственных ощущений, которые как таковые представляют собой совершенно хаотичное нагромождение данных. Попытка как-то сгруппировать эти данные, скрепить их, привязав к чему-то устойчивому, дает начало полаганию вещи как субъекта.
Итак, мы можем мыслить субстанциально, а можем мыслить процессуально. Эти два способа организовать нашу деятельность смыслополагания равнозначны в том смысле, что каждый из них от начала до конца исполняет необходимые задачи: задает понимание предикационного механизма и той логики, которая формализует рассуждения, построенные на основе таких высказываний.
Какой из этих двух способов «правильный» и как вообще можно понимать «правильность» в свете равнозначности разных и несовместимых способов организовать наше мышление, способов, которые относятся друг к другу как то же иначе, — это вопрос совсем другой и далеко выходящий за рамки задачи эксплицировать интуиции, лежащие в основе субстанциального и процессуального типов мышления, и показать строгую, формальную логику для последнего из них. Эту задачу я считаю здесь выполненной в основных чертах.
 |

|
209
Словосочетание «мышление культуры» принадлежит к числу метафор, которыми часто и охотно пользуются ученые. Она удачно выражает интуитивные представления, вызревавшие в востоковедении в течение последнего времени, и прежде всего среди тех его представителей, кто стремился понять функционирование различных сегментов культуры в их целостности. Такую целостность можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, каждая сфера культуры (например, музыка, изобразительное искусство или филологические науки) включена в целое культуры и неотъемлема от него, а с другой — сама представляет собой некое органичное целое. Целостность в первом смысле оправдывает употребление культурно-специфицирующих предикатов, как когда мы говорим: «арабская музыка» или «арабская филология», относя благодаря предикату «арабский» обе эти сферы к единой целостности «арабской культуры». Целостность во втором смысле позволяет говорить об «арабской музыке» или «арабской филологии»; так мы вычленяем «музыку» и «филологию» из того необозримого поля феноменов «арабской культуры», которые предстают взору арабиста. Представление о наличии целостности второго типа позволяет сравнивать то, что называют «однородными феноменами» разных культур, например арабскую и европейскую музыку или арабскую и европейскую филологию.
Эти представления стали едва ли не тривиальной предпосылкой едва ли не любых исследований феноменов культур — настолько тривиальной, что о ее оправданности чаще всего предпочитают не задумываться. Я не собираюсь здесь всерьез обсуждать такую оправданность. Я лишь намечу отдельными штрихами некоторые контуры этой проблемы, поскольку интересующий меня сюжет прямо связан с нею.
Целостность второго рода (арабская «музыка», или арабская «филология», или арабская «философия») далеко не всегда беспроблемно вычленяется в «арабской культуре». Это обстоятельство хорошо известно специалистам и многократно обсуждалось в их исследованиях. Если, несмотря на это, мы все же пользуемся такими понятиями, то тому есть две причины. Во-первых, это не столько удобство вписывания феноменов другой культуры в привычную нам категориальную сетку, сколько оправданность такой операции очень солидными и очень трудно оспариваемыми философскими основаниями, которые иногда объединяют под общим названием
210
«универсализм» и которые имеют на своей стороне всех классических философов от Платона до Канта (и, конечно, далее). Во-вторых, что куда существеннее, это тот факт, что, хотя в самой арабской культуре не так-то легко найти основания для вычленения единого феномена «музыки», «филологии» или «философии» (и, наоборот, нетрудно набрать весомые аргументы против такого объединения), единство и целостность этих областей все же безусловно присутствуют для самой культуры и чувствуются изучающим ее исследователем. Это, второе обстоятельство и создает то напряжение, которое — при должном его осмыслении — способно стать философской проблемой в подлинном понимании этого слова. Проблемой, открывающей очень серьезные перспективы для движения вперед.
Напряжение, о котором я говорю, создается следующим образом. Целостность второго рода (целостность отдельных сфер культуры) присутствует — но не так, чтобы наше мышление было способно ухватить ее привычными для него и отработанными за более чем два тысячелетия процедурами. Это удобно выразить, прибегнув к метафоре, с которой я начал этот разговор: «культура мыслит» как-то иначе, чем мы бы ожидали; она не спешит согласиться с нашими как будто универсальными приемами ее осмысления — она, например, выстраивает целостность своих сфер-сегментов так, что та как будто отсутствует для нашего понятийного мышления, присутствуя в реальности. Поняв это, мы откроем для себя, что обсуждаемая проблема — это проблема соотношения мышления и реальности, едва ли не самая фундаментальная для философии; но ракурс ее постановки здесь не таков, как во всей истории философии, поэтому я и говорю, что глубокое ее продумывание даст весьма существенные результаты.
В каком же смысле словосочетание «мышление культуры» является метафорой? С одной стороны, здесь присутствует очевидная метафоричность приписывания культуре свойств субъекта, который способен мыслить, ощущать, чувствовать и т. п. Однако этим дело не исчерпывается. Словосочетание «мышление культуры» сообщает нам нечто весьма важное не только о культуре (она способна мыслить: это едва ли не декартовское cogito, обосновывающее бытие субъекта), но и о самом мышлении. Ведь под «мышлением культуры» понимают не мышление-вообще некой культуры-вообще, а мышление-данной-культуры, например «мышление арабской культуры». Вот почему словосочетание «мышление культуры» указывает на специфичность мышления, с которым сталкивается ученый, изучающий, скажем, арабскую культуру.
В этой констатации как будто нет ничего необычного. По меньшей мере со времен Аристотеля философия умеет очень четко различать универсальный и специфический объект изучения, отделяя, таким образом, законы, верные всегда и везде, от законов, сфера действия которых ограничена. Скажем, законы построения метафоры будут действовать в поэзии любой культуры, тогда как законы рифмы зависят от конкретного языка: первое, с точки зрения Аристотеля, культурно-независимо, второе культурно-специфично. В близкие к нам эпохи это различение было осмыслено как различение наук о природе и наук о культуре: первые одинаковы по сути
211
в любой культуре (конечно, если это — науки, формулирующие истинные законы), вторые могут раскрывать закономерности, специфичные только для данной культуры.
Такую ли специфичность подразумевает выражение «мышление культуры»? Едва ли. Ведь если особенность «мышления культуры» проявляется в том, что культура организует целостность своих сфер-сегментов так, что их единство присутствует объективно, для самой культуры, но не схватывается нашим мышлением, значит, речь идет о специфичности логики мышления культуры. Логики в непосредственном смысле этого слова — как такой организации нашего мышления, которая позволяет говорить о его соответствии объективной реальности. Ведь целостности, обозначаемые терминами «музыка» или «философия», должны были бы выстраиваться по объективным законам, независимым от культурной специфики. Так, математические законы гармонии одинаковы для любой культуры, тогда как культурная специфика может проявляться в выборе музыкальных инструментов и т. п.; однако «музыка» как сфера культуры определяется скорее на основе понятия звуковой гармонии, нежели исходя из особенностей строения музыкальных инструментов или используемых при их изготовлении материалов. Философия имеет дело с предельными основаниями бытия и мышления, и сфера философии должна была бы вычленяться в общем и целом одинаково в разных культурах (при условии, естественно, что она там вообще присутствует), независимо от специфики понимания отдельных категорий, которая может быть определена конкретно-культурными особенностями: мы выделяем философию как философию на основании первого, а не второго. Если изучаемая культура, например арабская, устойчиво и последовательно демонстрирует невозможность осуществить эту как будто a priori правильную стратегию, значит, дело касается не больше не меньше как универсальности универсальных законов, открываемых нашим мышлением и организующих его. Второе, как представляется, даже важнее первого: речь ведь о фундаментальном устройстве мышления, о том, каким оно обязано быть, чтобы иметь шанс открыть объективные законы реальности. Речь именно о логике в ее классическом, аристотелевском понимании.
Еще раз повторю, что приведенные рассуждения — только набросок, в котором опущены многие существенные звенья рассуждения и аргументация. Тем не менее он показывает, каковы общие масштабы проблемы, об одном из проявлений которой я буду говорить здесь. Речь пойдет о том, какой может быть фундаментальная архитектоника «мышления арабской культуры».
Для решения этой задачи мне представляется удобным выбрать сферу этического рассуждения в арабо-мусульманской культуре. Не потому, что этика в сравнении с другими сферами культуры особо пригодна для вычленения логики рассуждения: коль скоро речь идет о логике в непосредственном смысле, никакая сфера культуры не имеет каких-то принципиальных преимуществ в смысле ее демонстрации. Дело в другом. Этические рассуждения в арабо-мусульманской культуре составляют, если можно так выразиться, очень репрезентативную сферу
212
(в чем, конечно, арабо-мусульманская культура вовсе не исключение), входя неотъемлемой составной частью в сознание носителей этой культуры. Эти рассуждения, иначе говоря, не являются элитарными или маргинальными ни в каком смысле. Закономерности организации мышления, которые мы обнаружим здесь, ни в коей мере не могут быть сочтены случайными.
Такова объективная сторона дела. Выбор этики в качестве объекта исследования продиктован и субъективными обстоятельствами — тем фактом, что я имею возможность опираться на систематизацию категориального аппарата арабо-мусульманской этики, определение ее предмета и основной проблематики, которая была предпринята мной при написании серии статей по мусульманской этике для [Этика 2001] и соответствующего раздела коллективной монографии [Смирнов 2015]). К этим публикациям я отсылаю заинтересованного читателя за более подробным содержательным рассмотрением обсуждаемых здесь понятий, поскольку мое внимание будет, как уже говорилось, сосредоточено на логике их построения. Желание опереться на собственные разработки — не проявление исследовательских амбиций. Тот, кто знаком с литературой по мусульманской этике, знает, насколько разные и даже несовместимые представления о том, что это такое, можно встретить у разных авторов. Я не буду, естественно, вдаваться здесь в эту сторону вопроса: ее достаточное освещение можно найти в названных публикациях. Я пользуюсь своим изложением мусульманской этики как материалом, достаточно систематизированным и подготовленным для логического анализа.
Итак, речь у нас пойдет не о конкретном содержании арабо-мусульманской этики как набора нормативных учений, а о ее логическом устроении. Точнее, о логике выстраивания основополагающих категорий, составляющих костяк этических учений, о том, как эти категории соотносятся между собой и как изначально полагаемый способ их соотнесения определяет разворачивание теории. Предметом нашего внимания будут не заимствованные античные этические теории, а те учения, которые стали результатом собственной, независимой от античной мудрости, разработки нормативной этики на основании богатейшего комплекса представлений, который не только составлял «плоть» морали в арабо-мусульманской культуре, но и был текстуально зафиксирован в Коране и, что более важно для этики, в сунне.
И еще одно уточнение. Говоря о логике, я имею в виду не тот ее вид, который эта дисциплина приняла в последнее столетие. Речь скорее об этапе ее становления, который можно именовать аристотелевским. Именно поэтому в заголовок статьи вынесено словосочетание «логическая интуиция». Речь пойдет о том, каково фундаментальное, лежащее в основании любой теоретической рефлексии представление о тождестве и различии. И не просто о них, но о том, благодаря чему мы можем говорить, что тождество или различие двух вещей имеет место. Тождество и различие служат едва ли не главным цементирующим материалом нашего мышления, поскольку вряд ли можно говорить о чем-либо, не устанавливая равенство или неравенство вещей. Мы будем говорить о том, схватывает ли арабо-мусульманская культура тождество и различие благодаря той же интуиции,
213
которая привычна нам, нашей культуре. Сделав попытку помыслить тождество и различие привычным нам способом (т. е. оставаясь в пределах нашей логической интуиции), мы проверим, можно ли таким образом описать отношение вещи к самой себе и к другой вещи, как эти отношения понимаются арабо-мусульманской культурой.
Намерение и действие: нормативная связанность
Альфой и омегой этических построений в арабо-мусульманской культуре служит непосредственная связанность намерения и действия. Это обстоятельство настолько важно, что нижеследующий анализ не будет ошибкой рассматривать как попытку раскрыть смысл этой «непосредственной связанности». Непосредственная связанность намерения и действия определяет смысловое наполнение этих категорий и их взаимодействие в теоретическом рассуждении.
Суммируем в краткой форме обширный материал, содержащийся в классической арабо-мусульманской этической и околоэтической литературе (фикх, доктрина, адаб и т. п.), отмечая те моменты, которые важны для понимания логики взаимодействия категорий «намерение» и «действие».
Ближайшим образом связанность намерения и действия раскрывается в следующей формуле: намерение всегда переходит в действие, а действие всегда бывает вызвано намерением.
Эта формулировка — нормативная: так должно быть, но так не обязательно бывает. Несоблюдение нормативного соотношения между намерением и действием может быть вызвано как субъективной, так и объективной причинами. Эти два случая неравнозначны по своим последствиям.
Субъективная причина несоблюдения правильного соотношения между намерением и действием касается намерения. Она выражается в общем и целом в том, что намерение не вызывает действие. С точки зрения арабо-мусульманской этики это означает, что намерение не является правильным (то есть твердым, вызывающим действие), а значит, и не является «намерением». Иначе говоря, намерение, не влекущее действие, — противоречие в определении. Кроме того, намерение не просто служит импульсом, дающим начало действию. Оно должно сопровождать действие на всем протяжении его исполнения, не исчезая и не ослабевая до его завершения. Наконец, действие, не вызванное намерением, не рассматривается как осмысленное, классифицируется как «пустое» и «напрасное», считается недостойным человека (и, конечно же, Бога) и изымается из сферы этической оценки.
Объективная причина нарушения нормативного соотношения между намерением и действием касается действия. Она заключается в неожиданном возникновении внешних, не зависящих от человека и заранее ему неизвестных обстоятельств непреодолимого характера, блокирующих выполнение действия. Эти два момента — неожиданность возникновения и непреодолимость внешних обстоятельств —
214
принципиальны, и при отсутствии одной из этих характеристик объективная причина перестает считаться таковой. В противоположность субъективной, объективная причина полностью извинима. Это означает, что действие, не выполненное по объективной причине (т. е. такое, для совершения которого имелось твердое намерение, причем это намерение безусловно перешло бы в действие, не возникни данная объективная причина его неисполнения), засчитывается как совершенное и заслуживает соответствующего воздаяния, будь то положительное или отрицательное.
Отметим, что положение о необходомой связанности намерения и действия очень устойчиво проводится не только в этической, но и правовой арабо-мусульманской мысли (например, такие действия, как купля-продажа, браки и разводы и т. п., не могут не сопровождаться намерением).
Так обстоит дело с нормативной связанностью намерения и действия. Эта связанность — непосредственная, причем непосредственность столь же нормативна, как и сама связанность.
Если связанность намерения и действия заключается в переходе первого во второе, то непосредственность этой связанности состоит в том, что такой переход не должен иметь, если можно так выразиться, временнóго зазора. Иными словами, намерение должно влечь действие сразу (откладываемое «на потом» не будет считаться действием, вызванным данным намерением), и, напротив, намерением для совершенного действия является только то, которое повлекло его напрямую, сразу и непосредственно. Нарушение непосредственности связи намерения и действия разрушает эту их связь, а значит, и сами намерение и действие.
Таково краткое и как нельзя более скупое изложение соотношения между намерением и действием; за его обоснованием и демонстрацией действенности изложенных положений в построении этических учений в арабо-мусульманской мысли я вынужден отослать читателя к названным публикациям, поскольку здесь излагать этот материал нет никакой возможности.
Могут ли «намерение» и «действие» быть взяты «как таковые»?
Попробуем теперь представить, какой могла бы быть логическая интуиция, обосновывающая такое поведение категорий «намерение» и «действие». Столь осторожно-гипотетическую форму выражения (могла бы быть…) я выбираю не только для того, чтобы выразить приличествующие академическому стилю сомнения, но прежде всего потому, что мне придется говорить о вещах не самых очевидных и подчас, возможно, несколько неожиданных.
Я начал с того, что в основании этического рассуждения в арабо-мусульманской культуре лежит непосредственная связанность намерения и действия. Очевидно, что, если вести речь о логической интуиции, обосновывающей этическое рассуждение, эта непосредственная связанность и должна быть увидена как ее предмет. Далее, логика имеет дело не просто с отношениями, но с отношениями
215
между понятиями. «Непосредственная связанность», о которой мы говорим, — это отношение между «намерением» и «действием». Поэтому нас будет интересовать интуитивное понимание логики соотношения между намерением и действием, обосновывающее описанное выше содержательное наполнение этих категорий.
Ключевым для открытия этой логической интуиции я считаю положение, которое уже должно было быть навеяно читателю (хотя бы в виде смутного ощущения) предшествовавшим изложением сути категорий «намерение» и «действие». Это — невозможность схватить «намерение» либо «действие» как таковые, сами по себе.
Рассмотрение вещи «как таковой», «самой по себе», в очищенности от всего преходящего, врéменного, непостоянного и неустойчивого — царская дорога философии к схватыванию сущности вещи. Зная сущность вещи, мы знаем, чтó она такое и как себя ведет в отношении других вещей; напротив, не зная сущности вещи, мы не можем знать этого, во всяком случае, по истине, в полном объеме. Закон аристотелевской логики «А есть А», помимо интерпретаций, относящихся, если можно так выразиться, к дисциплине мышления (понятие должно употребляться в одном и том же смысле на протяжении рассуждения) и направленных против софизмов, имеет и более глубокий смысл: вещь пребывает как она сама, вещь пребывает как сущность, вещь пребывает неизменной. Говоря о логической интуиции, я имею в виду подобное ощущение, постепенно вызревающее в культуре и доводимое в философии до теоретической осознанности.
Такова ли логическая интуиция арабо-мусульманской культуры? Может ли она быть выражена в подобной формально-логической форме? Если может, будет ли она выражена так же? И если нет, будет ли это означать отрицание выработанного в античности понимания вещи, ее сущности и логики ее схватывания? Вот вопросы, которые мы должны задать себе.
Можем ли мы говорить о «“намерении” как таковом», находясь в русле арабо-мусульманской этической мысли и строя рассуждение в соответствии с ее интуициями? Вряд ли. Ведь намерение остается «намерением», только переходя в «действие». Это значит, что «быть самим собой», «пребывать», «иметь сущность», «сохранять свою природу» и т. п. (читатель может продолжить список выражений, обозначающих схватывание истины вещи) здесь, на этом поле рассуждения, можно каким-то существенно иным образом, нежели на поле западной мысли. Обратим внимание на выделенные курсивом слова: оставаться собой (т. е. пребывать) можно, не застывая в неизменности (как застывает идея в вечности), — для арабо-мусульманской мысли самость намерения таким образом как раз утрачивается, — а переходя в нечто другое. Это «нечто другое» в данном случае — «действие»; каковы в общем случае характеристики этого «другого», во что необходимо перейти, чтобы остаться самим собой, — об этом мы не можем говорить здесь, хотя понятно, что такой сохраняющий суть и самость вещи переход не может быть простым превращением во что угодно.
То же относится и к «действию». Действие не является «действием», если оно — не результат перехода намерения. Действие не может, иначе говоря, быть
216
«“действием” самим по себе», «“действием” как таковым», если это «само по себе» и «как таковое» достигается так, как на поле западной мысли: очищенностью от всего внешнего, от всякого изменения. На поле арабо-мусульманской мысли и «намерение», и «действие» перестают быть таковыми, если лишаются возможности перехода, т. е. если мыслятся в соответствии с фундаментальной интуицией достижения истинности в западной традиции. Я беру здесь «намерение» и «действие» в кавычки, считая их понятиями. Вопрос о том, могут ли — или даже должны ли — эти кавычки быть сняты, т. е. можно ли (или даже следует ли) говорить о реальных намерении и действии то же, что мы говорим о понятиях «намерение» и «действие»: что они различны на поле западной и арабо-мусульманской культур, — это вопрос особый.
Интерпретация «намерения» и «действия» как причины и следствия
Я рассматриваю переход как фундаментальную интуицию «схватывания» вещи в арабо-мусульманской культуре; эта интуиция имеет и логические импликации1. В рассматриваемом случае речь идет о переходе намерения в действие. Нет ли возможности гораздо проще интерпретировать изложенный материал, избежав разговора о фундаментальных различиях логических интуиций и объяснив дело в рамках привычных представлений? Почему не сказать, что намерение служит причиной действия (или одной из причин)? Зачем искать другую логику там, где вопрос решается столь просто, в пределах привычной логики? Ведь если намерение — причина действия, понятно, что оно переходит в действие: в таком случае переход перестает быть отражением какой-то иной логической интуиции, нежели привычная нам.
Посмотрим, что даст нам такая интерпретация. Пусть намерение — причина действия. В понятие причины обычно не включают временнýю непосредственность связи: причина может подействовать и спустя промежуток времени. Далее, причина не обязательно должна сопровождать свое следствие до его завершения. Считая намерение причиной действия, мы обязаны сделать эти две оговорки, добавив их к «нормальному» понятию причины. Такое добавление — ad hoc, что теоретически всегда звучит не слишком убедительно; но не будем пока обращать на это внимание. Далее, действие никогда не бывает без намерения — это в нашей интерпретации означает, что следствие не бывает без причины. Такой тезис очень понятен; правда, в арабо-мусульманской мысли речь идет о том, что действие является неправильным, если оно не вызвано намерением, что оно не считается действием, если не сопровождается намерением, — а не о том, что его вовсе нет: действие в техническом смысле как раз совершается. В нашей причинно-следственной интерпретации это означает, что следствие без причины имеется, но оно
217
неправильное; правда, «как таковые», «в пределах самих себя» следствие без причины и следствие, вызванное причиной, не различаются (технически, в пределах действия-как-такового, действие без намерения и действие с намерением неразличимы). Конечно, и такое добавление ad hoc можно принять из желания сохранить удобную интерпретацию, хотя оно делает понятия причины и следствия совсем уж странными. Но согласимся и с этим и пойдем дальше. Действие, заблокированное объективными обстоятельствами, засчитывается как совершенное, если намерение было правильным, сообщает нам арабо-мусульманская мысль. В нашей интерпретации это будет означать, что причина вызвала свое следствие, хотя в силу неких внешних обстоятельств это следствие в бытии не появилось. Считать причину действующей, несмотря на отсутствие ее следствия, — это уже не модификация понятия ad hoc, это противоречие в определении. Раз так, намерение и действие не могут считаться причиной и следствием.
Таков аргумент, принимающий во внимание суть понятий. Его в принципе достаточно, хотя есть и другие. Арабо-мусульманская мысль, насколько я знаю, избегает называть намерение причиной действия. Такие вещи не бывают случайными, если учесть, насколько скрупулезны были арабо-мусульманские теоретики в использовании терминологии. Далее, предложенное мной объяснение соотношения намерения и действия имеет ту же структуру, что характерна для других категориальных пар, которые никак не могут быть сочтены причиной и следствием (о них я не могу говорить здесь за недостатком места). Поэтому логическое объяснение — не только правильное, в отличие от причинно-следственного (о чем нам сообщает разобранный аргумент), оно еще и обладает большей объяснительной силой.
Прежде чем двигаться дальше, не могу не заметить, что рассмотренная причинно-следственная интерпретация — не что иное, как микромодель процесса «взаимопонимания культур». Если в таком «взаимопонимании» логика соотношения базовых концептов подменяется, результатом будет — как у нас — по меньшей мере сильнейшее искажение понятий за счет добавлений ad hoc, а в пределе, при последовательном продумывании, — приведение их к абсурду. Именно в этом глубинная причина известного ощущения «странности» или «непонятности» чужой культуры. Чего может надеяться достичь пресловутый «диалог культур», если его участники искренне следуют подобной стратегии понимания другого?
Отношение к себе и к другому: «быть» и отрицание «не-»
Вернемся к логической интуиции, лежащей в основании рассуждения о намерении-и-действии в арабо-мусульманской культуре. Я выражаю ее в понятии перехода. Насколько эта интуиция совместима с той, которая обосновывает западную мысль и которая находит формальное отражение в законе аристотелевской логики «А есть А»?
218
Говоря о переходе категории «намерение» в категорию «действие», переходе, который только и сохраняет самость как «намерения», так и «действия», мы замечаем, что поведение этих категорий таково, что не позволяет нам применить к ним закон «А есть А». Переходя в «действие», «намерение» противится тому, чтобы быть схваченным этой формулой. Будучи тем, во что «намерение» перешло, «действие» ускользает от этого закона. Как будто сама «смысловая субстанция» (выражение, конечно, очень метафоричное) этих понятий такова, что они не позволяют данной формуле быть примененной к себе.
Обозначим «намерение» через Н, а «действие» через Д. Мы не можем сказать, что «Н есть Н», поскольку «намерение» сохраняет свою самость, не оставаясь собой, но переходя в «действие». Точно так же мы не можем сказать, что «Д есть Д», поскольку «действие» является таковым только как результат перехода «намерения», а не само по себе. Формула «А есть А» не позволяет учесть этот принципиальный момент, а потому она в принципе непригодна для выражения логической интуиции перехода.
Означает ли «непригодность» неверность или неприменимость? В первом случае (закон сформулирован неверно) мы стремились бы модифицировать закон «А есть А» так, чтобы он отразил логическую интуицию, о которой идет речь, т. е. стремились бы дать правильную формулировку этого закона. Во втором случае приходится признать, что никакая модификация, как бы широко это слово ни понималось, не поможет: эта логическая интуиция должна быть схвачена как-то принципиально иначе. В первом случае нам следовало бы пойти по пути, по которому пошло развитие логики в XX в., породившее многообразие систем формальных логик, каждой из которых может соответствовать своя онтология. Во втором случае дело обстоит таким образом, что одна и та же онтология может быть «схвачена» (отражена, выражена) разными логиками.
Итак, нельзя сказать, что «Н есть Н». Можем ли мы утверждать, что «Н не есть Н»? Это было бы странным: имея в виду этические рассуждения в арабо-мусульманской культуре, вряд ли допустимо согласиться с тем, что «“намерение” не есть “намерение”». Скажем ли мы, что «Н есть не-Н»? Тоже вряд ли, даже если под «не-Н» понимать «действие»: высказывание «“намерение” есть “действие”» неверно, поскольку рассматриваемые этические рассуждения в арабо-мусульманской культуре были бы просто бессмысленными при таком отождествлении.
То же самое относится и к «действию»: неверными будут утверждения «Д не есть Д» или «Д есть не-Д».
Так обстоит дело с самоотождествлением (или самонеотождествлением): оказывается, что ни один из возможных вариантов формализации отношения само[не] тождества с помощью связки «есть» и отрицания «не-» не годится для выражения рассматриваемой интуиции арабо-мусульманской мысли. Вот почему я говорю, что представляющая эту интуицию формальная логика, если бы она была создана, оказалась бы параллельной традиционной формальной логике. Мы столкнулись с первым проявлением этого положения: закон тождества не действует не только
219
в классическом Аристотелевом виде, но и ни в какой из возможных его модификаций-отрицаний. Дело обстоит так, что «намерение» не может «быть “намерением”», вместе с тем оно не может «не быть “намерением”» и «быть “не-намерением”»; и то же относится к «действию».
Рассмотрев отношение понятия к самому себе, перейдем к отношению понятия к другому понятию. (Заметим, что отношение к самому себе и к другому — это в наиболее обобщенной форме все возможные отношения понятия.)
Наш универсум базовых категорий этического рассуждения состоит всего из двух элементов — «намерения» и «действия». Вкупе они, безусловно, создают смысловое единство, служа достаточным основанием для теорий, выжимка которых была предложена читателю. Внутри этого универсума «намерение» и «действие», конечно же, отличны друг от друга и не являются взаимозаменимыми. Они, таким образом, являются взаимно другими. Поэтому, рассматривая отношение «намерения» к «действию» и наоборот, мы будем рассматривать отношение понятия к другому.
Я буду исходить из того, что для описания отношения к другому, как и для описания отношения к себе, мы располагаем, помимо самого понятия, связкой «быть» и отрицанием «не-». Мы не смогли описать отношение «намерения» и «действия» к самим себе с помощью этих средств; посмотрим, будет ли их достаточно для описания отношения к другому.
Логически возможны следующие варианты отношения Н к Д: «Н есть Д», «Н не есть Д», «Н есть не-Д». Выражают ли они понимание категорий «намерение» и «действие» в арабо-мусульманской этической мысли? Отражают ли эти формулы логическую интуицию арабо-мусульманской культуры?
Мы не можем сказать, что «“намерение” есть “действие”», поскольку так понимаемое отождествление лишает смысла рассуждения, о логике которых идет речь, ибо те невозможны без разведения намерения и действия: их смысл — в переходе намерения в действие, а такого перехода попросту нет, если намерение и действие тождественны.
Согласившись с тем, что «“намерение” не есть “действие”», мы устраняем возможность перехода намерения в действие, разрушая их непосредственную связанность, без которой намерение перестает быть намерением, а действие — действием. Мы видели, что намерение является намерением, только переходя в действие, а такой переход невозможен при «Н не есть Д».
Если верно, что «“намерение” есть “не-действие”», переход намерения в действие также невозможен: нельзя «быть не-Д» и вместе с тем «переходить-в-Д».
Для отношения Д к Н верно все, что было сказано для отношения Н к Д.
Таким образом, ни один из трех вариантов отношения понятия к другому, возможных в пределах нашего универсума базовых категорий этического рассуждения и выражающих с помощью связки «быть» и отрицания «не-» тождественность другому, тождественность отрицанию-другого (т. е. тождественность дополнению к другому) и не-тождественность другому, не может быть признан в качестве отражающего логическую интуицию рассматриваемых рассуждений.
220
Три закона традиционной логики и связка «намерение-действие»
Рассмотрим теперь, применимы ли законы тождества, противоречия и исключенного третьего для выражения соотношения намерения и действия в рассматриваемых рассуждениях.
Мы уже видели, что нельзя признать верным, что «Н есть Н» или что «Д есть Д». Поэтому закон тождества «А есть А» не может быть признан в качестве выражающего логическую интуицию на рассматриваемом поле рассуждений.
Закон противоречия «А не есть не-А» может рассматриваться как выражающий отношение либо понятий, отражающих признаки вещей, либо самих вещей. Далее, «А» и «не-А» можно понимать либо как дополняющие друг друга до некоего рода «В», либо как неоднородные. В пределах наших допущений мы не знаем, образуют «намерение» и «действие» общий род или нет, поэтому нам следует рассмотреть все возможные варианты.
Предположим, что мы имеем дело с понятиями, отражающими признаки однородных вещей. Например, если «разумное» и «не-разумное» составляют общий род «живое», то согласно закону противоречия верно, что «“разумное” не есть “не-разумное”». При этом подразумевается, что «“живое” есть либо “разумное”, либо “не-разумное”», т. е. что верен закон исключенного третьего. При этом, безусловно, «“разумное” есть “разумное”» и «“не-разумное” есть “не-разумное”», т. е. закон тождества также справедлив. Три логических закона тесно связаны по своей сути.
Можно ли так помыслить «намерение» и «действие»; можно ли применить к этим понятиям закон противоречия? Можем ли мы сказать, что «“намерение” не есть “не-намерение”», а «“действие” не есть “не-действие”»? На первый взгляд эти утверждения кажутся очевидными, если не тривиальными. Вещь или атрибут вещи не является своей противоположностью, — иначе, похоже, и не может быть, если мы хотим сохранить строгость мышления, результаты которого соответствовали бы положению дел в мире.
Но что является противоположностью вещи? Классическая арабо-мусульманская мысль имеет в своем распоряжении средство для автоматического, если можно так выразиться, образования противоположности любому понятию, будь оно выражено глаголом или отглагольным существительным либо именем, не связанным с глаголом. Это соответственно ‘адам и ла̄, которые на русский язык удобно переводить с помощью частицы «не-», выражающей абсолютное отрицание: «не-А» означает абсолютное отрицание «А».
Если «не-намерение» или «не-действие» понимать именно так — как понятия, полученные путем абсолютного отрицания, закон противоречия будет для них справедлив и мы сможем сказать, что «“намерение” не есть “не-намерение”», а «“действие” не есть “не-действие”».
Однако что означают «не-намерение» и «не-действие», полученные путем абсолютного отрицания? Арабо-мусульманская мысль отвечает на этот вопрос так: они означают абсолютное отсутствие. «Не-намерение» как абсолютное отсутствие
221
противоположно «намерению» как некоему позитивному присутствию, как чему-то наличному; то же верно и для действия. При этом в качестве абсолютного отрицания «не-намерение» и «не-действие» означают одно и то же: это полное отсутствие чего-либо.
Таким образом, хотя формально закон противоречия в данном случае применим, он теряет тот смысл, который имеет у Аристотеля. Закон противоречия указывает на строгость дихотомического деления рода: одна «часть» рода никак не является другой его «частью», коль скоро мы говорим о них именно как о видах рода, а не как об однородных. Так, «разумное» никак не является «не-разумным», пока речь о них идет как о видах, хотя оба — «живые», т. е. принадлежат одному роду. Только за счет такой однородности закон противоречия сочетается с законом исключенного третьего.
Однако понятие и его абсолютное отрицание, как они понимаются в арабо-мусульманской мысли, не образуют общий род. Это ясно хотя бы из того, что абсолютные отрицания всех понятий равны между собой, поскольку обозначают одно и то же — абсолютное отсутствие. Можно сказать и так: такое абсолютное отсутствие не терпит рядом с собой никакого положительного признака.
Есть ли возможность, оставаясь на поле арабо-мусульманской мысли, получить для «намерения» отрицание, имеющее какое-то позитивное содержание, а не обозначающее только отсутствие? Безусловно, есть. Пары взаимно-противоположных понятий функционируют в арабо-мусульманской мысли, и «намерение» и «действие» можно без всяких натяжек считать одной из них. Наполненную позитивным содержанием противоположность какому-то понятию арабо-мусульманская мысль предпочитает обозначать термином, не имеющим морфологически выраженного отрицания.
Будут ли пары понятий — «намерение» и его отрицание, а также «действие» и его отрицание — подчиняться закону противоречия при таком понимании отрицания, когда мы можем записать по определению, что «“действие” есть “не-намерение”», а «“намерение” есть “не-действие”», где «не-намерение» и «не-действие» понимаются не как абсолютные отрицания, а как иные обозначения для действия в отношении намерения и намерения в отношении действия соответственно? Иначе говоря, будут ли «намерение» и «действие» соотноситься наподобие «разумного» и «не-разумного»?
Верно, что «намерение» и «действие» составляют некое единство — но это единство иное, нежели единство рода «живое», образуемое видами «разумного» и «не-разумного». Рассуждая в терминах аристотелевской логики, мы говорим, что вещь, понимаемая как объект внешнего мира, не может одновременно принадлежать двум видам одного рода, будучи разумной и не-разумной сразу. В этом смысл закона противоречия, а потому и понятия «разумное» и «не-разумное» подчиняются этому закону. Но намерение и действие не являются взаимно исключающими, и они не служат несовместимыми атрибутами вещи, когда бы вещь могла иметь либо атрибут «намерение», либо атрибут «действие». Поэтому, если мы считаем
222
«действие» иным обозначением для «не-намерения», мы не можем сказать, что «“намерение” не есть “не-намерение”». То же верно для «не-действия» как иного обозначения для «намерения».
Таким образом, если мы считаем «намерение» и «действие» противоположными атрибутами (наподобие «разумного» и «не-разумного»), то закон противоречия оказывается неприменимым для описания их соотношения.
Пусть мы имеем понятия, которые отражают признаки вещей и не принадлежат одному роду, например «разумное» и «красное». В таком случае оба атрибута могут совмещаться в одной вещи, а могут и не совмещаться, причем их совмещение или несовмещение будет случайным и не будет иметь никакого логического основания. Таково ли соотношение между реальными намерением и действием? Конечно, нет, поскольку их совмещение не может быть признано случайным, а несовмещение имеет принципиальные последствия для понимания их самих. Если же речь идет о понятиях «намерение» и «действие», то их нельзя считать не принадлежащими одному роду1, поскольку их отношение друг к другу как понятий не является безразличным, как у понятий «разумное» и «красное».
Предположим теперь, что «намерение» и «действие» отражают не признаки вещей, однородные или неоднородные (как в рассмотренных двух примерах), а единичные вещи, которые также можно либо объединять, либо не объединять в род. Конечно, представление о естественности или неестественности объединения в род не будет поддержано современной логикой и выдает скорее аристотелианское настроение. Однако именно в этом ключе я и выстраиваю здесь свое рассуждение, сообразуясь с поставленной задачей. С этой точки зрения вряд ли можно отрицать, что мы скорее сблизим карандаш и ручку, нежели, например, подъемный кран и ластик. Предположим, что это в самом деле разные случаи и рассмотрим их как представляющие нам однородные и неоднородные вещи, чтобы увидеть, насколько применим в этих случаях закон противоречия и могут ли намерение и действие быть сочтены подобными однородными либо неоднородными вещами.
Если у нас имеются карандаш и ручка, то, согласно закону противоречия, «ручка не есть не-ручка». Очевидно, что «карандаш не есть ручка», однако, чтобы привести это утверждение к названному виду, нам требуется истинность другого утверждения, а именно «карандаш есть не-ручка»: тогда «карандаш не есть ручка» будет тождественно утверждению «ручка не есть не-ручка», истинному в силу закона противоречия. Если карандаш и ручка объединяются в некий род, например «предметы для письма», тогда из того, что «карандаш не есть ручка», следует, что «карандаш есть не-ручка», где «не-ручка» — вид, дополняющий вид «ручка» до рода «предметы для письма». Итак, если мы считаем естественным образовать подобный род «предметы для письма» (следуя, повторяю, аристотелианской установке), то закон противоречия согласуется с очевидным утверждением «карандаш не есть ручка».
223
Можно ли таким образом помыслить взаимное отношение «намерения» и «действия»? Нетрудно видеть, что закон противоречия верен лишь потому, что мы считаем очевидным утверждение «карандаш не есть ручка». Однако «намерение» и «действие», в отличие от «карандаша» и «ручки», не обнаруживают такую очевидность: как мы видели, нельзя утверждать, что «“намерение” не есть “действие”». Поэтому, если «намерение» и «действие» не соотносятся наподобие однородных «карандаша» и «ручки», закон противоречия не может быть признан выражающим их соотношение.
В случае вещей, которые не образуют общий род, например подъемного крана и ластика, можно только говорить, что «подъемный кран не есть ластик», но вряд ли можно сказать, что «подъемный кран есть не-ластик»: чтобы перейти от первого утверждения ко второму, требуется общий для крана и ластика род. Предположим, что мы создадим такой, по слову Аристотеля, «неистинный» род, причем в него будут входить только подъемные краны и ластики. Неважно, как мы его назовем; важно, что вещь, входящая в данный род «Р», т. е. обладающая родовым признаком «р», будет непременно либо краном, либо ластиком (в самом деле, нельзя быть подъемным краном и ластиком сразу, так что закон исключенного третьего вполне согласуется с очевидностью): образование такого рода не нарушает законов логики, оно лишь, с аристотелианской точки зрения, не сообщает о кранах и ластиках ничего существенного, поскольку род «Р» — не истинный, т. е. не образованный на основании существенных признаков, а мнимый, опирающийся на случайный либо и вовсе придуманный признак. Однако такой род «Р» нужен нам только для того, чтобы перейти от очевидного утверждения «подъемный кран не есть ластик» к утверждению «подъемный кран есть не-ластик». Теперь, имея эти два утверждения, мы получаем «не-ластик не есть ластик»: закон противоречия справедлив и в данном случае.
Можем ли мы соотнести «намерение» и «действие» таким образом, считая их неоднородными «по природе», но выстраивая для них мнимый общий род? Нет, поскольку, как и в прежнем случае (аналогия намерения и действия карандашу и ручке), для этого необходимо, что выполнялось «“намерение” не есть “действие”», а это неверно. Следовательно, и в данном случае закон противоречия не описывает соотношение намерения и действия.
Таким образом, закон противоречия «А не есть не-А» не выражает соотношение «намерения» и «действия».
Нам остается разобрать применимость закона исключенного третьего «А есть либо В, либо не-В» для описания соотношения «намерения» и «действия». Что этот закон мог бы быть применим, следует из того, что «намерение» и «действие» не тождественны, это не одно и то же, а значит, они могли бы мыслиться в качестве противоположностей. В таком случае мы могли бы говорить, к примеру, что «человек либо намеревается, либо действует», и если бы такое утверждение было допустимо, это бы свидетельствовало о релевантности закона исключенного третьего для описания соотношения «намерения» и «действия». Однако мы уже знаем, что такое
224
утверждение невозможно: нельзя либо намереваться, либо действовать, поскольку только переход намерения в действие, исключающий такое «либо», сохраняет намерение намерением, а действие действием. Кроме того, закон исключенного третьего предполагает, что «В» и «не-В» образуют род, истинный либо мнимый (в смысле Аристотеля), а это условие, как мы видели, не выполняется для «намерения» и «действия». В силу этого закон исключенного третьего также нельзя признать отражающим логическую интуицию, обосновывающую соотношение «намерения» и «действия» в этических рассуждениях в арабо-мусульманской культуре.
«Намерение» и «действие» как пересечение двух множеств
Остановлюсь на интерпретации, которая могла бы претендовать на то, чтобы устранить возникшие трудности. Для этического рассуждения в арабо-мусульманской культуре неверно, что «человек либо намеревается, либо действует»; но она, похоже, признает истинным, что «человек и намеревается, и действует», причем такое намерение, непосредственно переходящее в действие, эта культура и считает намерением, а такое действие, сопровождаемое вызывающим его намерением, — действием. Нельзя ли в таком случае мыслить соотношение намерения и действия по аналогии с пересечением двух множеств, где общая область и будет «намерением-и-действием», а оставшиеся за их пределами соответственно — только «намерением» и только «действием»? Не будет ли таким образом адекватно описан переход намерения в действие, поскольку область пересечения двух множеств и будет областью такого перехода? В родовидовой интерпретации это бы означало, что «намерение-переходящее-в-действие» составляет вид рода «намерение» и одновременно вид рода «действие».
Эту интерпретацию также приходится отвергнуть, поскольку для области пересечения «намерения» и «действия» должно быть верно, что «“намерение” есть “действие”», а это, как мы видели, не так. Далее, область множества «намерение», оставшаяся за пределами его пересечения с множеством «действие», должна была бы оставаться «намерением», — а это не так согласно интуициям арабо-мусульманской культуры, поскольку намерение, не перешедшее в действие (а это и есть область множества «намерение» за пределами его пересечения с «действием»), не является намерением; то же верно и для действия. Таким образом, намерение и действие не могут соотноситься так, что их можно было бы мыслить как пересекающиеся множества (или, в родо-видовой интерпретации, как взаимные подвиды).
Неадекватность С-логики
для интерпретации «намерения» и «действия»
Итак, мы выяснили, что невозможно установить самотождественность или самонетождественность намерения и действия, как они понимаются в этических рассуждениях в арабо-мусульманской культуре, с помощью связки «быть»
225
и дихотомического отрицания «нет». Далее, мы видели, что с помощью этих средств нельзя также установить тождественность намерения действию и наоборот, равно как нетождественность намерения действию и наоборот. Мы также видели, что законы тождества, противоречия и исключенного третьего не могут описать отношения между «намерением» и «действием».
Причина этого — в том, что «смысловая субстанция» намерения и действия в арабо-мусульманской культуре теоретического рассуждения не устроена родовидовым образом. И дело не в том, что «намерение» и «действие» наделены значением таким образом, что не образуют правильный род, а значит, образуют родовидовые связи каким-то неправильным образом; дело в том, что они вовсе не образуют их, ни правильных, ни неправильных. Именно этим объясняется неприменимость связки «быть» и дихотомического отрицания «не-» для выражения само[не]тождественности или взаимо[не]совпадения, это же лежит в основании невозможности применить три закона традиционной логики для описания соотношения «намерения» и «действия».
Конечно, рассмотренный пример этических рассуждений, каким бы репрезентативным он ни был, — лишь частный случай в пределах всей арабо-мусульманской культуры. Вместе с тем он очень хорошо согласуется с другими феноменами, характеризующими мышление этой культуры, часть которых была исследована, другую же, гораздо бóльшую часть еще предстоит исследовать. Здесь было подробно показано, что соотношение намерения и действия не может быть осмыслено в пространстве С-логики. Для адекватного осмысления этих категорий необходима П-логика, разговор о которой был начат выше. Этот разговор нам предстоит продолжить.
 |
4.3 Логика субстанции и логика процесса: тавх̣ӣд и проблема божественных атрибутов* |

|
226
С-логика и П-логика
В каком ключе следует понимать выражения «логика субстанции» и «логика процесса»? Речь идет, с одной стороны, о логике мышления, которая задана представлением о субстанции как о руководящей, центральной категории, позволяющей собрать рассыпанность мира (например, представить в концептуальной системности разрозненные теоретические представления о мире или данные наших чувств); а с другой стороны — о логике, для которой аналогичную роль играет категория процесса.
Уже здесь необходимо пояснение. То, что я называю словом «процесс», в арабском имеет своим эквивалентом фи‘л (словарный перевод — «действие»). Именно это я подразумеваю, когда говорю «процесс» или «процессуальность»: всегда в таких случаях имеется в виду ориентация на фи‘л и весь тот комплекс установок, представлений и развернутых теоретических концепций, который связан с этой категорией. Арабское слово фи‘л относится к грамматической категории, которая именуется мас̣дар. Масдар — это имя, а именно — имя действия, и по-русски, наверное, более адекватным переводом послужило бы слово «действ[ован]ие», способное передать процессуальность, присутствующую в арабском оригинале.
Что же такое логика субстанции, взятая как логика мышления? Если сказать очень просто, то это такой взгляд на мир, который пытается всё многообразие красок и качеств, вообще всё разнообразие мира, всю его рассыпанность собрать вокруг неких центров, неких стержней, поняв это многообразие как многообразие предикатов и, далее, истолковав предикаты как признаки, или качества, их носителей — субстанций. Вот в чем смысл субстанциальности: он заключается в том, что всё многообразие мира мы понимаем как рассыпанное качественное многообразие, а затем собираем, группируем, систематизируем его вокруг неких носителей этих качеств. Такие носители качеств мы и называем субстанциями. Философская разработка этого взгляда хорошо известна: это прежде всего метафизика Аристотеля, впрочем, целиком укорененная в том типе трансцендирования, который открыт Платоном. На основе этого взгляда может быть разработана и формальная логика. Аристотелевская логика — это логика, созданная для работы с субстанциями,
227
а не с чем-то другим. Будем для краткости называть субстанциально-ориентированную логику «С-логика».
Что такое процессуальный тип мышления, процессуальная логика? Здесь мы встречаемся с таким взглядом на мир, который отталкивается от понимания мира как многообразия действий (или, точнее, действ[ован]ий — аф‘а̄л). Действия не могут не быть привязаны к действователю (фа̄‘ил); это значит, что процессуально-ориентированный взгляд видит мир не просто как многообразие действий, но как многообразие действий-действователя. Наконец, понятие действия бессмысленно, если мы не упомянем третий элемент — маф‘ӯл, «претерпевающее».
Парадигма фи‘л/фа̄‘ил-маф‘ӯл «действие, действователь, претерпевающее» — это базовая парадигма для этого взгляда. Она, как известно, внедрена в арабский язык в качестве языковой парадигмы; она же служит «стартовой площадкой» для теоретического мышления. Процессуальный взгляд предполагает и свою логику, не менее строгую, чем аристотелевская. Эту логику, ориентированную на процессуальность, будем называть для краткости «П-логика». Ее базовые положения рассмотрены выше (см. «Сознание как смыслополагание. Культура и мышление» и «Шкатулка скупца, или Почему мы верим в законы логики», особенно с. 189—208). «Лакмусовой бумажкой» (не единственной, но едва ли не главной), отличающей процессуальный взгляд от субстанциального, служит признание независимого, собственного онтологического статуса процесса, несводимого к онтологическим статусам действователя и претерпевающего и отличного от них. Такое признание невозможно для субстанциально-ориентированного взгляда, но оно принципиально для процессуально-ориентированного мышления.
Подчеркну, что речь идет именно о закономерностях, т. е. о чем-то сугубо объективном, что может быть проверено и подтверждено (или опровергнуто) любым исследователем. Речь не об интерпретациях, более или менее вероятных и предполагающих в любом случае некий изначальный личный выбор позиции, ракурса и перспективы — выбор, не обладающий обязывающим характером ни для кого, кроме сделавшего его человека. Здесь — иначе: речь идет об объективных, просчитываемых и одинаково открытых для всех закономерностях. А значит, речь идет о науке.
Выше (см. с. 60—68) на конкретном примере было показано, что субъект-предикатная конструкция, выраженная словесно, допускает два истолкования, а именно — истолкования в С-логике и П-логике. Там же высказана гипотеза о том, что данное положение верно для любой субъект-предикатной конструкции. Разрыв между словом и мышлением, точнее, отрыв мышления от словесной фиксации его результатов заметен в этой точке наиболее ярко. Арифметически одно предложение всегда может быть понято в двух логиках, ему всегда может быть дано С-истолкование и П-истолкование. Словесно выраженное предложение маскирует эту возможность, скрывает ее. Двое могут обмениваться такими предложениями, не замечая, что каждый из них мыслит в иной логике, нежели его собеседник.
228
Смысл субъект-предикатной конструкции, объективно заложенный в ней, может быть столь же объективно показан. Наука о смысле (я называю ее «логика смысла») берет начало здесь, в этой точке. Это — точка субъект-предикатной связанности, которая раскрывается в двух логиках, разворачиваясь в С- и П-предложения. Такое раскрытие — процедура, т. е. последовательность шагов, не зависящих от конкретного содержания.
Здесь я хочу сделать шаг вперед, от единичной субъект-предикатной конструкции (т. е. одного предложения) к тексту. Мне представляется очевидным, что можно говорить о трех уровнях языковой реальности, т. е. о трех уровнях словесного схватывания смысла. Это (1) слово, (2) предложение и (3) текст. Только второй и третий уровни — уровни речи, т. е. уровни схватывания связности. Связность по преимуществу — это субъект-предикатная связность, поэтому на уровне одного предложения работать с ней легче всего. Слово беременно связностью, однако связность, извлекаемая из слова в ходе его логико-смыслового анализа, так или иначе заимствована у предложения, поскольку всегда предполагает включенность слова в предложение. А вот текст, т. е. некая совокупность предложений, обладает своим смыслом. Как предложение, так и текст могут быть истолкованы в С-логике и П-логике. Вопрос в том, как можно перейти от закономерно раскрываемой возможности С- и П-истолкований любого предложения к уровню текста, т. е. к уровню целостного, обобщающего смысла некоего набора предложений (а не отдельного предложения), показав возможность С- и П-истолкований не просто любого отдельного предложения, но всего текста. Здесь будет дан предварительный ответ на этот вопрос.
Тавх̣ӣд: субстанциальный и процессуальный аспекты
Интерпретации в С-логике и П-логике могут быть в принципе даны любому положению; в этом смысле они представляют собой универсальное методологическое средство анализа. Положение, именуемое тавх̣ӣд ’алла̄х (часто сокращаемое до первого слова), — утверждение единственности Бога — служит краеугольным камнем исламского вероучения и в целом — того мировоззрения, которое характерно для арабо-мусульманской культуры классической эпохи; конечно, это мировоззрение распространяет свою власть и за ее пределы, но нас здесь будет интересовать именно данный период. Я предполагаю поговорить о том, какие основные смыслы несет положение о тавх̣ӣд и каковы результаты его последовательного, философского продумывания в двух перспективах: в перспективе С-логики, разрабатывавшейся в арабо-мусульманской культуре на основе воспринятого греческого наследия, и в перспективе П-логики, которая скорее характерна для собственного мышления этой культуры, не ориентированного на заимствованные образцы.
Самый очевидный, непосредственно считываемый смысл тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х — это утверждение о том, что Бог — единственное подлинное божество, что ни на небе, ни на земле нет божеств, которые в самом деле были бы
229
божествами. Притязание на божественность какого-либо объекта поклонения, кроме Бога, является с этой точки зрения заведомо ложным. Этот смысл зафиксирован в первой половине исламской формулы исповедания веры (шаха̄да): «Нет бога, кроме Бога…» — и может считаться действительно общеисламским, т. е. таким, который признается всеми мусульманами без изъятия (речь именно о признании, а не о толковании), и таким, что его нарушение или непризнание выводит мусульманина за пределы ислама, в том числе — влечет меры правового характера, а для немусульманина — не позволяет принять ислам. С точки зрения фикха шаха̄да является непременной обязанностью (ва̄джиб, фард̣) мусульманина, а с точки зрения вероучения — первым из пяти столпов ислама; для немусульман троекратное произнесение формулы исповедания веры означает принятие ислама1, поэтому такой статус тезиса о тавх̣ӣд ’алла̄х в названном его понимании не должен вызывать удивления.
Этот смысл положения о тавх̣ӣд ’алла̄х легко вычитывается из многих аятов Корана, и их можно было бы цитировать почти без конца в подтверждение этого. То же касается и сунны: хадисы, затрагивающие вопросы отношения между человеком и Богом, почти неизменно фиксируют мысль о том, что только Бог — подлинное божество, тогда как все прочие предметы поклонения — божества неподлинные, а учения об их божественности ложны в самом своем основании.
Что, однако, означает подлинная божественность Бога и неподлинность всех других предметов поклонения, претендующих или претендовавших в глазах людей на божественность? Если утверждение единственности Бога — это утверждение его подлинной божественности, то что означает подлинность (и, соответственно, неподлинность) божественности?
Мне представляется, что ведущий мотив аятов и хадисов, имеющих отношение к этому вопросу, — это представление о том, что подлинность божества — это его действенность. Неподлинные божества лишь претендуют на то, что они управляют судьбами людей в этом мире и помогают им на том свете, в действительности же эти притязания тают как туман, когда обнажается суть вещей. А обнажается она, почти в прямом смысле (вспомним коранический мотив «обнажения голени»4), с наибольшей силой в промежуток между концом сроков творения и Судом. Тогда становится очевидным и несомненным, что неистинные божества не способны гарантировать своим приверженцам счастье: их последователи лишаются действенного покровительства и (согласно одному из вариантов развития событий) навсегда гибнут в геенне, куда уводят их ложные божества. Только подлинный Бог вершит
230
Суд, определяя райскую или адскую участь людей, и только он может простить прегрешения людей и даровать благую, райскую судьбу вместо тяжкого, адского удела.
В этой связи интересно рассуждение, которое находим в 21-й суре, где пространный пассаж о единственности Бога на небе и на земле завершается словами: «Если бы на них обоих были какие-либо боги кроме Бога, то они разрушились бы» (21:22, С.); под «ними», которые разрушились бы, здесь однозначно имеются в виду земля и небо. Это утверждение и по форме, и по существу является доказательством от обратного; при этом интересно отметить, что наличие двух (или более) действователей разрушает не самих этих действователей, а предмет приложения их сил. Основания этого доказательства, его неэксплицированные посылки вскрывает аш-Шавка̄нӣ1. Ссылаясь на мнение ал-Фарра̄’2 в вопросе о филологическом толковании одного из арабских языковых оборотов, употребленных в этом аяте, аш-Шавка̄нӣ продолжает:
«Разрушение» (фаса̄д) обосновано тем, что из существования другого божества наряду с Богом вытекает, что каждый из двоих имеет полновластную способность (к̣а̄дир) распоряжаться и действовать, из чего проистекает соперничество (тана̄зу‘) и раздор (их̱тила̄ф), по причине коих и наступает разрушение [Шавкани: 402].
Представление о полноте могущества Действователя, о том, что вся действенность принадлежит исключительно ему, Богу, стало общим местом исламского вероучения еще в классические времена. От этого положения и отталкивается аш-Шавка̄нӣ, строя свой силлогизм. Пусть у нас будут два действователя, обладающие неограниченной способностью совершать действия. Они будут иметь разную волю (это не сказано явно, но вытекает из различия действователей), а значит, неизбежно разрушат то, на что направлена их воля. Ведь различие воль и полновластность действия означают, что каждый из действователей будет делать что пожелает, в результате чего наступит хаос. Однако на земле и на небе порядок, а не хаос. Следовательно, предположение неверно, а значит, действователь — один.
У этого рассуждения есть и еще одна сторона — толкование принципа тавх̣ӣд как тавх̣ӣд аф‘а̄л, «утверждение единственности действий», то есть возведение их к единственному Действователю. Подобное понимание принципа тавх̣ӣд — магистральное в исламской мысли, сближающее даже такие противоборствующие ее направления, как традиционное вероучение и суфизм. Ведь суфий, которому открывается его «потаенное» (сирр), видит, что первое лицо, то есть лицо
231
действователя, поистине принадлежит Богу, а не ему; неспособность провести ясную и однозначную линию, разделяющую божественное «я» и «я» человека, иными словами, видение Бога в качестве агента своих действий, ввергает его в «растерянность» (х̣айра), поскольку стирает ориентиры, которые люди обычно воспринимают как сами собой разумеющиеся. Конечно, такой взгляд — не то же самое, что тезис зрелого ашаритского вероучения о том, что все действия людей (и даже их желания и воля) творятся Богом. Однако очевидно, что общим для этих двух, в каком-то смысле крайних, направлений исламской мысли служит представление о тавх̣ӣд аф‘а̄л, разделяет же их лишь толкование, а не признание этого положения, задающего магистраль развития мысли.
Итак, положение о единственности божества, тавх̣ӣд ’алла̄х, имеет своей оборотной стороной и даже своим обоснованием положение о единственности подлинного Действователя — того, кому должны быть приписаны все действия, результаты которых мы находим в мире, а точнее, находим как мир и которые определят нашу участь после конца времен, на том свете. Но это положение имеет, помимо процессуального, ориентированного на рассмотрения действия, и другой аспект, ориентированный на рассмотрение «самости» (з̱а̄т). Его можно — правда, с существенными оговорками — считать задающим субстанциальную перспективу рассуждения1.
Эта перспектива в контексте исламской вероучительной мысли оказывается значительно беднее, нежели процессуальная, ориентированная на аспект действий. Является ли это следствием общей ориентации арабской мысли на рассмотрение именно действенного (процессуального) аспекта действительности, или скорее вероучительные установки ислама определяют преобладание этого, действенного аспекта над субстанциальным? Конечно, однозначный ответ на такой вопрос дать непросто, и все же я склоняюсь к первому варианту. Вероучение отнюдь не представлено в готовом виде в тексте Корана и сунны, оно — плод серьезных теоретических усилий; текст Корана и сунны — вовсе не идейный монолит, картина мысли набросана в них очень разноречивыми мазками, и теоретик имеет весьма широкий выбор направления, по которому может направить свою систематизирующую мысль. Вряд ли текст Корана, тем более текст сунны, однозначно предопределил, что именно превратилось в преобладающий мотив вероучения; скорее в этом проявилась глубинная парадигматика мысли, характерная для этой культуры. Наконец,
232
представители любых, крайне разнообразных направлений вероучительной и философской мысли, развившихся в лоне ислама как в П-перспективе, так и в С-перспективе, с одинаковым успехом могут ссылаться на Коран и сунну для подкрепления своих взглядов авторитетом текста, так что мысль и логика ее построения здесь явно имеют определяющий характер в отношении текста.
Так или иначе, мы обнаруживаем, что исламское вероучение не ориентирует верующего на то, чтобы задумываться над вопросом что есть Бог. Парадигматическим в этом отношении можно считать хадис «не задумывайтесь о самом (з̱а̄т) Боге, думайте о дарах Бога»1. Эта формула определяет общее настроение исламской вероучительной мысли: рассматривать мир со всеми его «самостями» (з̱ава̄т) и «действиями» (аф‘а̄л), в том числе, конечно же, и действиями человека, как результат божественного действия, как претерпевающее для творческой активности божества. Именно таким оказывается путь к осознанию Бога в исламском вероучении: он строится не как ответ на вопрос «что это?», а как рассуждение вокруг проблемы «чье это действие?». Мир, безусловно, приводит к Богу; но приводит не через рассмотрение его субстанции или его природы как таковой, а благодаря взгляду на него как на претерпевающую сторону божественного действия, необходимо связанную с его активной стороной, т. е. с самим Действователем — Богом.
Эта необходимая связанность и логическая неразрывность Бога как действователя, с одной стороны, и, с другой стороны, мира как претерпевающего для этого действия, составляющая в своем чистом виде логическое условие любого, не только божественного, действия, в данном случае дополняется особым представлением о субстанциальной разведенности действователя и претерпевающего. Следует, конечно, уточнить, о чем идет речь. Действователь и претерпевающее всегда разведены как самости, и это — также необходимое логическое условие любого действия, поскольку действие связывает действователя с претерпевающим, и оно не может происходить, если ему нечего связывать, т. е. если действователь и претерпевающее не разведены. В процессуальной парадигме это условие понимается жестко и исключает диалектические отождествления в одном лице действователя, действия и претерпевающего (каким было, например, отождествление «разумеющего», «разумеемого» и «разумения» в Первом Разуме у фала̄сифа). Но эта самостная разведенность, выступающая как логическое условие в процессуальной парадигме, вовсе не влечет с необходимостью субстанциальной различенности2: самостно различные действователь и претерпевающее могут иметь разные субстанции, а могут — одинаковые. Это так в общем случае3; но когда речь идет о действователе-Боге
233
и претерпевающем-мире, мы однозначно фиксируем то, что можно назвать полной субстанциальной, не только самостной, разведенностью Бога и мира, действователя и претерпевающего.
Настойчивый коранический мотив несопоставимости Бога и человека, Бога и мира, Бога и других (неистинных) божеств — в общем, Бога и всего прочего, мотив, который уверенно прослеживается и в сунне, при его продумывании дает рождение отчетливо формулируемому тезису об отсутствии «общности» (иштира̄к) между этими двумя сторонами: между Богом и всем прочим. Несопоставимость Бога и человека, Бога и всего остального — это прежде всего несопоставимость их сил действия. Как змеи волхвов оказываются побеждены и поглощены змеем Моисея (см. Коран 26:43—45), — притом что и то и другое выходит за пределы обычного, природного хода вещей, — так и действенность любых божеств, не говоря уже о человеке или материальном мире, обращается в ничто в сопоставлении с силой действия Бога. Коран настойчиво подчеркивает, что действия Бога обеспечивают буквально весь ход вещей: именно его сила действия стоит за выпадением дождя, ростом растений, произрастанием скота и т. д. Эта тенденция различить, развести Бога, с одной стороны, и все прочее — с другой, очень заметна в Коране: с Богом как действователем несопоставима действенность любого, кто претендует на то, чтобы действовать наряду с Богом; любая другая сила действия оказывается иллюзией, рассыпается в прах, стоит ей встретиться с действенностью Бога. Так понятая несопоставимость и так проведенное представление о ней очень недалеки от тезиса о том, что все действия творятся Богом, который будет принят и разработан в ашаризме.
Итак, отсутствие общности между Богом и всем прочим — это прежде всего несопоставимость силы действия Бога и всего остального. Эта несопоставимость такова, что действенность всего прочего обращается в ничто в сравнении с действенностью Бога — так любое число обнуляется в сравнении с бесконечностью. После этого вполне логичным и ожидаемым будет заключение о том, что мы находим Бога везде вокруг себя и даже в самих себе (вспомним кораническое
234
«Мы к нему (человеку. — А. С.) ближе его шейной жилы»1) — но в том смысле, что находим его действие, отнюдь не его самость (з̱а̄т). Самость Бога несомненна для нас, поскольку без нее не было бы ничего (ведь всё — это результат действий этой самости); но какова она — мы сказать не можем. Субстанциально Бог и мир несопоставимы до абсолютной, полной противоположности, общность-иштира̄к исключена между ними не только с точки зрения действенного аспекта, но и с точки зрения субстанциальной. Не случайно, видимо, термин ширк, который обычно передают как «многобожие», имеет тот же корень, что иштира̄к: многобожие — это не только и даже не столько множественность богов, сколько — в первую очередь — общность Бога и чего-либо другого.
Путешествуя по территории смыслов важнейшей категории исламского вероучения — категории тавх̣ӣд, мы описали своеобразный круг и вернулись в исходную точку. Отрицание общности между Богом и всем прочим и означает тавх̣ӣд ’алла̄х — утверждение единственности Бога. Но теперь мы знаем, какие векторы рассуждения предполагает этот тезис, сам по себе весьма простой и незамысловатый. Каждый из этих векторов заслуживает отдельного, подробного рассмотрения. Однако наша задача здесь не в этом; наша задача — проследить дальнейшую судьбу этих представлений в теоретической мысли.
Божественные имена и атрибуты: подход филологов
Положение о «прекрасных именах Бога» (асма̄’ ’алла̄х ал-х̣усна̄) — не менее общепринятое и не менее несомненное в контексте исламского вероучения, чем положение о тавх̣ӣд. Более того, это — не некий «отдельный», особый пункт вероучения; положение о божественных именах трудно представить в отрыве от положения о единобожии (тавх̣ӣд ’алла̄х), и наоборот — положение о тавх̣ӣд ’алла̄х плотно спаяно с положением о божественных именах.
Два термина — «имя» (исм) и «атрибут» (с̣ифа, букв. «описание») — употребляются в арабо-мусульманской мысли (взятой как целое, не только в вероучении), когда речь идет о такой предикации, где субъектом выступает Бог. Интересно отметить, что исламская мысль, исследовавшая текст Корана с целью досконально прояснить, что именно он сообщает о Боге, подходила к этому вопросу именно так, максимально широко, фактически понимая предикат так же, как он понимается современными лингвистами, и, далее, видя в таких предикатах прямую или непрямую фиксацию имен и атрибутов Бога. Как представляется, логика движения мысли была именно такой: исследовать случаи предикации и на этой основе понять, как описан Бог в его собственной речи — в Коране2.
235
Возьмем в качестве примера отрывок из обширного труда выдающегося филолога ал-Азхарӣ (895—980) «Тахз̱ӣб ал-луг̣а». Название этой работы можно передать как «Правильное употребление слов», поскольку термин луг̣а означает не только «язык, говор», но и «словарный состав, лексика». Работа, таким образом, ориентирована на установление правильного значения и правильной этимологии слов арабского языка, а о ее весе и авторитете говорит тот факт, что позже Ибн Манз̣ӯр в изобилии использовал ее при составлении своего «Лиса̄н ал-‘араб»1. Таким образом, это — работа лексикографа, и именно в данном качестве она интересна для нас здесь; мы можем считать ее характерным примером того, как арабская филология подходит к вопросу определения имен и атрибутов Бога.
Ал-Лайс̱2 говорил: [слово] ал-х̣ана̄н [означает] «милость» (рах̣ма), а [соответствующее] действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун. Он говорил: Бог — Милостивый (х̣анна̄н), [то есть] Щедрый (манна̄н), Милосердный (рах̣ӣм) к Своим рабам. К этому — речение Всевышнего: «И х̣ана̄н» — то есть милость (рах̣ма) — «от Нас»3.
Я же скажу: [слово] ал-х̣анна̄н — одно из имен Всевышнего Бога, образованное по модели фа‘‘а̄л4. Некоторые наши светила отрицали здесь удвоение [харфа «н»], поскольку относили это слово к ал-х̣анӣн, а ал-х̣анӣн никак не может быть одним из атрибутов (с̣ифа̄т) Бога5. Однако смысл [слова] ал-х̣анна̄н — это ар-рах̣ӣм («Милостивый». — А. С.), от ал-х̣ана̄н, то есть ар-рах̣ма (милость. — А. С.) [Азхари, 3: 286].
Обратим внимание сперва на первое предложение отрывка, в завершающей части которого сказано, что «действие (фи‘л) — это ат-тах̣аннун». Термин фи‘л является именем и означает буквально «действие» (или, если захотим передать
236
процессуальность, «действ[ован]ие»), а взятый в качестве грамматического термина — «глагол». Ал-Азхарӣ — лексикограф, и можно было бы ожидать, что он употребляет слово фи‘л в терминологическом значении, как «глагол». Классов слов в арабском языке — три: имена, глаголы и частицы (х̣урӯф). Уже упомянутые слова х̣ана̄н и рах̣ма — это имена, и в свете интеллектуальных привычек арабских языковедов было бы вполне оправданным ожидать, что после имен ал-Азхарӣ упомянет глагольную форму с тем же корнем, что у имени х̣ана̄н, чтобы дать исчерпывающее перечисление классов слов с корнем х̣-н-н (частицы-х̣урӯф в данном случае в счет не идут). Однако, сказав, что сейчас он упомянет фи‘л, ал-Азхарӣ дает не глагольную форму, а масдар (тах̣аннун), то есть имя действия, притом что масдар относится к категории имен, а не глаголов.
Это высвечивает ту роль, которую играет масдар в арабском языковом и филологическом мышлении, а также масштаб понимания термина фи‘л, который, обозначая в грамматике «глагол» (т. е. слово, указывающее на время), на уровне мысли понимается не только как действие (что прямо соответствовало бы грамматическому значению и предполагаемому грамматикой указанию на время, поскольку действие протекает во времени и бывает «совершаемым», «совершенным» или таким, которое только «будет совершено»), но и как действ[ован]ие, т. е. как процесс, не указывающий на время — как не указывает на время тах̣аннун, будучи масдаром (и как не указывает на время имя вообще).
Тах̣аннун трудно перевести одним словом (подошло бы «умилостивление», если бы не его искусственность), лучше всего сказать «проявление-милости». «Проявление-милости» совершается вне времени; это процесс, а не действие. Таким образом, слово фи‘л обозначает и действие, которое совершается во времени и не может быть из него изъято, чему соответствует понимание термина фи‘л в грамматике как глагола, и процесс (= действ[ован]ие), который совершается вне времени, чему в грамматике соответствует категория масдара. В мышлении — и это демонстрирует нам цитата из ал-Лайс̱а, приводимая ал-Азхарӣ, — совершается дрейф от первого ко второму пониманию.
Субстанция и процесс: трансцендентальные условия
В таком дрейфе самом по себе нет ничего специфического для арабского мышления. Ведь самым обычным делом и для нас будет сказать «действие качения», «действие сверления» и т. п., когда мы употребляем имена процессов (качение, сверление) для обозначения действий. Таким образом, и для нас такая смена регистра происходит в языке совершенно естественно. Мы, как будто не задумываясь, отбрасываем временнýю составляющую действия, тем самым превращая его в процесс. За этими языковыми формами стоят, пусть и неявно, наши представления о том, что действие оборачивается процессом, что, говоря о действии, можно абстрагироваться от временнóй среды, которая, казалось бы, составляет плоть и кровь действия. Но ведь точно так же, переместившись в субстанциально-
237
ориентированную среду мышления, мы говорим о субстанции, абстрагируясь от материи, от вещества — от того, что, казалось бы, составляет плоть и кровь субстанциально-понятых вещей. И там и тут, и в процессуальной перспективе, и в субстанциальной перспективе, происходит прорыв очевидности, понятой, так сказать, осязаемо, просто и доступно для любого: ведь всякий может увидеть и пощупать вещество или совершить какое-нибудь действие. Для любого человека с улицы очевидна эта овеществленность и эта овременённость, — но мысль может быть выстроена только тогда, когда эта слишком явная очевидность прорвана, когда осуществлен выход за нее — то, что мы можем назвать трансценденцией.
Такая трансценденция совершается в нашей речи — причем так, что мы и не задумываемся о ней. Мы видели, как это происходит в случае действия и процесса, когда мы прорываем временнýю пелену, окутывающую действие, и поднимаемся к процессу, сохраняющему действенность, но утрачивающему временнóй характер. Но ведь по сути то же самое имеет место и тогда, когда мы употребляем имена. В этом случае, правда, нет смены языковых форм, как то случается при замене глагола именем, когда мы говорим не «действие сверлю» или хотя бы «действие сверлить», а «действие сверления», отождествляя действие не с глаголом, а с именем. Однако сам факт употребления имен уже предполагает трансценденцию, уже требует — в качестве своего условия — прорыва горизонта материальности и выхода за его пределы — туда, где вещество, материя (в осязаемом смысле этого слова) теряет всю свою власть, уступая ее «идее», «субстанции» или иным категориям, освобождающим вещь от власти материальности.
Материальность связывают прежде всего с пространством: материя — это возможность арифметического умножения одной и той же вещи, одной и той же субстанции (сущности). Такое умножение — именно пространственное. Единственная субстанция «стол» многократно умножится в пространстве, давая неограниченное количество столов, воплощенных в веществе и доступных органам чувств. Конечно, умножение можно представить и во времени, взяв одну и ту же единичную вещь-субстанцию и наблюдая ее копии, сменяющие друг друга с течением времени. Один и тот же стол на протяжении любого отрезка времени будет меняться материально, вещественно, из нового и блестящего превращаясь в потрепанного временем и являя следы своего использования: стол остается тем же самым не потому, что сохраняется его вещество (мы можем заменить одну его ножку или даже все, а затем и столешницу), а потому, что это — та же самая субстанция, та же самая сущность. И все же временнóе изменение — не конституирующее для материальности; главным для нее служит пространственность. Материальную вещь можно легко изъять из временнóго потока, сфотографировав либо нарисовав ее или же проделав то же самое мысленно. Мгновенное схватывание лишает материальную вещь временнóго измерения, но вовсе не лишает ее материальности. Материальность остается, зафиксированная пространственно, как вневременной разброс: снимок пустого читального зала библиотеки со множеством столов не дает никакого временнóго изменения, но тем не менее дает материальное умножение одной и той же субстанции.
238
Время же, напротив, конституирует действие: действие в отношении процесса играет ту же роль, что материя в отношении субстанции. Здесь обратное соотношение, нежели в предыдущем примере. Мы можем умножить действие пространственно, представив себе его совершение множеством действователей. Например, на улице множество людей идут и множество машин едут: действие «идти» и «ехать» умножено здесь в пространстве благодаря умножению действователей. И все же не пространство конституирует действие, а именно время. На фотографии (если она сделана с маленькой выдержкой) ни люди, ни машины не будут совершать действий, они застынут в неподвижности: мы будем иметь субстанции, но не действователей и не действия. Специальным приемом длинной выдержки фотографы имитируют действия, как будто помещая их в мгновенный снимок. На таком снимке мы не увидим машин-субстанций, заметим только прочерченные красные и белые полосы хвостовых огней и фар: так субстанция делает вид, что исчезает, как будто уступая место действию. Именно как будто: чтобы увидеть действие на такой фотографии, надо мысленно восстановить последовательность событий, намек на которые дан нам как красные и белые полосы; надо как будто увидеть движущиеся машины, восстановив их движение по тем красным и белым полосам, что даны нам.
Чтобы отобразить действие напрямую, не метафорично и не намеком, нам нужна лента, а не картинка, кино, а не фотография1. Если субстанция умножается в пространстве во множестве копий, то процесс умножается во времени, давая временнýю множественность своих совершений. Процесс «хождение» или «езда» может совершаться в любое из мгновений ленты времени, давая действие, неограниченно умножающее вневременной процесс, как пространство умножает субстанцию.
Пространство и время, материя и действие, субстанция и процесс демонстрируют удивительный параллелизм, транспонирующий одно в другое: пространство во время, материю в действие, субстанцию в процесс и наоборот.
Этот параллелизм распространяется и на понимание вечности. Вечность снимает время; но снимает в соответствии с тем, как время понимается в субстанциальной и процессуальной перспективах, то есть в соответствии с его функциями. Вечность субстанций (то, что можно назвать сразу-вечностью) — как мгновенный снимок, на котором все действия имеются нераздельно и неслиянно, как красные и белые линии автомобильных огней на ночной фотографии города, сделанной с большой выдержкой, дают нам сразу все движения машин, в нашем мире растянутые во времени. Вечность процессов — как бесконечная лента, заведомо
239
превышающая любой временной отрезок. Это — «растянутая» вечность, стоящая «выше» времени не потому, что прошлое и будущее в ней как бы одновременны (так что эта одно-временность того, что для нас разно-временно, уничтожает время, состоящее как раз в рядоположенности, но не просто стирает его, а переводит в новое качество, сворачивая эту рядоположенность в сразу-положенность), а потому, что они «получаются» из нее, порождаются ею как некие ее «слепки», или «клоны». В вечности субстанций все действия уже совершены, потому что они как будто имеются все сразу; в вечности процессов никакие действия еще не совершены, потому что они бесконечно предполагаются бесконечной растянутостью процессов. Ни в вечности субстанций, ни в вечности процессов никаких действий нет, они сняты — но сняты по-разному. Ведь действия — это изменения per se (то, что Аристотель понимал под движением). Изменение несовместимо с вечностью; вечность — это отсутствие изменений.
Глагольная и именная предикация
Вернемся к нашей цитате. Как видим, еще ал-Лайс̱ утверждает, что Бог — «Милостивый» (х̣анна̄н), на том основании, что в Коране сказано ва х̣ана̄нан мин ладунна̄ «и милость от Нас». Эти слова — часть аята «Мы даровали ему (Иоанну. — А. С.) мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»1. Предицируемое Богу «дарование милости (х̣ана̄н)» означает, с точки зрения ал-Лайс̱а, что Бог — Милостивый (х̣анна̄н). Эту логику и этот вывод не оспаривает ал-Азхарӣ; более того, он подтверждает ее, употребляя и термин «имя», и термин «атрибут». Стоит отметить, что слово х̣анна̄н в Коране не употребляется; более того, процитированный аят — единственный случай употребления не только слова х̣ана̄н, но и вообще слов с корнем х̣-н-н в Коране2. Значит, для ал-Лайс̱а — и, видимо, для ал-Азхарӣ, который приводит его слова, не возражая им, — процитированный аят — достаточное основание для того, чтобы установить имя Бога х̣анна̄н «Милостивый» на основании рассмотренного случая предикации милости-х̣ана̄н.
Этот случай — отнюдь не одиночный, скорее это — довольно типичный пример того, как предикативные конструкции текста Корана, в которых субъектом выступает Бог, анализируются на предмет определения на их основе имен Бога и его атрибутов. Это важно для нас: в филологии, причем на ранних ее стадиях, понятие «имя Бога» оказывается тесно сопряжено с вопросом о предикации. Конечно, для филологов не стоит проблема логической оправданности таких предикативных конструкций: ее постановка — дело критического философского мышления, тогда как дело филолога — научное описание и объяснение случаев употребления языка.
240
Но важнейшим фактом, который устанавливает филолог, является следующий: кораническая конструкция, в которой субъектом служит «Мы» (цитированные аяты «Мы даровали ему мудрость в раннем возрасте, милость от Нас и чистоту»1), а предикатом — «даровали… милость», превращается в другую предикативную конструкцию: «Бог — Милостивый». Если первое предложение глагольное2, то второе — именное. Но дело не только в этом. Если первое предложение — кораническая цитата, и ставить вопрос о его логической оправданности невозможно в контексте исламской культуры, то второе предложение не обладает иммунитетом коранического текста и не только может, но и должно быть исследовано на предмет логической оправданности. Так филологический анализ готовит необходимую почву для критического рассмотрения вопроса об атрибутах Бога.
«Имя» и «атрибут»: вероучительный подход
Как соотносятся термины «имя» и «атрибут»? Когда речь идет о Боге и, соответственно, о божественных именах и атрибутах, эти термины нередко употребляются в классических текстах попеременно как синонимичные, что видно хотя бы на примере приведенной выше цитаты из ал-Азхарӣ. Но между ними есть и различие, которое будет иметь для нас существенное значение. Ат-Таха̄навӣ в своем знаменитом «Словаре научных терминов» в статьях «’Исм» и «С̣ифа» дает хорошее представление о нем, открывая эти статьи фиксацией наиболее общего значения данных слов — как слов языка и как научных терминов3. Выжимкой этого обзора можно считать следующее. Признаком, позволяющим различить «имя» (’исм) и «атрибут» (с̣ифа), взятые как термины, а не как слова языка, служит следующее: имя указывает на самость (з̱а̄т), тогда как атрибут — на некий «смысл» (ма‘нан) в этой самости. Таково заостренное выражение различия между этими терминами, которое имеет важнейшее значение именно в контексте вопроса о предикации. Из сказанного видно, что имя фиксирует субъект, тогда как атрибут схватывает предикат этого субъекта, но не сам субъект. И хотя, как отмечает ат-Таха̄навӣ, имя — с точки зрения общеязыкового значения — может указывать не только на самость, но и на смысл в некой самости, а значит, играть ту же роль, что и атрибут, обратное невозможно: атрибут не указывает непосредственно на самость, он указывает только на некий смысл, приписываемый самости. Значит, атрибут никогда не фиксирует субъект, тогда как имя может указывать как на субъект, так и на предикат субъект-предикатного высказывания.
Почему же у филологов, факихов и вероучителей «имя» и «атрибут» употребляются так, как если бы они были синонимами, когда речь идет о Боге? Емкий ответ
241
находим у ад-Да̄римӣ, известного хадисоведа третьего века хиджры, ставшего одним из главных авторитетов для современных суннитов-традиционалистов:
Имена Бога несоизмеримы с людскими, ибо у людей имена сотворены и метафоричны (муста‘а̄ра «заимствованы». — А. С.), их имена — не то же самое, что их атрибуты, они разнятся (мух̱а̄лифа) с их атрибутами, тогда как имена Бога и есть Его атрибуты, а не что-то разнящееся с ними, и ни один из Его атрибутов не разнится с Его именами. Поэтому тот, кто утверждает, будто какой-либо из божественных атрибутов сотворен или метафоричен, допускает неверие (кафара) и нечестие (фаджара). Ведь если сказать «Бог (’алла̄х)», то это — именно «Бог», если сказать «Милостивый», то это — именно «Милостивый» и именно «Бог», если сказать «Милосердный», то это — то же самое, и если сказать «Мудрый», «Достохвальный», «Славный», «Великий», «Возвышенный», «Подчиняющий», «Могущественный», то и здесь — так же, и это именно «Бог»: ни одно Его имя не разнится ни с одним из Его атрибутов, и Его атрибут — ни с одним Его именем.
А человека могут именовать «мудрым», тогда как он невежествен, «справедливым судией», тогда как он — притеснитель, «могущественным», тогда как он ничтожен, «щедрым», тогда как он скряга, «здоровым», тогда как он истощен, «счастливым», тогда как он бедствует, «похвальным», тогда как он заслуживает порицания, «любимым», тогда как его ненавидят, а также «львом», «ослом», «собакой»… «занозой», «ершом»1 — а он не есть ничто из этого [Дарими 1998, 1: 161—162].
Оказывается, что атрибуты Бога всегда указывают на самого Бога, равно как на свой собственный смысл, причем это — строго одно и то же, поскольку нет никакого «разногласия» (мух̱а̄лафа) между тем и другим. Такое разногласие бывает в случае, когда речь идет о людях, поскольку их атрибуты могут быть, во-первых, ложными (невежду именуют «мудрым» и т. д.), а во-вторых, метафоричными (человека называют «ослом», «занозой» и т. д.). И то и другое исключено в отношении Бога: указание имени и указание атрибута — не разное, говорит ад-Да̄римӣ. Фактически он утверждает, что указание на некий атрибут-«смысл» (например, «милость») и есть указание на самого «Бога», что эти указания — одинаковые.
Это и означает, что «имя» и «атрибут» в отношении Бога хотя и не одно и то же, но тем не менее фактически — не разное. Такое утверждение известного хадисоведа, конечно же, можно принять только догматически, применив известный ашаритский прием би-ла̄ кайф — «не задавая вопроса как?». Стоит лишь озадачиться таким вопросом, как настойчивая попытка ад-Да̄римӣ убаюкать читателя повторением одного и того же тезиса, никак его не обосновывая, развеется как дым. В самом деле, если рах̣ма̄н «Милостивый» указывает на свой смысл, то как может этот смысл оказаться ровно тем же, что тот, на который указывает имя ’алла̄х «Бог»? Этот вопрос
242
концептуализируется в терминах арабской теории указания на смысл следующим образом. Либо различие рах̣ма̄н и ’алла̄х — чисто номинальное (то есть различие на уровне лафз̣ — высказанности), тогда как смысл (ма‘нан) того и другого — строго один и тот же; но тогда все имена Бога — синонимы и не имеют собственного значения, чего ад-Да̄римӣ допустить никак не может. Либо каждое из имен указывает на собственный смысл-ма‘нан, и тогда нельзя не признать множественности смыслов-ма‘а̄нин, добавляемых к самости (з̱а̄т) Бога, фиксируемой высказанностью ’алла̄х («Бог»), чего ад-Да̄римӣ также признать категорически не может. Но третьего попросту не дано, поэтому приходится отрицать саму возможность концептуализации и запрещать ставить этот вопрос. К счастью, в исламе, где отсутствует церковь, невозможно эффективно провести такие догматические запреты, и классическая мысль оставила нам великолепные образцы теоретизирования по поводу этого вопроса; об одном из целого ряда предложенных решений и пойдет у нас речь.
Тавх̣ӣд и имена: связанность несовпадающего
Принцип тавх̣ӣд и положение о божественных именах и атрибутах тесно связаны в исламском вероучении. Однако вектор их действия в определенном смысле противоположный.
Одна из существеннейших импликаций принципа тавх̣ӣд — положение об отсутствии «общности» (иштира̄к) между Богом и миром. Эта категорически отрицаемая исламским вероучением общность может пониматься в процессуальном ключе; тогда она дает мощный импульс развитию тезиса о тавх̣ӣд в направлении тавх̣ӣд аф‘а̄л, когда Бог и все прочее разводятся как действователь и претерпевающее, так что вся действенность оказывается на стороне Бога, а все прочее не имеет ничего общего с Богом как абсолютным действователем. Но не менее важным, даже неизбежным оказывается трактовка отсутствия общности между Богом и всем прочим в субстанциальном ключе. Тогда это положение означает полную неприложимость к Богу каких-либо описаний, которые приложимы ко всему остальному, т. е. прежде всего — к человеку и миру.
Оба этих смысла важны, их невозможно разорвать, и оба они занимают важнейшее место в составе ядра исламского вероучения. Отрицание общности между Богом и миром, прямо вытекающее из принципа тавх̣ӣд, разводит, расталкивает по противоположным полюсам Бога и все прочее. Еще на ранних стадиях развития исламской мысли, во времена мутазилитов, вошли в употребление термины «Бог» (’алла̄х) и «все, что кроме Бога» (ма̄ сива̄ ’алла̄х)1. Они зафиксировали
243
совершенную разведенность этих двух полюсов — разведенность, которую можно было бы назвать дихотомической, если бы имелось то общее, что целиком распадалось бы на эти две ни в чем не перекрывающиеся части.
Положение об именах ориентирует нас в противоположном направлении. Ведь имена как раз сближают Бога и мир, стремятся установить связь между ними. Конечно, эта связь видится вовсе не как субстанциальная общность: имена и атрибуты Бога, даже если номинально совпадают с теми, что применимы к человеку и миру, отнюдь не означают их общности в смысле субстанциальной одинаковости. Связанность Бога и мира очевидна хотя бы потому, что Бог творит этот мир и ежемгновенно управляет им. Эта направленность действия Бога на все прочее и выражена в его именах и атрибутах. Лишь небольшая их часть должна быть понята как указывающая исключительно на Бога (например, имена «Один» или «Единый»), прочие же не могут быть осмыслены иначе нежели как указывающие на его связанность со всем прочим (например, имена «Творящий» или «Желающий»).
Таким образом, совершенное несовпадение Бога и мира является многократно заявленным, разработанным и подтвержденным тезисом исламского вероучения. Не менее несомненна в контексте этого вероучения и связанность Бога и мира. Связанность несовпадающего — это центральная проблема, центральный пункт напряжения исламского вероучения. Именно его последовательное продумывание рождает критическое, философское мышление (как у мутазилитов, ал-Кирма̄нӣ, Ибн ‘Арабӣ и других авторов); и именно догматическое постулирование отсутствия самой такой проблемы (как у ад-Да̄римӣ и других вероучителей) рождает вероучительную мысль. Эта точка, следовательно, — логическая развилка, где исламская мысль расщепляется на вероучение и философию.
Посмотрим, какое решение этой проблемы предложил наиболее выдающийся исмаилитский философ Х̣амӣд ад-Дӣн ал-Кирма̄нӣ.
Бог и причинность у ал-Кирма̄нӣ: сетка смысла в С- и П-логиках
Связанность Бога и мира концептуализируется для ал-Кирма̄нӣ через категорию причины (‘илла). Бог — причина всего прочего: в такой упрощенной формулировке можно представить его взгляд на этот предмет.
Ал-Кирма̄нӣ доказывает это, отталкиваясь от положения о невозможности бесконечного ряда и от представления о лестнице причин, о поэтапной передаче необходимости от вышестоящей причины к нижестоящей. Оба эти положения, как и доказательство необходимости Первоначала, были подробно разработаны фала̄сифа. Ал-Кирма̄нӣ использует это доказательство, оформляя и разъясняя его с присущим ему красноречием:
Мы скажем: непреложные законы гласят, что следствие (ма‘лӯл) может существовать лишь благодаря своей причине (‘илла), которая делает его существование необходимым. С сей причиной его существование связано, и на нее оно
244
в своем существовании опирается: не будь ее, не было бы и его. Теплота, например, не существует без своей причины, которая делает ее существование необходимым, с которой ее существование связано и на которую она в своем существовании опирается; эта причина — движение, и не будь его, не было бы и ее. И движение не существует без своей причины, которая делает его существование необходимым, с которой его существование связано и на которую оно в существовании опирается, а именно — двигателя, не будь которого, не было бы и его. Или составные телесные порождения, которые существуют благодаря первоэлементам: с первоэлементами связано существование их, на них они в своем существовании опираются, и не будь их, и тех бы не было. Или первоэлементы, которых не было бы, не будь тех материи и формы, на существование которых они опираются в своем существовании. Или материя и форма, которых не было бы, не будь тех причин (асба̄б), на которые обе они опираются в своем существовании и от существования которых и их существование может происходить, а именно — небесных тел и высших форм.
Так вот, поскольку одно из сущего опирается в своем существовании на другое и поскольку, будь то, на что сие в существовании своем опирается и с чем существование его связано, неутвержденным (г̣айр с̱а̄бит) в существовании и не существующим, то и существование сего было бы невозможно,— итак, поскольку доказано, что сие существует только благодаря тому, то отсюда вытекает, что Тот, к Кому восходит все сущее, существующее благодаря Ему, от Него и опираясь на Него, — это Бог (кроме Которого нет бога), Чья ничтойность (лайсиййа) невозможна и отрицание оности Которого ложно: если бы Он был ничем (лайс), то и все сущее было бы ничем, а поскольку сущее есть, то и Его ничтойность невозможна [Кирмани 1983: 129—1301].
Причинность ал-Кирма̄нӣ понимает здесь не как порождение одним сущим другого, а как онтологическое обоснование; в фальсафе было принято называть это соответственно горизонтальной и вертикальной причинностью. Нетрудно заметить, что приведенные ал-Кирма̄нӣ примеры заимствованы у аристотеликов. Последовательно, слой за слоем проходя онтологические уровни, мы неизбежно должны прийти к некоему началу — к тому, с чего начинается весь ряд обоснования. Это начало и есть Бог — то, без чего не могла бы существовать вся причинно-следственная цепочка онтологического обоснования сущего.
Рассуждение опирается на логику причинно-следственной связи и строится как доказательство от обратного: без причины нет следствия, однако следствие (мир) существует, следовательно, его причины существуют; а поскольку бесконечный ряд нельзя пройти (ал-Кирма̄нӣ говорит об этом многократно в других местах), то мы, открывая за каждым следствием обосновывающую его причину, а затем — причину этой причины, должны где-то остановиться. Эта логическая необходи
245
мость и обосновывает вывод о том, что Бога не может не быть, поскольку иначе разрушилась бы вся цепочка причинно-следственных связей.
Отметим также, что, говоря о Боге, ал-Кирма̄нӣ употребляет термин «оность» (хувиййа). «Оность» — абстрактное имя от местоимения «он»; для ал-Кирма̄нӣ этот термин служит указанием на Бога как такового, не примешивающим к такому чистому указанию ничего постороннего: оность — это Бог как таковой, чистый Бог, о котором нельзя ничего сказать, поскольку такое указание не предполагает никаких атрибутов и субъект-предикатных высказываний. Подобное понимание Бога можно считать даже в каком-то отношении более строгим, нежели предлагаемое вероучением, рассматривающим Бога как самость, поскольку вероучение не может не признавать имена и атрибуты Бога, что создает, как мы видели на примере ад-Да̄римӣ, определенные теоретические трудности. Здесь же речь идет только о «чистом» Боге, Боге, понятом как исключительно «он», без чего-либо дополнительного.
Итак, согласно ал-Кирма̄нӣ, причина — это опора вещи, ибо вещь в своем существовании (вуджӯд) опирается (йастанид) на свою причину, то есть на то, что придает ей необходимость (вуджӯб). Наша задача теперь — понять, что все это значит. Истолковать слова ал-Кирма̄нӣ; выполнить классическую востоковедную задачу, которая дополняется в нашем случае историко-философским аспектом.
Как это сделать? Начнем с методологии. Она основана на нескольких принципиальных положениях1.
1. Любое высказывание представляет собой субъект-предикатный комплекс. (Даже если это верно лишь для утвердительных предложений, можно былобы сказать, что вполне допустимо ограничиться ими. Однако вопрос, при-казание и иные модальности также скрыто содержат субъект-предикатныйкомплекс, который без труда может быть восстановлен.)
2. Языковая форма высказывания предоставляет в наше распоряжение чистую номинальность, т. е. чисто словесную форму. Эта словесная форма может быть осмыслена (превращена в осмысленность) двумя альтернативными способами, опирающимися на С-логику и П-логику.
3. В словесной форме высказывания самой по себе нет ничего, что отдавалобы предпочтение С-логике над П-логикой или наоборот; во всяком случае,нет ничего, что однозначно определяло бы такое предпочтение и не моглобы быть при желании перетолковано в пользу альтернативного осмысления. (Понятно, что вытекает из этого для понимания настроя ученого причтении текстов инокультурной традиции: если перетолкование в привыч-ную логику возможно, оно всегда будет осуществлено; чтобы этому воспрепятствовать, нужны специальные приемы.)
246
4. Таким образом, любая субъект-предикатная конструкция, выраженная в языке, объективно дает возможность извлечь из нее смысл двумя альтернативными способами на основе двух логик.
5. Исследовательская задача расщепляется на объективную и субъективнуюсоставляющие, которые ясно отличаются одна от другой. Объективная со-ставляющая — это экспликация содержания, объективно вытекающего из субъект-предикатного комплекса, в двух альтернативных логиках — субстанциальной и процессуальной. Субъективная составляющая — это попытка ответить на вопрос: «Что на самом деле имел в виду автор?»
6. Объективная составляющая исследования может быть выполнена всегда и полностью; препятствием могут стать лишь ошибки в применении объ-ективных законов смыслополагания. Субъективная составляющая можетбыть выполнена с разбросом вероятности от почти нулевой до почти пол-ной. Помочь повысить вероятность выводов может большой массив дан-ных (чем он больше, тем больше вероятность встретить «лакмусовые бумажки» — такие положения, которые почти определенно указывают на С- или П-логику и требуют для своего перетолкования в другой логикеслишком сильных допущений), определенность мысли автора и другиеконтекстуальные факторы. Субъективная составляющая никогда не можетбыть выполнена с абсолютной точностью, поскольку она имеет дело с ис-торическим фактом, а не с объективной закономерностью.
Эти тезисы верны всегда. Я хочу сказать, что любое высказывание, каждое предложение всегда можно истолковать в двух логиках — субстанциальной и процессуальной. Какая из них действовала «в голове» автора в каждом конкретном случае, мы знать не можем, хотя можем с большей или меньшей долей вероятности предполагать ответ на этот вопрос. Чем шире контекст, тем больше вероятность, тем увереннее мы можем делать выбор между двумя логиками, хотя абсолютной уверенности не достигаем никогда, поскольку всегда сохраняется теоретическая возможность перетолкования в другую логику за счет гипотез ad hoc. Если у нас единственное высказывание, дошедшее от автора, вероятность установить, какой из двух возможных логик он руководствовался, практически нулевая. Если в нашем распоряжении обширный текст, вероятность повышается почти до единицы. Но в любом случае объективную сетку возможностей мы можем — и должны — задать всегда. Только с заданием такой сетки смысла, т. е. благодаря экспликации смысла субъект-предикатной конструкции в С-логике и в П-логике, задача понимания того, «что сказал нам автор», обретает объективное основание, она перестает быть гаданием и угадыванием, перестает быть пресловутой «интерпретацией», свободной от каких-либо объективных обязательств. С другой стороны, любая «интерпретация» все равно опирается на объективную логику, позволяющую судить, «как можно» и «как нельзя» сказать, — однако, поскольку эта логика скрыта, остается невыясненной принципиальная и объективная сетка смысла, которая задается номинальностью любого предложения благодаря возможности экспликации его смысла в двух логиках.
247
Так можно работать с любым отдельным предложением1. Здесь нас, однако, интересует не такой единичный анализ высказываний; нас интересует учение ал-Кирма̄нӣ в части причинности, взятое «в целом». Что значит «в целом» и как это «целое» понимание учения складывается на смысловых сетках отдельных, единичных высказываний — это особый вопрос. Его, конечно, следует ставить, причем ставить в рамках общей задачи исчисления смысла. Что смысл исчислим, вытекает из того, что согласно гипотезе, о которой говорилось в начале, для любой словесно выраженной субъект-предикатной конструкции мы можем с помощью конечного числа шагов, заданных процедурно (т. е. не зависящих от конкретного предложения), эксплицировать ее смысловое наполнение как минимум в двух логиках; это значит, что возможен алгоритм исчисления смысла. Когда-то в «Логике смысла» я поставил в качестве основного вопроса такой: «Исчислим ли смысл?» — предвидя, конечно же, положительный ответ на него (иначе зачем такой вопрос ставить?), но не зная, каким именно он будет. Сегодня я могу сказать, что есть точка (участок, проблема, то, от чего можно оттолкнуться), в которой постановка и выполнение этой задачи обрели ясные контуры. Исчисление смысла одного и того же предложения в двух логиках может быть алгоритмизировано.
Из этого вытекают многие следствия, прежде всего то, что «понимать предложение» можно интуитивно, как это делают все люди, а можно это понимание сделать научным. Как аристотелевская логика понималась интуитивно до того, как ее положения были сформулированы, и чувствуется до сих пор многими лишь интуитивно (кто учит фигуры силлогизма?), так и логика смысла не нуждается в эксплицитной формулировке, чтобы действовать и определять наше понимание языковых предложений и понимание мира (между этими двумя пониманиями имеется существенный параллелизм потому, что оба представляют собой осмысление субъект-предикатных конструкций). Однако эксплицитная формулировка законов логики смысла и их применение дает нам в руки эффективный инструмент; и если все, с чем мы имеем дело, — это субъект-предикатные конструкции, то такой инструмент, во-первых, универсален, а во-вторых, попросту незаменим.
Если одна и та же словесно выраженная субъект-предикатная конструкция объективно имеет два эксплицируемых смысла, восстанавливаемых в С- и П-логике, причем эти две экспликации строго равновозможны и альтернативны, то мы должны рассматривать их как варианты. Тогда встает вопрос об инварианте: можно ли говорить о каком то «общем» смысле, который бы интегрировал два вариативно эксплицируемых смысла? Думаю, можно и нужно; это то, что в «Логике смысла» я назвал обобщением второго порядка, «обобщением обобщения»: как можно обобщить разные логики смысла, как можно их интегрировать? Этот вопрос по прежнему на повестке дня, к нему неизбежно придется обращаться, но теперь, имея представление о ясной алгоритмической процедуре исчисления
248
смысла субъект-предикатной конструкции в двух логиках, можно представить хотя бы с какой-то мерой конкретности возможные подходы к постановке и решению проблемы обобщения второго порядка.
Вернемся к нашей теме. Есть текст ал-Кирма̄нӣ, приведенный выше (пока оставим в стороне вопрос перевода: мы могли бы читать его и по-арабски), и есть — или должно быть сформулировано — некое общее представление о его учении, некая «выжимка». Какова связь между этими двумя текстами? Текст ал-Кирма̄нӣ дан нам, для нас это, так сказать, эмпирическая реальность. Текст, выражающий «общее содержание» его учения, должен быть создан нами. Как от первого текста мы переходим ко второму? Если считать текст частью «объективного мира», то вопрос можно поставить так: есть две реальности, две вещи, между которыми мы усматриваем некую связь; первая дана нам изначально, вторая создана нами. Какова связь между ними? Как эта связь может быть описана? Наконец, как доказать, что второй текст (наш «общий смысл» учения ал-Кирма̄нӣ) вытекает из первого (текста ал-Кирма̄нӣ)?
Здесь описана обычная, можно сказать, стандартная ситуация, в которой находится исследователь — или любой читатель — философского текста. Ведь даже «просто читая» текст, никто не старается запомнить его наизусть; это не только сложно, но и бессмысленно: такой текст лежал бы мертвым грузом в нашей памяти. Прочитанное должно быть «усвоено», должно быть как-то переведено в «нашу систему координат» для того, чтобы включиться в наше собственное размышление, чтобы стать участником смыслополагания. Даже если мы читаем не философский текст, а детектив, который будет трудно вспомнить послезавтра, все же завтра мы сможем пересказать его — естественно, не слово в слово, а передав «суть дела». Вот я и спрашиваю: как мы извлекаем «суть дела» из прочитанного текста? Как историк философии формулирует «суть учения» изучаемого автора, как любой читатель схватывает «суть прочитанного»? Эта «суть», с одной стороны, имеет отношение к исходному тексту, берет что-то из него; но с другой — она не является простой механической «обработкой» этого текста, она не выполнена по известной технике «рекле» («режу-клею»). Если бы «общий смысл» текста, который изымается из исходного, воспринятого текста любым читателем, получался благодаря применению реклейной техники, он легко воспроизводился бы машинными методами; тогда работа историка философии была бы очень простой, почти механической. Но это не так; «общий смысл», извлекаемый любым читателем из прочитанного текста и составляющий плод профессиональной деятельности историка философии, является именно обобщением; вопрос в том, как осуществляется это обобщение. Как смыслы отдельных высказываний интегрируются в некий «общий смысл» учения?
Вопрос об обобщении, вопрос об общем — самый что ни на есть философский вопрос. Тем удивительнее, что в том ракурсе, о котором я говорю, его не ставят, кажется, теоретически, а в любой исследовательской практике он решается только интуитивно, никак иначе, причем этот интуитивный характер не обсуждается.
249
В самом деле, что представляет собой приведение цитат в качестве доказательства (иногда говорят: иллюстрации) правильности предлагаемого изложения «общего смысла» учения исследуемого автора? Приведя цитату, ее, бывает, разбирают и поясняют отдельные слова, выражения и даже целые предложения. Тем не менее никогда не бывает показано, как именно читатель должен извлечь из цитаты смысл и почему именно тот, который он, как полагает исследователь, должен извлечь. Почему цитата «подтверждает», «иллюстрирует» изложение «общего смысла» учения обсуждаемого автора, почему она вообще соотносится с этим общим изложением? Чем оправдан этот переход от текста автора к тексту исследователя, где тот мостик, по которому мы проходим от одного к другому? На эти вопросы я никогда не слышал ответа: любое «цитатно-подкрепленное» исследование полагает, что мостик имеется, однако оно не объясняет, откуда этот мостик взялся и как он устроен: мы должны или верить в это, или вовсе не задаваться такими вопросами. А ведь цитатно подкреплено любое исследование, скрыто или явно, поскольку не бывает неинтерпретирующих исследований, неважно, в гуманитарных или естественных науках (неинтерпретирующая деятельность была бы божественной, творческой).
Наверное, исключением может быть лишь априорная наука. Когда мы говорим о сетке смысла, объективно и неизбежно задаваемой любой субъект-предикатной конструкцией благодаря равновозможности двух логик (С- и П-логики) ее истолкования, мы говорим именно об априорном. Не имеет никакого значения, понимал ли автор, «что он говорит», или не понимал: эта сетка смысла все равно будет задана объективно. Точно так же сумма углов треугольника будет равна ста восьмидесяти градусам, даже если ребенок, начертивший его с помощью линейки, не знает, что такое «градус», «угол» и «180».
Итак, наша задача — набросать такую сетку смысла для прочитанного отрывка текста ал-Кирма̄нӣ, взятого не как отдельные предложения (для которых, как уже говорилось в начале этой статьи, всегда объективно возможны два прочтения — в С- и П-логиках), а как именно текст, т. е. как целое. Выдвинем следующую гипотезу относительно того, каким образом «общий смысл» текста получается из смыслов отдельных предложений. Ведущую роль в этом играют слова, которым мы придаем терминологический статус. В этом утверждении самом по себе нет ничего необычного. Новое заключается в другом. Во-первых, сама процедура вычленения терминов из текста: откуда мы знаем, какие слова должны быть включены в терминологический список, а какие — нет? Уже здесь мы сталкиваемся с серьезной угрозой «опрокидывания» на изучаемый текст собственной терминологической сетки. Во- вторых, как такой список превращается в собственно текст? Ведь «общий смысл» учения — это не список терминов, это некий — в свою очередь — текст, который исследователь должен написать. И в-третьих, каждый из таких терминов может быть раскрыт как в С-логике, так и в П-логике. Это значит, что «общий смысл» учения должен быть показан a priori как расщепляющийся на два равновозможных прочтения. После выполнения этой объективной составляющей можно приступать к субъективной части исследовательской задачи: установить,
250
какое из двух прочтений предпочтительно и, следовательно, какая из двух логик имеет больше шансов на то, чтобы быть признанной «аутентичной».
Начнем по порядку. Из приведенного выше отрывка текста ал-Кирма̄нӣ вычленим следующие центральные термины: причина, следствие, необходимость, существование, утвержденность (в существовании), опора, оность, ничто, ничтойность, сущее. Проблематичным может оказаться включение в список терминов «утвержденность», «опора» и «оность». «Может оказаться» потому, что эти слова не находят очевидного соответствия в терминологическом языке западной традиции — той, которая задает образец терминологического мышления. Нужны специальные усилия (я о них не раз говорил), чтобы «разглядеть» терминологический статус этих слов и отнестись к ним «всерьез». Помимо названных, есть, совершенно очевидно, и другие термины: теплота, движение, двигатель, тело (= телесное порождение), первоэлемент, материя, форма. Их, однако, следует счесть в данном случае второстепенными, поскольку речь идет о раскрытии смысла первой группы терминов, тогда как вторая группа играет тут вспомогательную роль: смысл этих терминов полагается ясным, они — лишь иллюстрация, а не центр внимания. Дальше мы будем иметь дело только с первой группой.
Второй вопрос: как эти термины превратятся в наш, исследовательский текст, излагающий «общий смысл» учения ал-Кирма̄нӣ? Не пытаясь сейчас в деталях вскрыть эту технику (это — совершенно особый вопрос, которому следует посвятить отдельные работы), скажу лишь следующее: мы сможем понять это, если свяжем это с ответом на третий вопрос: как возможна априорная сетка смысла, выстроенная на основе С- и П-логик?
Начнем с С-логики. Она требует понимать причину как причину существования вещи, как то, что составляет ее сущность, дает ей силу бытийствования. Примеры, приведенные в тексте ал-Кирма̄нӣ, вполне подтверждают эту точку зрения. Материя и форма — это то, благодаря соединению чего образуется сущность всего. Здесь схвачено универсальное понимание причинности в аристотелевской парадигме, которую ал-Кирма̄нӣ (вслед за фала̄сифа) принимает. Необходимость — это сам факт образования, формирования сущности вещи: вещь необходима, т. е. вещь обладает существованием, если имеется ее сущность. Вспомнив о четырехчастном аристотелевском понимании причинности (которое ал-Кирма̄нӣ также принимает — об этом свидетельствуют соответствующие параграфы «Успокоения разума»), найдем, что в этом отрывке ал-Кирма̄нӣ сперва упоминает действенную причину (или то, что можно считать действенной причиной) — двигатель, движение; потом — формальную и материальную; целевая, хотя и не упомянута здесь, неоднократно вводится в рассмотрение в других частях «Успокоения разума»: цель возникновения мироздания — явить наибольшее совершенство, дав наиболее пригодные формы всему творению. Бог понимается в этом отрывке как первопричина, т. е. как нечто вроде перводвигателя.
Такое прочтение объективно возможно. Если говорить о субъективной стороне дела, то оно имеет тот недостаток, что не объясняет терминологического статуса
251
терминов «утвержденность» и «оность», а также «снижает» терминологическую силу «необходимости», поскольку фактически растворяет ее в других терминах. Кроме того, оно предполагает «сущность», которая как термин нам не встретилась.
Однако это — именно субъективная сторона дела, поскольку в данном случае (как и всегда) все эти возражения могут быть отклонены, а то, что представлено как факт (игнорирование терминологического статуса и др.), перетолковано. Мы скажем, если захотим сохранить С-прочтение, что «утвержденность» — обычное слово, это не термин: утвержденность в существовании и означает некую сущностную прочность, упроченность. То же будет сказано о «необходимости». Далее, мы скажем, что «оность» (хувиййа) и есть «сущность», тем более что термин хувиййа в самом деле использовался в арабской литературе среди прочих для передачи греческой «усии».
Привлекая расширяющийся контекст (сперва — весь текст «Успокоения разума», затем — контекст арабской философии в целом, а затем — и всей арабо-мусульманской культуры), можно показать, что эти объяснения, сохраняющие С-прочтение, малооправданны и что гораздо предпочтительнее было бы от них отказаться. Однако все дело в том, что, во-первых, и такие контраргументы могут быть перетолкованы — ведь и они, как любые субъект-предикатные конструкции, могут быть прочитаны в обеих логиках, а во-вторых, в крайнем случае у С-интерпретатора всегда остается выход в виде гипотез ad hoc. Поэтому субъективная сторона дела может быть решена не абсолютно, а с той или иной долей вероятности.
Дадим теперь П-прочтение этого же отрывка. П-логика требует видеть причинность как процесс (процесс «причинения» — то, что по-арабски будет названо та‘лӣл), протекающий между инициализирующей стороной, действователем, и стороной принимающей, т. е. претерпевающим. Читая так, увидим, что «передача необходимости» и есть такой процесс, связывающий, если говорить в общем, причину и следствие. А если брать конкретно, то в качестве такой причины-действователя может выступать движение, передающее необходимость теплоте; двигатель, передающий необходимость движению; первоэлементы, передающие необходимость телам; материя и форма, передающая необходимость первоэлементам; небесные тела, передающие необходимость материи и форме. Эта лестница передачи необходимости должна восходить к Богу — к тому первому, что обеспечивает действенность всего. Миропорядок с этой точки зрения — это система действий, система передачи необходимости: именно необходимость, точнее даже, «передача-необходимости» (т. е. процесс) — центральный термин, именно он показывает, на чем зиждется устройство мира.
П-прочтение дает стройную интерпретацию всему терминологическому списку, и в этом смысле оно — с субъективной точки зрения — более предпочтительно. Со стороны С-интерпретатора на это всегда можно возразить, что список терминов формируется на основе прочтения, а не наоборот. П-прочтение иначе расставляет акценты: оно начинает не с материи и формы, а с действ[ован]ия — с передачи
252
необходимости (помним, что необходимость была маргинализирована в С-прочтении, тогда как П-прочтение отводит ей центральное место). Правда, кажется несколько искусственным считать материю и форму действователем, а первоэлементы — претерпевающим; однако если последовательно принять П-парадигму, то эта непривычность вскоре будет преодолена. П-интерпретатор скажет, что в данном случае мы видим, как содержание С-философии (аристотелизм) преобразуется в П- мышлении, как оно подгоняется под априорные требования П-парадигмы.
Пойдем дальше. Возьмем следующий отрывок текста, в котором речь идет о божественных атрибутах. Только что проанализированный отрывок заканчивался утверждением о том, что «ничтойность Бога невозможна». Иначе говоря, Бог должен как-то присутствовать в той картине мира, которую рисует ал-Кирма̄нӣ; и даже не «как-то», а решающим образом, поскольку без него невозможен был бы и весь мир. Но что можно сказать о Боге? Любое высказывание представляет собой субъект-предикатную конструкцию, до предела урезанным случаем которой будут простейшие высказывания, приписывающие Богу какой-либо атрибут, например высказывание «Бог — сущий».
Мы покажем на примере одного атрибута, как это (приписывание Богу атрибутов. — А. С.) приводит к невозможному, из чего будет следовать тот же вывод для всех остальных атрибутов. Итак, мы скажем: существование — один из атрибутов; утверждение, что оно должно быть приписано Всевышнему как истинный атрибут, приводит с необходимостью к выводу о том, что у Него есть, во-первых, Всевышняя самость (да славится Всевышний Бог!), которая имеет существование как атрибут, а во-вторых, сам сей атрибут, существование, ибо Всевышний — не сей атрибут, а сей атрибут — не Всевышний. Тогда сей атрибут, приписанный Всевышнему, неизбежно должен быть обусловлен и сделан необходимым (мук̣тад̣ӣ-ха̄ ва мӯджибу-ха̄) либо Его самостью (а она превыше того!), либо чем-то иным. Если сама Его самость вызывает и обусловливает сей атрибут, то необходимость и обусловленность (ӣджа̄б ва ик̣тид̣а̄’) его будет связана с утвержденностью этой самости самой по себе, прежде сего атрибута и без него, дабы она могла тогда произвести это действие — вызвать необходимость [атрибута]; а изначальная утвержденность самости означает, что нет ничего ей в том препятствующего и что она не нуждается ни в чем, что как-либо уводило бы ее в сторону от этой утвержденности. Если же самость утверждена без этого атрибута и не нуждается ни в чем, что уводило бы ее в сторону от утвержденности, а существование — атрибут, с которым утвержденность никак не связана, то совершенно ясно, что для самости в этом атрибуте нет нужды (ибо сама она утверждена), а значит, нет и необходимой потребности (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было). А коль скоро она в нем не нуждается и не испытывает в нем необходимости (когда бы, обусловливая его, она приобретала то, чего у нее не было), то и приписывать его Ему как обязательный явно невозможно и не соответствует Его достославности, невозможное же нельзя приписывать Всевышнему.
Это в том случае, если обязательность сего атрибута соотносится с Его самостью, которая утверждена прежде сего атрибута. Если же приписать этот атрибут
253
Всевышнему таким образом, что самость не будет предшествовать ему по утвержденности, но они будут в том равны, то это вызовет потребность в чем-то ином, что сделало самость особой (так что она — не этот атрибут) и атрибут особым (так что он — не эта самость) — ведь самость не свободна от сего атрибута, как было бы, если бы она его делала необходимым, но сей равный с самостью атрибут не вызван ею и не ею сделан необходимым. Тогда получается, что утвержденность самости связана с необходимостью иного; если же необходимо иное, то и о нем придется говорить подобным образом, и так до бесконечности, что явно невозможно.
Итак, если иное, а не Он вызывает необходимость сего атрибута, то речь пойдет, как мы сказали, до бесконечности, против чего свидетельствует разум, ибо сущее утверждено. И коль скоро необходимость сего атрибута приводит к тому, что мы показали, а сие ложно, и все атрибуты подобным же образом влекут невозможное, то Всевышний, следовательно, свободен от атрибутов (которые суть под дланью Его творения) и вознесен над ними, Он — действователь их (фа̄‘илу-ха̄) и всех вещей [Кирмани 1983: 151—153].
Составим терминологический список для этого отрывка. В него войдут: атрибут, приписывание атрибута, истинный атрибут, существование, необходимость, вызывать необходимость, самость, утвержденность.
Дадим С-прочтение. Вообще говоря, сделать это будет непросто, поскольку основная мысль ал-Кирма̄нӣ здесь заключается в том, что утвержденность и существование принципиально разведены и что самость Бога может обладать утвержденностью, которая ничего не добавляет к ней (утвержденность и есть самость; это и есть оность, с которой мы встречались в предыдущем отрывке), тогда как существование будет дополнительным атрибутом. Это нарушает привычное понимание термина «существование» в пространстве С-логики. Однако дополнительные гипотезы сделают даже здесь С-прочтение возможным. Например, С-интерпретатор может сказать, что под личиной утвержденности скрывается бытие, тогда как существование понимается как нечто внешнее в отношении сущности, имея в виду ту парадигму разведения сущности и существования, которая использовалась в средневековой западной философии. Такая интерпретация немного хромает, но это можно списать на особенности текста или иные случайные обстоятельства. При большом желании тут даже можно увидеть аналог тождества сущности и бытия в Боге; правда, это потребует перетолкования терминов (придется понимать утвержденность как бытие), но какая интерпретация обходится без этого? Тогда С- прочтение будет означать, что Бог абсолютен, т. е. не может быть описан никаким атрибутом; такой вывод будет вполне комфортен для С-интерпретатора. Последнее предложение, утверждающее, что Бог — «действователь» всех вещей, будет понято в том духе, что Бог — творец всех вещей (как это согласуется с общим строем системы ал-Кирма̄нӣ — вопрос другой; здесь интерпретатор опять-таки имеет свободу выбора в перетолковании этого высказывания).
Дадим теперь П-прочтение. Мы здесь видим то же самое «вызывание необходимости», с которым встретились в первом отрывке. Атрибут рассматривается
254
не как то, что составляет суть бытия, т. е. самого Бога (так дело должно быть понято при С-прочтении), а — изначально — как нечто парное в отношении самости Бога. Это возможно при П-прочтении (хотя исключается С-прочтением) в том случае, если атрибут понимается как претерпевающее. В самом деле, ал-Кирма̄нӣ ставит вопрос так: «Что делает атрибут необходимым?» — явно используя здесь ту же парадигматику процесса, с которой мы встретились в первом отрывке. Дальнейшее рассуждение отчетливо выстроено в заданной П-логике. Если самость Бога передает необходимость этому атрибуту, значит, она уже является действователем; она уже, до всякого атрибута, способна осуществлять процесс передачи необходимости (она утверждена, говорит ал-Кирма̄нӣ, без этого атрибута и вызывает его необходимость), т. е. играть ту роль первоопоры, о которой ал-Кирма̄нӣ говорил в конце первого процитированного отрывка, — тогда зачем ей атрибут? Он, собственно, и понимается как претерпевающее — как то, что испытывает воздействие Бога, а не обеспечивает это воздействие. Если же атрибут получает необходимость не от самости Бога, а от чего-то иного, тогда самость, имеющая данный атрибут, имеет его только потому, что имеется некое иное: здесь опять конечное объяснение опирается на П-логику, требующую действователя как конечное обоснование необходимости того, о чем идет речь; таким действователем и выступает «иное», передающее необходимость атрибуту, который приписан самости Бога. Но тогда, во-первых, это «иное» также либо имеет атрибут, либо не имеет его; если не имеет, то оно и должно быть названо Богом, а если имеет, то мы возвращаемся к началу рассуждения. Таким образом, если атрибут понимается как нечто «особое», то он требует действователя для своего объяснения, поскольку является претерпевающим, а таким действователем Бог быть не может.
Отсюда и вытекает невозможность приписать атрибуты Богу — при том, повторю, понимании статуса атрибута (атрибут — результат действия, а не выражение аспекта действователя), которому следует ал-Кирма̄нӣ. Последнее высказывание о том, что Бог — действователь и атрибутов, и всех вещей, подтверждает это: атрибуты — предмет его воздействия, он — действователь, они — претерпевающее, а значит, они противоположны ему согласно парадигме фа̄‘ил-маф‘ӯл (действователь-претерпевающее), они никак не могут быть ему «приписаны». В этом смысл последнего предложения при П-прочтении: здесь все встает на свои места и не требует натянутых допущений.
Так обе логики оказываются возможны (моя гипотеза состоит в том, что они всегда возможны, поскольку таковы закономерности смыслополагания), хотя для того, чтобы быть примененными к тексту, они требуют допущений разной степени искусственности. И тем не менее, поскольку исследователь выстраивает «общий смысл» учения, он всегда волен такие допущения ввести. Однако чем больше пространство текста, который подвергается прочтению в С- и П-логиках, тем большим массивом данных мы обладаем, чтобы сделать выбор в пользу одной из них как более вероятной. Объективно всегда возможны обе, хотя для самого автора, субъективно, должна была по меньшей мере преобладать только
255
одна (трудно предположить, что он постоянно меняет исходные условия рассуждения, перемещаясь между С- и П-перспективами, хотя чисто теоретически такое возможно), если не быть исключительной. В том, что касается ал-Кирма̄нӣ, мне представляется, что ведущей для него в целом является С-логика, хотя рассуждения в рассмотренных двух отрывках явно предпочтительнее рассматривать как выполненные в П-ключе. Является ли это в данном конкретном случае следствием общего влияния П-логики, преобладающей в системе арабо-мусульманской культуры, или вызвано другими факторами — решить сейчас невозможно.
Влияние С-логики и ее комфортность для построений ал-Кирма̄нӣ явно заметны в его описании Первого разума как единой самости, наделенной атрибутами совершенства (см. [Кирмани 1995: 95—98]. Вместе с тем в понимании мироздания как движения между двумя Пределами — Первым разумом и Вторым пределом (которому предстоит возникнуть и который завершит историю мира) — можно видеть влияние П-логики на аристотелевскую схематику потенциального-актуального, которая переосмыслена в терминологии первого-второго пределов (это переосмысление выражается в том, что здесь начальное и конечное выражены не как состояния одной и той же субстанции, находящейся в становлении и движении к совершенству, а как две независимые субстанции, между которыми и «пролегает» процесс).
Так можно читать текст ал-Кирма̄нӣ почти без конца — и, конечно, не только его текст, поскольку предложенная методология прочтения в С- и П-логиках, думаю, универсальна. Особенно интересно сравнивать словесно совпадающие или почти совпадающие формулировки у разных авторов, например у ал-Кирма̄нӣ и Ибн ‘Арабӣ, фигурирующие в контексте одних и тех же проблем (например божественных атрибутов), но используемые в обосновании очень разных, часто диаметрально противоположных выводов. Сама по себе такая ситуация не должна вызывать никакого удивления с точки зрения нашей методологии. Словесная формулировка всегда может быть понята в С-логике и П-логике, причем сама по себе эта формулировка не содержит ничего, что отдавало бы предпочтение одной из логик над другой. Положения, о которых идет речь (например, о том, что единое по самости может быть множественным по сопряженностям), часто восходят к античности, однако, попадая в среду мысли, сформированную на основе С- и П- логик, приобретают, естественно, разный смысл. Это различие всегда может быть просчитано и показано как объективное — вот основная идея, которую я хотел высказать здесь. И оно всегда должно быть показано: нельзя полагать, что словесная формулировка может быть истолкована в каком-то одном смысле, и не рассматривать ее толкование в альтернативной логике. Сама по себе словесная формулировка не говорит ничего — она говорит только при ее прочтении в С- или П-логике, и не видеть возможности такого выбора (а значит, и расщепления смысла словесной формулировки) — значит подставить ту логику, которой сам исследователь пользуется «по умолчанию», как якобы единственно возможную там, где всегда имеется вариативность.
256
 |

|
 |

|
259
Этот заголовок отдает дань моде: зеркальные названия завораживают, в них скрыта какая-то загадка. С другой стороны, такой стиль имеет прямое отношение к содержанию: теоретическое разыскание, которым мы займемся в первой части, будет непосредственно связано с разговором о том, как можно было бы организовать перевод философских текстов в свете найденных теоретических положений.
Почему речь о переводе?
Дело вот в чем: перевод как таковой ставит нас лицом к лицу с той областью, которую мы можем не замечать, когда работаем в обычном режиме, в обычном ключе, т. е. когда оформляем свое мышление в языковых формах. А мы практически всегда это делаем, если общаемся с другими, если пишем тексты, которые предназначены для других, или даже если разговариваем сами с собой как с неким собеседником. Тогда мы имеем право не замечать того, что стоит за данной языковой формой, или же просто от этого отвлекаться.
Но что происходит, если нам надо перевести с одного языка на другой? Давайте набросаем простую схемку. У нас есть некоторое выражение, предположим, на испанском языке, и нам надо получить другое языковое выражение — скажем, на русском языке, переведя некую испанскую фразу на русский язык. Обозначим языковое выражение на испанском языке через ЯИ и будем считать его исходным языковым выражением, а фразу на русском языке обозначим через ЯР и будем считать ее результирующим языковым выражением. Тогда перевод обозначим как

: стрелка

переводит ЯИ в ЯР.

Схема 1
Мой вопрос касается стрелки

: что здесь? Что стоит за ней, что она выражает? Понятно, что слева у нас одна языковая форма — ЯИ, справа другая языковая форма — ЯР. Но что такое стрелка, которая их соединяет?
Вопрос в том, отражает ли эта стрелка «просто» некую операцию, которую мы проводим над языковым выражением ЯИ для того, чтобы получить выражение ЯР, или же за ней стоит какая-то самостоятельная область? Если мы припишем областям ЯИ и ЯР некую онтологию, то должны ли мы приписать независимую
260
онтологию также и области

; и какого рода будет такая онтология? Иначе говоря, включает ли эта схема два или три онтологических элемента? Попадаем ли мы в особую онтологическую область, стоящую за

, или же перевод осуществляется таким образом, что позволяет нам остаться в области ЯИ, проводя над ним некие манипуляции ради превращения в ЯР, причем такие манипуляции не требуют выхода в другую онтологическую сферу?
I. Обойти, чтобы объяснить: можно ли понять перевод без признания его собственного онтологического статуса?
Сам факт перевода безусловен — тот факт, что мы можем переводить и что перевод осуществляется. Я думаю, все это знают, особенно профессиональные переводчики. Можно сказать, что перевод — это факт нашей повседневной жизни. Да, он осуществляется. Но благодаря чему он осуществляется?
Есть много книг, в названии которых фигурирует выражение «теория перевода» или что-нибудь близкое к этому. Но они не о том, о чем я бы хотел поставить вопрос. А этот вопрос звучит так: благодаря чему возможен перевод? Не «как осуществляется перевод», а именно «благодаря чему он возможен», то есть с какой стати он вообще происходит?
А вот этот вопрос, как мне кажется, по-настоящему не исследован. Его оставляют в тени, считая ответ на него то ли невозможным, то ли само собой разумеющимся. Ведь перевод есть, это факт; давайте же исследовать этот факт — так, мне кажется, в основном думают те, кто занимается проблемами перевода, от лингвистов до философов.
I.1. Постановка вопроса: что такое стрелка

?
На тему о том, как осуществляется перевод, какие виды перевода бывают и т. п., написано много хороших книг. Сошлюсь только на один пример — великолепная работа [Автономова 2008] о том, как делать перевод философских текстов, что такое язык философии и о многом другом. Но это ведь тоже книга о том, как делать перевод и какие трудности встречаются на этом пути. А мой вопрос немного другой: благодаря чему перевод вообще возможен; и только потом, я думаю, мы можем говорить, насколько он бывает удачен и что можно сделать, чтобы его улучшить.
В чем тут, собственно говоря, проблема? А проблема, мне кажется, абсолютно ясна. Она вытекает из схемы 1 и формулируется как вопрос: благодаря чему возможна стрелка

, которая переводит одни языковые конструкции в другие?
Меня, таким образом, интересует не то, как правильно построить фразу на испанском, английском, арабском или русском языке, когда мы переводим с какого-то другого языка, и какие бывают трудности, когда мы строим такую фразу. Меня
261
интересует, почему вообще стрелочка

может быть. Что дает ей право на существование — вот какой вопрос я хочу проблематизировать.
Почему это вопрос, почему это проблема? Потому что даже из такого простого рисунка, каким является схема 1, очевидно, что то, что служит посредником между двумя языковыми формами, должно носить неязыковой характер. Ведь если бы то, благодаря чему мы переводим с одного языка на другой, в свою очередь, носило языковой характер, то тогда и относительно этого можно было бы поставить вопрос: а как мы переводим с исходного языка на некий язык-посредник, а с этого языка-посредника — на результирующий язык? В таком случае вопрос о том, благодаря чему возможен перевод (а не как он осуществляется), не получает никакого ответа: вместо этого мы отправляемся в дурную бесконечность поиска оснований перевода на язык-посредник — первый, затем второй, и так без конца.
Прячась от этой бесконечности в раковине вопроса «Как осуществляется перевод?», мы имеем право оставаться в пределах схемы 1 и не подвергать ее оправданность сомнению; но мы не можем себе этого позволить, если спрашиваем о том, благодаря чему возможен перевод.
I.2. Ответы, которые мы знаем
Если этот вопрос и не стал до сих пор предметом специального вопрошания, это не значит, что такой вопрос вообще никогда не задавали. Конечно, задавали — и давали на него ответы. Это делалось в ходе других исследований, для которых наш вопрос, возможно, и не был основным, но все же вставал в ряду прочих.
Такие ответы распадаются на две большие группы.
I.2.1. В обход, через объективный мир
Первая представлена материалистическим, или редукционистским, типом ответов. В таких объяснениях или в такого рода теориях то, что стоит между двумя языками, сводится к чему-то, что имеет отношение к внешнему миру, к некоторой ситуации в нем. Нам говорят: по сути здесь нет никакой проблемы. Ведь межъязыковое взаимопонимание осуществляется реально, и все мы этому свидетели. Например, человек попадает в иноязыковую среду; некоторые даже испытывали это на собственном опыте. Мы оказываемся среди людей, говорящих на языке, которого мы вообще не знаем, — мы постепенно его выучиваем, и вот уже говорим на нем. Как это может быть? Дело в том, что есть внешний, объективный и общий для нас всех мир, есть ситуации в этом мире, к которым равно отсылает и тот и другой язык. Этот общий мир, точнее, каждая конкретная ситуация в нем и служит «посредником» между языками, их общим знаменателем и мерилом, позволяющим приравнять высказывание на одном языке к высказыванию на другом. Вот почему мы можем понять и выучить незнакомый язык, а потом и переводить с одного языка на другой.
262
Этот тип объяснений может быть схематично отображен следующим образом:
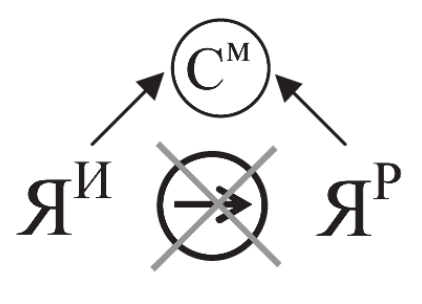
Схема 2
Здесь стрелка , по существу, обойдена: ЯИ и ЯР попросту приравнены1 через общий знаменатель СМ (ситуация внешнего мира).
С одной стороны, такое объяснение представляется убедительным, а с другой — оно довольно наивно, поскольку напрямую перескакивает от несомненного и многажды повторенного опыта ситуативного овладения незнакомым языком — к простому объяснению перевода через тождество ситуации-в-мире для носителей двух языков. Вспомним хотя бы предостережение Куайна — его рассуждение о кардинальном переводе. Пусть я стою рядом с туземцем и мы видим некое бегущее животное, причем туземец, показывая на него пальцем (то есть как будто ясно и однозначно отсылая к ситуации во внешнем мире), произносит: гавагай. Я в таком случае не знаю, на что он указывает: на целое ли животное, на его голову, на лапу или вообще на тот факт, что оно бежит.
Даже на таком простом примере видно, что отсылка к внешнему миру не может быть убедительной. Схема 2 представляется работающей только в том случае, если мы уже обладаем и правой, и левой ее частями, если у нас как будто имеются в голове оба языковых выражения, и дело лишь за тем, чтобы их приравнять, — а это совсем не то же самое, что перевод, когда мы должны произвести ЯР, изначально им не обладая.
Правда, даже в этом, упрощенном случае нам придется столкнуться с неприятным вопросом: а почему переходы ЯИ→СМ и ЯР→СМ возможны? Как такие совершенно разные субстраты, как внешний мир, данный нам в ощущениях, и языковое выражение, данное в неких формах языка, — как они могут быть приравнены? Что в них равного?
Думаю, что единственный ответ на такой вопрос заключается в том, что они имеют один и тот же смысл. Что это за «смысл» и как можно его «иметь» — вопрос, который я пока отложу, чтобы поговорить о нем позже. Сейчас же стоит отметить, что отсылка к внешнему миру вовсе не отвечает на вопрос о том, благодаря чему возможен перевод. Заменив стрелку

двумя стрелочками ЯИ→СМ и ЯР→СМ, мы ничего не добились по сути: нам все равно надо объяснить, благодаря чему
263
возможен перевод языкового выражения в некую ситуацию внешнего мира — такую, какой она дана нам в нашем сознании.
Вместе с тем этот вопрос не вовсе бессмыслен; может быть, даже напротив, он имеет очень серьезный смысл. Рассуждая об этом, мы открываем, что, может статься, мы и здесь имеем дело все с тем же переводом. Может быть, восприятие «внешнего мира» и его выражение в языке проходит стадию такого перевода? Вообще переход из одного «модуса» осмысленности в другой — проходит стадию перевода? Мы переводим музыку — в эмоции? Краски картины — в наши ощущения и образы? И т. д.? Весь мир, как он представлен в нашем сознании, — перевод; вся гамма нашего сознания живет как перевод, и без перевода наше сознание оказалось бы попросту невозможным? Перевод — как будто стержень, на который нанизаны очень разные слои нашего сознания, очень разные субстраты осмысленности.
Так перевод из «технической проблемы» (задумайтесь: всерьез предпринимаются попытки сделать машинный перевод) превращается в центральный скреп жизни сознания и его архитектоники. Может быть, вопрос о переводе — это вопрос о том, как работает машина сознания в ее целостности? Вопрос о том, как совершенно различное по субстрату содержание нашего сознания может иметь смысл, и при этом такое «иметь смысл» и оказывается основанием приравнивания одного к другому?
Заметим, что схема 2 отвечает на самом деле на вопрос о том, как приравнять два выражения на разных языках через их равную отсылку к внешнему миру, а вовсе не на вопрос о том, как можно перевести исходное языковое выражение в результирующее через отсылку к ситуации внешнего мира. Чтобы ответить на такой вопрос, нужна следующая иллюстрация:
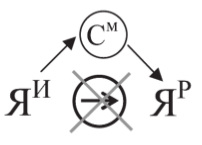
Схема 2 А
Здесь вторая стрелка (между СМ и ЯР) развернута в обратном направлении в сравнении со схемой 2.
Но теперь ситуация не только не стала проще в сравнении с исходной (схема 1), она, скорее всего, усложнилась. Теперь нам надо объяснять два шага, каждый из которых является переводом (вместо исходного одного шага), причем второй шаг, от ситуации внешнего мира — к ее выражению на результирующем языке, и вовсе способен поставить в тупик. Ведь мы теперь должны ответить на вопрос, как ситуация внешнего мира («немая ситуация») рождает языковое выражение, как внешний мир заставляет нас говорить, чтобы описать его словами. А этот вопрос не только не проще, он гораздо сложнее того, с которого мы начали: ведь стрелка

гораздо ближе к ЯР, нежели стрелка в выражении СМ→ЯР.
264
Вопрос можно поставить и так: действительно ли

устранена на схемах 2 и 2 А, или мы только сделали вид, что она устранена? Действительно ли можно пойти в обход и миновать необходимость

, избежав столкновения с тем, что стоит за ней?
Для этого надо ответить на вопрос: как на этих схемах возможны две обходные стрелки к СМ? Если за ними стоит чистая интуиция, если мы утверждаем, что интуитивно знаем, как языковое выражение соответствует ситуации внешнего мира, — тогда объяснение не научное, поскольку можно с таким же (если не с большим) успехом апеллировать к интуитивности

на схеме 1, которую мы и пытаемся объяснить. Если же мы попытаемся дать какое-то объяснение этих стрелок Яи→ СМ и СМ→ ЯР на схемах 2 и 2 А, то вопрос о том, благодаря чему они возможны, ничем не будет отличаться от вопроса о том, благодаря чему возможна стрелка

от Яи к ЯР . (Это и по существу верно, т. к. смысл является посредником и здесь.)
Отсылка к внешнему миру, если она не опирается на интуицию (когда мы видим — и понимаем, без всяких посредников, как это высказать в нашей речи: «немая ситуация» разрешается в говорение сама собой), предполагает непременно использование знаков. Остенсивное определение в кардинальном переводе Куайна не дотягивает до функции знака, поскольку в случае неизвестного языка никогда нельзя быть уверенным, что именно является обозначаемым. Но предположим, что мы нашли некий способ (например, проб и ошибок), который позволит преодолеть куайновское ограничение. Что тогда? Сможем ли мы, апеллируя только к внешнему миру и оперируя по необходимости знаками, — сможем ли мы научить того, кто не знает наш язык, — нет, даже не языку, а только лишь словам нашего языка?
Едва ли между мной и моей собакой есть какой-то посредник, кроме общего для нас внешнего мира. Повторяющиеся ситуации, в которых она слышит повторяющиеся слова, превращают для нее эти слова в знаки. Моя собака знает много слов. Они для нее приобретают семиотическую функцию, и когда она слышит их в другой ситуации, она воспринимает их в соответствии с тем значением, которое изначально усвоила. Более того, умная собака очень быстро пополняет словарный запас. Однако это касается только тех слов, которые могут напрямую отослать к некоторому объекту внешнего мира или к ситуации в нем.
Чему никогда нельзя научить таким образом, так это значению простого слова «и». Что во внешнем мире может служить объяснением этого слова, что может выполнить знаковую функцию для него? Как его можно обозначить? В том-то и дело, что ничто и никак. Если, конечно, мы не предполагаем, что уже знаем, что такое «и», и дело лишь в том, чтобы назначить для этого нашего знания удобный знак1; так
265
случается, например, когда мы учимся писать на родном языке, уже владея им как устным. Но я спрашиваю не об этом; я спрашиваю о том, как нам дать понять, что значит «и», тому, кто не знает этого. Как объяснить это? Человеку, не знающему русского языка, можно объяснить, «что такое “стол”», указав на какой-нибудь стол, посадив за стол, а еще лучше — отведя в магазин, где продаются столы, или на фабрику, где их делают. Но как этому же человеку объяснить, что такое «и»? Где фабрика, изготавливающая это значение? Где тот салон-магазин, в котором разные «и» выставлены на обозрение? Вот я и спрашиваю, может ли отсылка к внешнему миру заменить область, стоящую за стрелкой

на схеме 1. Да, может, причем для очень сложных слов — но не для такого простого, как «и»: оказывается, тут обойти стрелку

никак не удается. Это маленькое упрямое слово настойчиво отсылает нас к тому, что стоит за

, требуя всерьез, взаправду обратиться к этой области, а не пытаться найти обходной путь.
Это же касается ряда других слов: «или», «когда», «потом», «почему», отрицания «не-» (например, некрасивый5) и других. Есть целый класс слов, без которых наша речь не может обойтись, но которые не имеют никакого соответствия во внешнем мире, взятом как набор объектов или как набор всех возможных ситуаций. Это интересно: язык, который, как считают, выполняет знаковую функцию, содержит целый класс слов, которые не отсылают ни к чему во внешнем мире. Они не носят знакового характера.
Без таких слов не обходится не язык, а речь: в отличие от языка, речь характеризуется связностью. То, что обеспечивает связность, — а это, помимо упомянутого, связки, падежные окончания и многое другое, что относится к синтаксису, — не имеет непосредственного соответствия в мире; все это нельзя объяснить, просто отослав к некоему «общему знаменателю» языков — объективному миру или ситуации в нем. Значит, и здесь оказывается, что нам приходится апеллировать к чему-то еще, к чему-то помимо внешнего мира, — к чему-то, без чего невозможны ни связность, ни речь, ни языковые выражения, ни перевод.
Маневр в обход стрелки

в данном случае не удался — вот что мы можем констатировать. Это же и в силу тех же причин относится к любым разновидностям редукционистских подходов, включая известный деятельностный подход.
266
I.2.2. В обход, через идеальное
Второй тип ответов можно обозначить как «идеалистические». Это такие подходы, которые не сводят стрелочку

к чему-то материальному или имеющему отношение к объективному миру, к деятельности. Они идут от самой мысли; в самом общем виде нам говорят, что перевод между двумя языками возможен благодаря мысли, благодаря тому, что за языковыми формами стоит мысль.
В самом деле, люди отличаются тем, что обладают способностью мышления. Язык служит орудием мысли, язык выражает мысль. Конечно, есть и обратное влияние языка на мысль, но все-таки первична здесь мысль, и язык — лишь средство ее выражения. Если у нас есть одна и та же мысль и мы ее мыслим, то мы сможем ее высказать и по-русски, и по-арабски, и по-английски, или на любом другом языке, если тот язык позволяет это сделать. Или же мы выразимся близко к тому, что составляет нашу мысль. Но даже если язык не позволяет полностью выразить мысль, мы всегда будем осознавать зазор между мыслью и языком, и с этой точки зрения мысль все равно оказывается первичной: она стоит за языковыми формами и составляет для них «общий знаменатель».
Одна и та же мысль — вот что есть равного в разных языковых формах. Тогда, если мы уловили мысль М, выраженную в исходном языковом выражении Яи, нам не составит труда — при условии, что мы владеем результирующим языком, — составить выражение на этом языке ЯР, которое и будет переводом для исходного выражения Яи.
Эта стратегия объяснения перевода отображена на схеме 3.
Схема 3
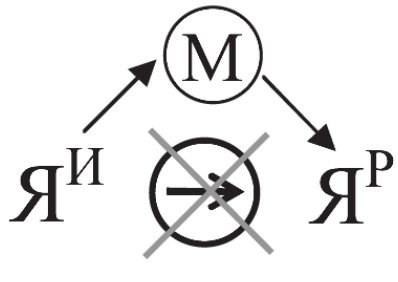
Объяснение как будто убедительное. Но загвоздка в том, что и тут может быть задан все тот же каверзный вопрос: а как и в чем выражена мысль? Имеет ли мысль, которая выступает здесь в качестве посредника, языковую или внеязыковую природу?
I.2.2.1. Мысль в естественно-языковых формах
Задав этот вопрос, мы попадаем в гущу полемики, когда-то столь активной, вокруг вопроса о том, может ли мысль обойтись без языка. Я хотел бы избежать соскальзывания в русло такой постановки вопроса; единственное, что я хочу сказать, — это то, что, если мы считаем, что мысль действительно выполняет роль посредника в переводе, она должна иметь внеязыковую природу и не может носить языковой характер.
267
В самом деле, если мысль имеет языковой характер, если, не получив оформления в языке, она и не мысль, а только какой-то подход и подготовка к ней, тогда мы попадаем в ситуацию, которую отражает схема 3 А:
Схема 3 А
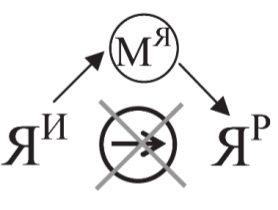
Мы здесь пытаемся обойти загадочную стрелку

, подставив вместо нее как будто более ясное преобразование ЯИ→МЯ→ЯР: исходное языковое выражение мы преобразовываем в мысль, которая также носит языковой характер, и далее эту мысль выражаем на результирующем языке1.
Но тогда перевод исходного языкового выражения ЯИ в языковое выражение мысли МЯ ничем не отличается от нашей изначальной задачи объяснить перевод этого же исходного языкового выражения ЯИ в результирующее языковое выражение ЯР. Собственно, если мысль имеет некое естественно-языковое выражение, то вместо МЯ (мысль, схваченная в языковом выражении) мы имеем полное право написать ЯМ (языковое выражение мысли):
Схема 3 Б

Теперь стало совершенно понятно, что представление о мысли как о непременно выраженной в каких-то формах естественного языка не дает возможности считать мысль общим знаменателем двух языковых выражений при переводе с языка на язык. Ведь перевод исходного языкового выражения на язык мысли (ЯИ→ЯМ) ничем не отличается от задачи межъязыкового перевода
ЯИ

ЯР: мы должны обозначить обходной путь вокруг стрелки

через языковое выражение мысли,
используя ту же самую стрелку, но только теперь ее придется употребить уже два раза:
ЯИ

ЯМ

ЯР . То, что претендовало на роль объяснения, само, оказывается, нуждается в точно таком же объяснении.
268
I.2.2.2. Мысль, выраженная
в «универсальных формах мышления»
Итак, думать, будто мысль как посредник в межъязыковом переводе может иметь естественно-языковую форму, нельзя. Заметим, что такой вывод однозначно следует из анализа стратегии перевода, хотя может оставаться спорным, пока мы рассматриваем только мысль и ее языковое выражение, пребывая в пределах одного-единственного языка. Таким образом, именно перевод делает заметным то, что может остаться незамеченным в других случаях: стрелка

обладает магическим свойством давать доступ туда, куда он обычно бывает закрыт.
Чтобы уйти от очевидных возражений, изложенных выше, говорят, что мышление, конечно, может облекаться в естественно-языковые формы, но гораздо более адекватным выражением для того, что подразумевается под мышлением, служат некие универсальные формы. Пусть они и имеют языковой характер, но, во-первых, это не какой-то один из множества естественных языков — это некий универсальный язык мысли. А во-вторых, поскольку эти формы универсальны для мышления (которое само, с точки зрения защитников этих теорий, универсально), они не требуют никакого специального объяснения, ибо схватываются интуитивно. Скажем, универсален язык математики, универсальны логические понятия и язык логики1.
Такой ответ многим кажется убедительным. Однако эта убедительность представляется мне эфемерной. Чтобы удостовериться в этом, достаточно задать вопрос: а возможна ли в принципе универсальная форма? Может ли быть найдена такая форма, которая была бы универсальной?
Функция формы — вмещать содержание. Возьмем любую универсальную (как обычно считают) логическую форму, например «S есть P». «Субъект есть предикат» — это чистая форма высказывания, в нее может быть вложено любое содержание: вместо S и P может стоять все что угодно, а «есть» — как будто бы универсальная форма связки между субъектом и предикатом. Что тут, собственно говоря, можно возразить против того, что это — универсальная форма? Вместо «есть» могут фигурировать любые эквиваленты на разных языках: они потому и эквиваленты, что за ними стоит это универсальное «есть», которое может быть выражено также и значком, т. е. неким, хоть и языковым, но уже универсальным логическим знаком, не зависящим ни от каких конкретных естественных языков, как от них не зависят «S» и «P».
Попробуем не поддаваться гипнозу внешней убедительности, подкрепленной известным авторитетом этого рассуждения, а вместо этого вникнем в его суть
269
и в существо использованных в нем понятий. Зададим простой вопрос: составляет ли связка «есть» чистую форму — или она представляет собой также и некоторое содержание? Нам говорят: это — чистая форма, потому что вместо нее могут стоять любые ее языковые выражения. Очень хорошо; но ведь не вообще любые, а только те, которые могут стоять. Пусть связка «есть» выражена каким-нибудь значком, например значком =. Теперь, если я хочу прочитать «S = P» по-русски, я заменю «=» на есть, равно или что-нибудь еще; читая ту же формулу по-английски, я заменю этот значок на is, equals или еще что-нибудь. Но на месте этих «еще что-нибудь» не может оказаться вообще «что угодно»: мы должны быть способны объяснить, что именно надо подставлять в естественных языках на место этой универсальной формы «=».
Иначе говоря, мы должны объяснить, каков смысл связки «есть»: она же не бессмысленна, мы же должны как-то узнавать, какое содержание она способна вместить, а какое нет. А такое объяснение и будет ее собственным содержанием.
«Чистая форма», таким образом, — это contradictio in adjecto, если только она не является вместе с тем и абсолютной формой. Да, абсолютная форма, форма форм была бы одновременно и чистой формой — если бы она была возможна, по меньшей мере с точки зрения нашего, человеческого сознания. Ведь абсолютная форма, чтобы быть абсолютной и вмещать любое и всё содержание, должна была бы сама не иметь вовсе никакого содержания, т. е. — с этой точки зрения — должна была бы быть ничем.
Итак, «есть» не является чистой формой — это форма, начиненная содержанием. Так форма для выплавляемой стали может вместить любую сталь в мире — но не ту, из которой состоит сама: прежде чем первая в мире плавка начнется, эта сталь уже должна быть выплавлена. Так и наше «есть»: мы должны уже знать, что есть это «есть», т. е. должны иметь в уме высказывание формы «S есть P», где вместо «S» стоит «есть», прежде чем начнем оперировать этой «универсальной» формой.
Это же можно выразить и иначе: если «S есть P» действительно универсальная форма, значит, она должна включать и саму себя в качестве вмещаемого ею содержания. Чтобы узнать, что же она значит, мы должны построить другое высказывание той же самой формы, в котором вместо «S» будет стоять вся эта формула «S есть P». Но и относительно этого объяснения будет задан тот же вопрос: объяснение, что означает универсальная форма высказывания «S есть P» (каков смысл этой универсальной формы1), в силу ее универсальности предполагает именно ее использование как объясняющего инструмента, и т. д. до бесконечности2.
270
В общем виде применение идеи «универсальных форм мышления» к нашей проблеме перевода отражено на схеме 4:
Схема 4
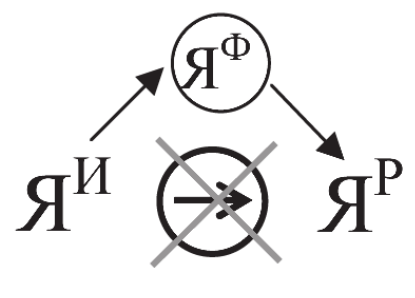
Здесь ЯФ обозначает любой формальный или формализованный язык, претендующий на то, чтобы быть выразителем универсальных форм мышления.
Как видим, обходной маневр вокруг стрелки перевода

с помощью двойной отсылки ЯИ→ЯФ→ЯР не представляет собой ничего принципиально нового в сравнении с уже рассмотренными схемами. Если мы переводим естественно-языковое высказывание в формально-языковую форму (например, высказывание «всякий субъект несет предикаты» — в форму «S есть P»), то мы должны, во-первых, прежде объяснить, что такое «S есть P» (с неизбежным уходом в дурную бесконечность), а во-вторых, разъяснить правила перевода естественно-языковой формы в формально-языковую. Но в таком случае стрелочка → превращается именно в стрелку перевода

: мы опять не смогли ее обойти, так ничего и не достигнув своим маневром.
Единственный способ избежать данного возражения — сказать, что смысл формулы «S есть P» не нуждается в объяснении, что он и так ясен, что он постигается интуитивно. Иначе говоря, сказать, что эта универсальная форма (наряду с каким-то количеством других форм) — первичная для нашего сознания, что она не может не быть усмотрена любым пытливым умом с полной ясностью. И если она не открывается любому прохожему на улице, то лишь в силу того, что тот не сосредоточен именно на таком усмотрении; достаточная тренировка приведет к «припоминанию» такой первичной очевидности.
Именно к этому в конечном счете сводятся все объяснения, точнее, все попытки объяснения: на самом деле стремление разъяснить, что значит универсальная форма «S есть P», т. е. объяснить нам, когда мы можем ее применять, а когда не можем, какое содержание в нее можно вкладывать, а какое нельзя, — любые попытки такого рода до сих пор заходили в тупик, так что эта и ей подобные «универсальные формы мышления» объявлялись интуитивно ясными, как будто первичными данностями нашего сознания, которые в силу этой первичности и не нуждаются в объяснении.
В такой апелляции к очевидности и интуитивной данности нет ничего плохого — если только подобная апелляция обоснована; иначе говоря, если невозможно показать, что формула «S есть P» не является инвариантом, что она на самом деле представляет собой не более чем вариант, допускающий — наряду с собой — другие варианты1. Именно это и было сделано в предыдущих разделах книги:
271
процессуально-ориентированное мировоззрение и развивающееся в его рамках мышление предполагают другой тип связи субъекта с предикатом, предполагают иные, нежели в случае «S есть P», отношения между семантическими областями субъекта и предиката и другую логику1.
Мы обсуждаем здесь проблемы перевода; и если мы согласимся, что некий формализованный язык мысли интуитивно ясен (так что не нуждается в обосновании своего права на существование) и универсален для разных языков, то он и сможет служить посредником между разными языковыми формами. Мне кажется, такое убеждение повсеместно разделяют те, кто через формальный анализ языка пытается построить алгоритмы автоматизированного перевода с языка на язык. Подобные попытки осуществляются в полном соответствии со стратегией, отраженной на схеме 4. Но если для «универсальных форм мысли» мы еще могли согласиться с их интуитивной ясностью (если, конечно, не принимать во внимание сказанное абзацем выше), то для формальных средств описания языка это едва ли можно принять. Ведь формальные средства описания языка настолько громоздки, занимая куда больше места, чем описываемые ими речевые формы, и настолько изощренны и сложны, что ни о каком самоочевидном «усмотрении» их не может быть и речи.
Но коль скоро формальный язык описания языка2 не самоочевиден, а формулируется с помощью определенных правил, то относительно перевода с естественного языка на такой формальный язык описания языка должен быть задан все тот же вопрос о том, что обосновывает стрелку перевода

: она не может быть самоочевидной в данном случае. Формальный язык описания языка оказывается лишь еще одним языком, а потому попытка объяснить перевод с помощью единых средств формализации для разных языков не может иметь успеха и дать возможность обойти стрелку перевода

: мы все равно должны знать, как перевести с естественного языка на формальный язык языка, а затем — как проделать обратную работу3, превратив формальное описание исходного языкового высказывания в высказывание на результирующем языке.
272

И еще одно замечание. Формальный язык языка представляет собой усложненную и доведенную до своего совершенства стратегию «перевода по правилам», которую наверняка применяли все, кто когда-нибудь начинал учить иностранный язык с учителем или по учебнику. Успех этой стратегии окрыляет, особенно на первых шагах овладения незнакомым языком, когда вдруг происходит чудо — рождается способность осмысленно говорить на прежде неизвестном языке. Но такое бывает только в самых простых случаях (вроде фраз типа «S есть P»), да и то не всегда до конца удачно. Подлинный перевод никогда не совершается по эксплицитным правилам (при всей неотменяемой важности правил — но лишь в качестве вспомогательного, в основном контрольного, средства1); он напрямую окунается в ту область, которая обозначена на схеме 1 стрелкой

I.2.2.3. Общий вывод о попытках перевода
через языковое выражение мысли
Итак, мы можем сделать следующий вывод. Если посредником в переводе между двумя языковыми формами служит мысль и при этом мысль выражена в языке, естественном или формальном, тогда все ситуации сводятся к следующей: с исходного языка мы должны перевести на язык-посредник, а затем с этого языка-посредника — на результирующий язык. С помощью такого объяснения мы не отвечаем на вопрос, благодаря чему возможна стрелка перевода

; наоборот, мы подставляем еще одно, лишнее, звено в цепочку перевода, и теперь нам придется объяснять даже больше, чем было нужно вначале.
I.2.3. Мысль, не имеющая языковой формы: чистая мысль
Представление о языковом выражении мысли — неважно, естественно-языковом или формально-языковом — не помогает решить проблему обоснования перевода. Тогда, может быть, следует отрицать языковой характер мысли? Может быть, естественная стихия мысли — не языковая?
273
Схема 5
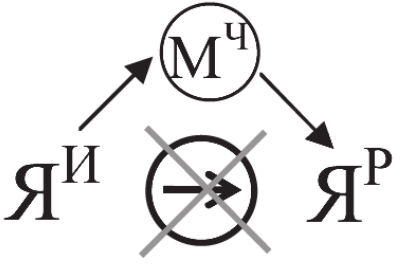
На схеме 5 я использую значок МЧ, чтобы обозначить чистую мысль. Ведь мысль, лишенная облачения языка, становится чистой мыслью, мыслью как таковой. Но что это такое?
В самом деле, путь ЯИ→МЧ→ЯР ничем не отличается от обозначения перевода как
ЯИ

ЯР, к которому мы прибегли на схеме 1. Преобразования →МЧ→ стоят на месте

, в определенном плане раскрывая эту загадочную стрелку перевода

. Ведь чистая мысль не имеет языковой формы, а потому переход от языкового выражения ЯИ к чистой мысли не является переводом, во всяком случае, он не является переводом в том же смысле, в каком перевод отображен на схеме 1 как

Так что же такое чистая мысль — то, что может служить посредником между языками, но само не имеет языковой природы? Что такое чистая мысль, как не чистый смысл?
Мне кажется, такой ответ напрашивается сам собой. Мысль, лишенная средств выражения, есть чистый смысл — то, что не может быть непосредственно выражено. От этой невыразимости всегда пытались скрыться, видя в ней неопределенность, субъективность, психологизм и невозможность построить твердое знание. Но, может быть, чистый смысл лежит в основе всякого выражения? И любое языковое выражение только потому имеет смысл, что в его основе — чистый смысл?
Наш вопрос, заданный о переводе: «Благодаря чему возможен перевод?», получает, таким образом, свой предварительный ответ. Перевод возможен благодаря тому, что в основе любого языкового выражения лежит чистый смысл. Перевод — если это подлинный перевод, а не подстановка слов по выученным алгоритмам — проходит стадию чистого смысла. Это — самостоятельная область, с собственными законами. Совершенно особый статус перевода, выделяющий его из прочих видов интеллектуальной деятельности, заключается в том, что перевод не позволяет игнорировать наличие этой области; самим фактом своего существования перевод подводит нас вплотную к этой области — вплотную настолько, что далее делать вид, будто ее не существует или она не подвластна нашему рассуждению, уже нельзя.
II. Область перевода

как чистый смысл
Мне кажется, мы должны ясно сказать: объяснить феномен перевода нельзя, если не признать как самостоятельную и полноправную область чистого смысла. Без такого признания перевод с языка на язык — то, с чем мы имеем дело повседневно, — оказывается попросту невозможным, поскольку, как мы убедились,
274
любые обходные пути вокруг этой области на самом деле таковыми не являются. Дело обстоит так, что в обход чистого смысла попросту нельзя пойти, поскольку в основе любого перевода лежит прикосновение к нему. В любом случае мы обречены на то, чтобы производить усилие осмысления, без которого ни один шаг на схемах, которыми мы иллюстрировали разные понимания перевода, просто не может состояться.
Итак, признание чистого смысла как самостоятельной области — это первое, что мы должны сделать. Но дело даже не в этом признании как таковом (хотя оно крайне важно); дело в том, куда мы сможем двинуться дальше.
II.1. Фундаментальность чистого смысла
В самом деле, что такое чистый смысл? Как с ним работать? Как правило, этого понятия боятся, от него стараются поскорее избавиться. Ведь если чистый смысл не имеет языковой природы, значит, он не может быть объективирован, он не может быть предъявлен другому как таковой. Следовательно, он интуитивен либо, как любили говорить когда-то, имеет чисто психологическую природу. Так или иначе, с ним нельзя научно работать. Ведь для этого его надо каким-то образом продемонстрировать. А как его можно предъявить? Предъявляя его, мы неизбежно строим некоторое развернутое высказывание. Мы окунаемся тогда в стихию речи — и выходим из той области, что обозначена на схеме 1 как

: мы уже в области языковых выражений, неважно, ЯИ или ЯР. Это — дискурсивные области; а чистый смысл имеет принципиально недискурсивную природу. Как же тогда можно научно говорить о нем?
Как мне представляется, боязнь оказаться в этой неразрешимой ситуации и заставляет искать обходные пути. Но я думаю, что никакого обходного пути нет, и нужно честно признать: да, эта стадия чистого смысла не может быть исключена из нашего разговора.
Думаю, любой может понять, что имеется в виду, спросив себя: что стоит за любой моей мыслью? Вот я высказываю некую мысль вслух; это — дискурсивное высказывание, здесь слова следуют одно за другим и образуют фразу или несколько фраз; в результате моя мысль оказывается высказанной. Но где была эта моя мысль до того, как я дискурсивно оформил ее? Не станем же мы утверждать, что те же самые слова были выстроены в моей голове в невысказанной форме, чтобы потом получить звуковое оформление. Каждый знает по своему опыту, что это не так. А даже если бы это было и так, то что предшествовало этому невысказанному словесному оформлению мысли? Я думаю, что и здесь мы должны признать, что имеем дело с чистым смыслом, который лишь затем обретает дискурсивную форму. Но если такая трактовка может оставаться спорной, пока речь идет о моей мысли и ее словесном выражении, то она совершенно бесспорна, когда мы говорим о переводе. Вот в этом, повторяю, особая заслуга рассуждения о переводе: оно показывает с абсолютной ясностью, исключающей какое-либо сомнение, фундаментальность чистого смысла.
275
Это положение, с моей точки зрения, имеет значение, выходящее далеко за пределы вопроса о переводе: чистый смысл — это то, что лежит в конечном счете в основании всего, но что само не обосновывается далее. Иначе говоря, чистый смысл — это то, к чему восходит любое содержание нашего сознания: все оно имеет смысл, но «иметь смысл» и значит иметь отношение к чистому смыслу. Мир, как он дан нам в нашем сознании, наш внутренний опыт и наш внутренний мир представляют собой осмысленность — то, что производно от чистого смысла.
Я высказываю здесь это положение, никак не аргументируя и не раскрывая его; моя цель лишь отметить, что рассматриваемые в связи с переводом вопросы имеют куда более широкое значение, нежели проблема обоснования феномена перевода.
И все же — что мы можем делать дальше? Пусть мы согласимся со всем, что было сказано относительно чистого смысла; но что из этого? Как с этим работать, что это дает для нашего познания? Чем такое признание лучше, нежели уже упомянутая отсылка к «чистой мысли», не имеющей языкового выражения и потому остающейся самозамкнутой?
Вернемся к переводу. Перевод проходит через ту стадию, когда в голове переводящего образуется что-то, что мы не можем выразить дискурсивно, то есть развернуто. Это то, к чему мы приходим, когда слышим исходную фразу на языке оригинала и пытаемся ее осмыслить: совершив усилие осмысления, придать этим словам смысл. (Как видим, смысл и то, что с ним связано, играет здесь первоосновную роль.)
Конечно, это происходит всегда, когда мы слышим речь на знакомом языке; я думаю даже, что это происходит всегда, когда мы воспринимаем что-либо, а не только слова знакомого языка. Но здесь речь идет о переводе; а перевод со всей силой показывает нам неизбежность этой стадии чистого смысла, когда развернутость сворачивается в некую целостность: в некую свернутость, которая таится у нас в душе и которая потом разворачивается как высказывание на результирующем языке.
Так делается хороший перевод; почему такой перевод хороший? Потому что в таком случае фраза на результирующем языке строится так, как если бы она была оригинальной, то есть как если бы переводчик собственно и был оратором, высказывающимся на этом языке; как если бы он это сказал, а не переводил. В этом смысле вторая половина процесса перевода, отображенная на схеме 1 как

ЯР, ничем не отличается от любого акта говорения: когда я дискурсивно выражаю свою мысль, я превращаю чистый смысл в языковое высказывание.
II.2. Связность: осмысленность как след целостности

Описывая то, что происходит при переводе, когда мы притрагиваемся к области чистого смысла, обозначенного стрелкой
, мы назвали основные слова, которым суждено стать понятиями, позволяющими сделать чистый смысл пространством рассуждения, организовать работу с ним.
276
Чистый смысл представляет собой целостность. Целостность — это то, что присутствует всё-вместе, но не одно за другим; не дискурсивно, не развернуто. Целостность предполагает любую развернутость, но не является никакой из них. Целостность может быть всем, но не является сама ничем из этого.
Содержание нашего сознания, текст в книге, которую мы читаем, речь, которую слышим, и многое другое — все это имеет смысл. Иметь смысл — значит иметь отношение к чистому смыслу; значит быть развернутой формой того, что представляет собой чистый смысл как целостность. Целостность — это свернутость; сжатость, как будто в комок, как будто в клубок, который может развернуться и принять дискурсивную форму.
То, что имеет смысл (как об этом было сказано выше), я называю осмысленностью. Осмысленность — не сама целостность; осмысленность — это след целостности. Иначе говоря, во всем, с чем мы имеем дело как с содержанием нашего сознания, мы можем увидеть и уловить — не саму целостность, а тот след, который она оставила и только благодаря которому все это имеет смысл.
Этот след целостности представлен как связность. Работать с осмысленностью — значит работать со связностью: изучать ее виды, как она организована, какие формы проявления получает, как выявляет себя и т. п. Как мне представляется, связность — наш ближайший подступ к чистому смыслу. Если мы и не можем иметь дело непосредственно с ним, — притом что все наше знание — не более чем развернутость той целостности, той свернутости, которая и является чистым смыслом, — то мы все же можем вполне научно идти по его следу, изучая связность. Мы не случайно часто отождествляем связность и осмысленность: бессвязную речь называем бессмысленной, бессвязность сознания считаем признаком душевной болезни.
II.3. Перевод как работа со связностью
Спроецируем эти общие положения на нашу тему. Стрелка перевода

— это стрелка раз-вязывания и за-вязывания связности. Перерезывание нитей связности разрешает исходное языковое высказывание ЯИ в чистый смысл; а стягивание его заново нитями новой связности превращает в высказывание на результирующем языке ЯР.
Эта операция раз-вязывания и за-вязывания выводит нас за пределы поля дискурсивного сознания; хороший перевод осуществляется тогда, когда переводчик не осознает, как же он происходит. Это и не может быть фиксируемо нашим сознанием: оно работает не с тем, что целостно, а с тем, что связно; следовательно, пересечение границы связности и целостности не может быть зафиксировано нашим сознанием, поскольку для этого оно должно было бы оказаться по обе ее стороны — а это для него невозможно.
Благодаря чему возможен перевод? Благодаря чему он осуществляется? С этого вопроса началось это исследование. Я могу теперь предложить свой ответ на него: перевод возможен благодаря тому, что связность исходного высказывания, пройдя
277
стадию чистого смысла, превращается в связность результирующего высказывания. Эта операция перехода через чистый смысл, операция раз-вязывания и за-вязывания связности совершается переводчиком. Если она и может быть автоматизирована, то никак не на тех путях, на которых это пытаются сделать сегодня: они в принципе не ведут к успеху, поскольку не учитывают сущность перевода, его принципиальную «технологию».
Понять, как происходит перевод, — значит овладеть тайной чистого смысла. Об этом речь пойдет в исследованиях, для которых эта книга подготовила почву и которые сейчас только задумываются. Моя задача здесь гораздо скромнее, и я не буду говорить об этом. Зеркальное название задает двучастное направление исследования. В первой части я считаю задачу выполненной; мне остается теперь сказать о том, какое применение найденное теоретическое решение может найти в конкретной практике перевода арабских философских текстов.
Если перевод — это пере-завязывание связности, то контроль за адекватностью и качеством перевода — это контроль за сохранностью связности. В случае, если связность получит ясное, а еще лучше — формализованное выражение, такой контроль будет осуществляться объективно, а значит, понятия «адекватность» и «качество», которые обычно считаются смутными, если вообще имеющими право на существование, обретут четкие очертания.
Работа в этом направлении обязана быть серьезной и системной. Здесь я лишь набросаю принципиальные контуры движения в направлении этой цели, как я их вижу сегодня. Это и будет выполнением второй части поставленной задачи.
II.4. Связность связности: уровни фиксации и их взаимозависимость
Сужая задачу разговора о связности до рамок, заданных темой этого рассуждения, я буду говорить о связности как следе целостности, который должен быть замечен в словесной области, т. е. в области устной или письменной речи.
Здесь я выделю три уровня, на которых можно говорить о связности. Это уровень целого текста; уровень фразы; уровень лексической единицы.
Нельзя сказать, чтобы такое деление было неожиданным: оно представляется скорее очевидным, интуитивно ясным. Но давайте попробуем дать себе отчет в том, почему именно такое трехчастное деление оказывается, с одной стороны, достаточным, а с другой — исчерпывающим. Почему нет никакого дополнительного уровня, который можно было бы присоединить к этим, и почему в то же время ни один из них нельзя изъять? Почему именно эти три уровня необходимы и достаточны — они необходимы и достаточны для чего? Почему ни один из них не сводится к другим и в то же время все они взаимосвязаны?
Эти три уровня — уровни фиксации связности. Текст — это то, в чем мы выделяем части и целое. Части связываются в целое и связаны с целым; связность текста — это связность его частей. Принцип связности целого-и-части — вот основание выделения уровня текста как особого.
278
Целое не случайно созвучно целостности: это как будто ее отражение. Целостность, в отличие от целого, не состоит из частей; и все же целое стремится к целостности, пытается сгладить швы и зазоры между своими частями, как будто хочет представить их как не задерживающие беспрепятственного движения смысла.
Целое (текст) задано как нечто. Такое «нечто» — не вещь, но и вместе с тем что-то близкое к этому. Текст бывает о чем-то, текст обычно раскрывает какую-то тему. Тема — то, что суммирует целое текста; а целое разворачивается в своих подробностях-частях1.
Второй уровень связности — фраза. Фраза фиксирует вещь, давая нам субъект-предикатную конструкцию. Но вещь должна быть не просто зафиксирована как наличная; вещь по самому своему смыслу непременно должна быть задана как отличная от всех других вещей. Локальность вещи, иначе говоря, требует ее раскрытия; вещь не может не быть наполнена содержанием, хотя бы минимальным. Фиксация вещи (ее субъектность: онтологическая функция связки) неотъемлема от раскрытия ее содержания (предикативная функция связки).
Вот почему фраза необходима — как особый уровень связности, как особый уровень формирования осмысленности. Связанность субъекта и предиката — ядро фразы: без этого она невозможна2. Но фраза может не ограничиваться ими; фраза может как будто разжиматься, заполняя все больший объем. И все же где-то мы ставим точку; где-то исчерпываются естественные пределы разворачивания фразы. Там берет начало другая фраза; но эта другая фраза должна быть непременно связана с предыдущей, прямо или косвенно. Так фразы становятся частями связного целого — текста.
И наконец, отдельное слово. Здесь связность наименее очевидна; даже как будто совсем не очевидна. Действительно, отдельное слово как раз отделено ото всех остальных: оно взято как таковое, положено под микроскоп и может быть анатомировано. Оно помещено в реестр словарей под своим инвентарным номером; засушенное и наколотое на булавку, оно теперь может связываться с другими словами, образуя расплавленную магму смысла, не более чем бабочка в коллекции под стеклом — летать по лесу.
Словарная работа с отдельным словом предполагает и особые приемы, нацеленные как раз на его отдельность и отделенность. Если речь идет о переводе, в действие вступает принцип отдельного приравнивания. Коль скоро слово понимается
279
как отдельное, то и эквивалент ему ищется как отдельный. В идеале, конечно, словарное соответствие между лексикой двух языков должно было бы быть взаимно-однозначным: одному слову соответствует одно, и только одно слово другого языка. Каждый знает, что так не бывает; но это обычно рассматривается как существенный недочет и принципиальный изъян живого языка, вечно разгоняющего смысл отдельного слова так, что он перехлестывает через отведенные ему пределы.
Эти пределы, впрочем, существуют только в сознании тех, кто хотел бы добиться от слов абсолютной определенности, — такой, какой не бывает даже у терминов. Коль скоро эта цель неосуществима в живых языках, можно (и нужно), считают они, придумать искусственный язык — язык, в котором точные границы слов обрели бы наконец искомую нерушимость.
Если фраза и текст — это уровни связности речи, то слово, понятое и взятое как отдельное, не таково. Слово — не речь; вопрос, однако, в том, может ли оно развернуться в речь? И может ли речь свернуться в слово? Взято ли слово из речи, так что сохраняет, как бы мы ни пытались их обрубить, живые связи с другими словами, а главное, свою способность выстраивать связность? Или, напротив, оно может быть сконструировано «с нуля», задано в намеченных конструктором слов пределах, чтобы не переступать их? И всегда, подобно кирпичику, точно ложиться в заранее очерченную ячейку, чтобы вместе с другими словами-кирпичиками образовать выстраиваемое здание речи?
Я думаю, что второе невозможно. Сколь бы ни казалось это желанным и привлекательным конструкторам искусственных языков, мечтающим построить их по аналогии с формальными «языками» (например, языком математики), — все же это останется невозможным. В речи на естественном языке присутствует то, чего нет и не может быть в формальном «языке» как таковом, взятом без своей естественно-языковой «оболочки», — в нем присутствует связность. Только связность придает осмысленность; пытаясь обрезать нити связности ради искомой «точности», конструктор искусственного языка делает его нежизнеспособным. Такой язык можно сконструировать, и он как будто не будет отличаться ничем от естественных языков, как их представляет лингвистика: словарный запас, грамматика, включающая правила синтаксиса. Но из него уходит связность; он теряет живую способность продуцировать речь.
Эта живая способность, это свойство связности едино для всех уровней языка; оно вовсе не локализовано в синтаксисе, как часто думают. «Отдельное» слово никогда не бывает отдельным и отделенным в живом языковом сознании носителя языка: оно всегда связано тысячью связей со всеми другими словами. Слово объяснимо изнутри языка (точнее, изнутри речи, которая реализует эту связность): для слова настоящего языка не нужно внешнее определение. Слово имеет смысл не потому, что кто-то в него этот смысл «вложил», записав в словаре; слово имеет смысл потому, что включено в тотальную языковую связность.
Мне кажется, такому взгляду очень хорошо соответствует идея тезаурусного подхода к передаче инокультурной терминологии, которую выдвинул и развивал
280
наш выдающийся синолог Г. А. Ткаченко. С его точки зрения, тот или иной термин китайской культуры может быть объяснен не за счет его приравнивания к одному или нескольким словам, взятым из лексикона нашей культуры, пусть с любыми уточнениями и оговорками (например, «“дао” — это “путь”, но — не такой, как…, а скорее такой, как…» и т. п.). Он предложил совершенно другой способ: работать с термином не как с отдельным словом, значение которого задается внешним образом, благодаря некоторой исследовательской операции. Значение слова, с его точки зрения, должно вырастать изнутри, из системы связей с другими терминами1.
Я думаю, что тезаурусный подход имеет гигантские перспективы развития и эвристические потенции. А для философии он попросту незаменим, поскольку философская лексика отличается высочайшей степенью системности и связности. Здесь, в философии, связность разных уровней просвечивает наиболее отчетливо: мы ведь знаем, что философская система (т. е. макротекст) — не более чем развернутая система понятий (т. е. тезаурус философской лексики). При переводе философских текстов тезаурусный подход позволяет высветить эту связность связности, и в идеале — превратить тезаурус в потенциально развернутый текст2. Выполнение такой задачи предполагает разработку всех вопросов, относящихся к проблеме связности, как они были намечены здесь.
281
 |

|
Все мы говорим на языке. Но не существует языка вообще: любой реальный язык — вариант, а не инвариант. Мы говорим не просто на языке, но на разных языках.
Если мы говорим на разных языках, это различие языков должно быть каким-то образом преодолено, чтобы была возможность сохранить местоимение мы.
Такое сглаживание различия языков реализовано как перевод и осознано как приравнивание.
Данное положение станет ключевым в нашем рассуждении. Мы будем рассматривать практику перевода и говорить о том, как она возможна, перемещаясь от опыта к теории и обратно. Это движение приведет к выводам, которые сформулированы в заключении.
Стратегии перевода
Можно выделить четыре стратегии сглаживания различия языков через их приравнивание.
Первая и третья заключаются в поиске инварианта для разных языков. В одном случае такой инвариант отыскивается внутри языковой стихии, в другом — вне ее. Вторая из четырех стратегий предполагает прямое приравнивание языков, их непосредственное отождествление. Последняя нацеливает на нахождение тождественности языков за счет их логико-смысловой перекодировки.
Первая и третья стратегии являются чисто теоретическими конструкциями, вторая и четвертая основаны на практике.
В первом случае перевод понимается как сведение к общеязыковому инварианту (единому языку), во втором мы имеем перевод как прямое отождествление языков, в третьем — как сведение к внеязыковому инварианту (к общей логической форме), в четвертом — как инициирование оригинального высказывания через логико-смысловую трансформацию. Само собой разумеется, что везде здесь речь идет не о языках как таковых, а о развернутых текстах на разных языках.
282
Первая стратегия является прожективно-мифологической, вторая стихийно практикуется непрофессиональными переводчиками, третья характерна для современной лингвистики и философии языка, четвертая сформулирована мною, отражает практику хорошего перевода и разрешает теоретические трудности, непреодолимые в первых трех случаях.
Перевод как общеязыковой инвариант
Сглаживание различия языков означает достижение их единства. Но достижение единства языков уже выводит нас за пределы множества реальных языков. Это обусловлено тем, что нет языка, единого для всех.
Можно считать, что причина такого положения в том, что подобный язык еще не создан, что проект эсперанто в принципе осуществим и осталось только провести его в жизнь. Можно верить, что такой язык, некогда существовавший, теперь утрачен. Эти «еще не создан» и «уже утрачен» остаются, впрочем, лишь гипотезами, основанными на предположении о принципиальной возможности единого языка, который стягивал бы всё многообразие выразительных способностей реальных языков. Насколько оправданы в принципе такие образы единого языка? Я дам свой ответ на этот вопрос.
Итак, первый способ выхода за пределы реальных языков в поиске их единства — конструирование единого языка. Перевод здесь представляет собой «перемещение» из области какого-то из множественных языковых вариантов в пространство единого языкового инварианта. Приравнивание языков в этом случае означает нахождение той абсолютной языковой полноты, которая реализована как единый для всех инвариант.
Перевод и непереводимость
Поскольку в действительности люди не обладают единым языком, они вынуждены окунаться в стихию перевода.
Языки различны; при этом разные языки необыкновенно похожи. Сходство языков подтверждается возможностью перевода с языка на язык.
Наряду со сходством мы наблюдаем не просто различие, но и расхождение языков, доходящее до их несоизмеримости. Такую несоизмеримость выражают как непереводимость.
Оппозиция «переводимость-непереводимость» хорошо выражает единство языков и их несводимость. Когда мы говорим о языках, эти две стороны неотъемлемы одна от другой. Они высвечены в фокусе перевода.
«Перевод возможен всегда» — это утверждение выражает скорее уверенность практика, нежели сомнения теоретика.
«Перевод невозможен никогда» — здесь звучит сигнал тревоги, который подает теория. В самом деле, благодаря переводу переводимое и переведенное обретают
283
тождественность. Но достижима ли она? Возьмем самый простой случай. Стул и chair — разве они тождественны? Очевидно, нет; многозначность, соозначение, игра звучанием — все это различно в двух языках. Это заставляет утверждать, что приравнять стул и chair, строго говоря, нельзя.
Перевод как прямое отождествление
На это «строго говоря» можно было бы, конечно, закрыть глаза и отделаться замечанием вроде того, что «с некоторой долей условности» отождествление все же произведено и перевод, следовательно, достигнут. Тонкости коннотаций и аллитераций имеют значение лишь для узкого круга знатоков, ученых и педантов. Обычному человеку это ни к чему, и, если, указав на некоторый предмет рукой, мы услышим от англичанина chair, а от русского стул, ничто не помешает нам отождествить их.
Высказав такое соображение от здравого смысла, посмотрим, сможем ли мы его удержать. Для этого рассмотрим два примера из повседневной жизни.
Находясь в стране, языка которой не знаем, мы будем пытаться объясниться с помощью разговорника. Вскоре в глазах собеседника мы заметим недоумение, вызванное не столько нашим неудачным произношением (в конце концов, можно просто ткнуть пальцем в напечатанную фразу), сколько тем, что так не говорят. Нашему визави придется проделать определенную работу, чтобы перевести фразу или слово разговорника на понятный для него язык. Прямое отождествление того, что мы хотим сказать, со словами и фразами разговорника должно было, казалось, обеспечить самое главное — понимание сути, пусть и с потерей соозначений и красоты звучания слов. Однако этого зачастую не происходит, хотя мы действуем по заданному шаблону, призванному обеспечить тождественность слов и выражений двух языков.
Рассмотрим другой пример подобного приравнивания слов, выражений, грамматических конструкций двух языков. Я имею в виду машинный перевод. Его успех вполне сопоставим с переводческим успехом человека с разговорником в руках. Сейчас компьютерные программы перевода усовершенствованы настолько, что способны решать простые переводческие задачи, напрямую приравнивая шаблонные выражения и фразы благодаря изощренным алгоритмам соотнесения с образцами реальной речи. В этом их сила, но в этом и слабость: они могут действовать только на ограниченном поле и окажутся бессильны перед сложными задачами, выходящими за пределы ограниченного набора трафаретов.
Эти два примера, сколь ни различны, схожи тем не менее в одном: на роль переводчика здесь претендует некто или даже нечто, не владеющее языком перевода. Может быть, дело просто в языковой некомпетентности; иначе говоря, не исключено, что перевод как прямое приравнивание двух языков (слов, выражений, грамматических конструкций, текстов) проваливается лишь в силу недостаточной квалификации переводчика, а вовсе не потому, что он невозможен в принципе. Каждый, кто учил язык традиционным способом в школе или с репетитором, много раз совершал такое приравнивание, отождествляя слова и фразы своего языка с языком изучаемым.
284
По мере наращивания языковой компетенции успех становится все ощутимее; может быть, дело действительно лишь в недостаточном владении языком?
Возьмем абсолютный в этом смысле пример билингвов. Есть люди, для которых два языка (а то и больше) являются по сути родными. Здесь не может идти речь ни о каком недостатке языковой компетенции. И тем не менее хорошо известно: быть билингвом и быть переводчиком — вещи разные. Многие совершают ошибку, отождествляя знание двух языков со способностью переводить с одного языка на другой. Среди профессиональных переводчиков есть билингвы, но они учились переводу, как учатся ему все. Кто не постиг секреты этого ремесла, останется, как бы хорошо ни знал оба языка, неспособным совершить этот простой на вид акт — приравнять один язык к другому. Конечно, билингв способен свободно изъясниться и понять речь на любом из двух языков. Однако изъяснение и понимание речи на каждом из двух языков и перевод между двумя языками не тождественны.
Оказывается, дело не только в знании языка. Чтобы перевод состоялся, надо не просто знать два языка, но и уметь переводить.
Но что значит «уметь переводить»? Чтобы решить, как происходит перевод и возможен ли он, надо обратиться к практике хорошего перевода.
Хороший перевод
Возможность хорошего перевода, известная профессиональным переводчикам, свидетельствует о единстве языков.
Здесь не может идти речь о единстве через прямое приравнивание. Такая стратегия не ведет к успеху, и созданный на ее основе перевод можно с полным основанием назвать плохим переводом.
А что такое хороший перевод? (Вместо слов «хороший перевод» я мог бы сказать «профессиональный перевод», «высококлассный перевод», «настоящий перевод».) Определим его так: хороший перевод мы имеем в том случае, когда сказанное на одном языке сказано на другом так, как если бы текст был порожден говорящим, как если бы он был оригинальным текстом, а не переводом.
Но как может процесс перевода отменять сам факт перевода, т. е. отменять иноязычное происхождение переводного текста?
Стихия перевода — что она такое? Что происходит, когда мы погружаемся в перевод? Что случается, когда мы покидаем почву исходной языковой стихии и еще не встаем на почву другого языка, языка перевода? Где мы находимся тогда? Иначе говоря, что это за промежуточная земля, которая позволяет нам, удержав сказанное на одном языке, высказать это на другом?
Мне важно зафиксировать именно такое понимание сути хорошего перевода. Хороший переводчик в отличие от плохого умеет осуществлять эту операцию, которая происходит не на поле «ясного сознания», как будто вне волевого импульса, как будто сама по себе.
285
Мне важно, иными словами, зафиксировать самостоятельность той области, где совершается хороший перевод.
Это такая область, в которой высказывание на исходном языке сворачивается и в которой высказывание на языке перевода инициируется. Новое высказывание (высказывание на языке перевода) начинается после того, как истекло высказывание на языке исходного текста.
Именно в этом кроется принципиальное и вместе с тем очень понятное различие между хорошим и плохим переводом. Они, если позволительно так выразиться, осуществляются по разным технологиям.
Хороший перевод выстраивает последовательность «исходное высказывание → область перевода → переводное высказывание». Каждый следующий шаг начинается, когда предыдущий завершен, и совершается «в одиночку», не будучи сопровождаем ни одним из двух других шагов. Это означает, что мы слышим исходное высказывание; понимаем и забываем его; после этого, когда исходное высказывание уже не находится в нашей памяти и в поле ясного сознания, мы начинаем переводное высказывание.
Конечно, «забывание» означает здесь не просто полное устранение из сферы нашего внимания. Мы должны перестать помнить о переводимом тексте; но перестать помнить о нем так, чтобы он все же остался с нами и при нас. Как это возможно?
Переводимый текст представляет собой развернутость. Развернутая речь должна свернуться — но не в точку; даже и не в ту точку, о которой писал Кузанец и о которой так хорошо сказал В. Бибихин. Развернутость должна уступить место целостности. Целостность, а не свернутость, противолежит здесь развернутости.
Мне важно зафиксировать это положение: работа переводчика заключается в том, чтобы развернутый на исходном языке текст перевести в состояние целостности (можно сказать и так: целостного присутствия), дабы развернуть затем результирующее высказывание на языке перевода.
Теперь понятно, почему хороший перевод как будто отменяет сам факт перевода, преодолевая иноязычный характер текста: результирующее (переводное) высказывание в этом случае совершается так же (по той же «технологии»), как совершалось бы впервые инициируемое, оригинальное высказывание.
Понятно также, почему стратегия прямого приравнивания двух языков дает плохой перевод и никогда не может дать хороший: она не дотягивается до области целостности (до «земли перевода»), а значит, не получает доступ туда, где завязывается наша речь, где изготавливается высказывание.
Против такого понимания перевода как трехэтапного процесса могут быть выдвинуты возражения от практики. Как быть с синхронным переводом? Ведь он начинается задолго до того, как говорящий завершил свою речь. Кажется, этот пример опровергает мой тезис: мы должны именно удерживать в памяти
286
всё сказанное, во всяком случае, всё сказанное в пределах фразы (а иногда и нескольких), одновременно продуцируя переводной текст и контролируя эквивалентность двух текстов.
Однако настоящий синхронный перевод никогда не совершается таким образом. Он является хорошим переводом; это значит, что, не прибегая к прямому приравниванию двух развернутых отрезков речи, переводчик проводит исходную речь через стадию целостности, чтобы из последней развернуть результирующее высказывание. — Но как возможна такая поэтапность при синхронном (т. е. одновременном) переводе?
Дело в том, что синхронный перевод осуществляется посинтагмно. Исходная речь переводится в целостность не вся целиком: мы не можем ждать ее завершения. Мы, однако, обязаны дождаться завершения синтагмы, т. е. такого отрезка фразы, который относительно самостоятелен и представляет собой своеобразный «блок», автономный в грамматическом и смысловом отношениях. Фраза разбивается на конечное число таких блоков; с каждым из них переводчик работает так, как если бы это был последовательный перевод. Иначе говоря, синхронный перевод — это серия микроэпизодов последовательного перевода, которые монтируются так, что создают в результате осмысленный и правильный текст.
Вот почему синхронный перевод не является контрпримером; напротив, это пример в подтверждение.
Приведем еще одну иллюстрацию различия между технологиями плохого и хорошего перевода. Кто посещает мероприятия с последовательным переводом, рано или поздно увидит в деле плохого переводчика. Через некоторое время тот начинает путать языки. Иногда он вставляет в речь перевода слова оригинала, а то и вовсе принимается говорить на языке оригинального текста, считая, что изъясняется на языке перевода. При этом такого человека нельзя слушать и на него невозможно смотреть без сочувствия: он находится, кажется, на пределе напряжения человеческих сил, одновременно удерживая в памяти два отрезка речи — исходный и конструируемый — и устанавливая между ними прямое соответствие. Тут немудрено сбиться: задача, почти превышающая человеческие силы.
Только плохой переводчик путает языки; с хорошим такого никогда не случается.
Стратегия хорошего перевода разделяет стихии двух языков, поскольку проходит через этап, лежащий между ними. Стратегия плохого перевода, напротив, нацеливает переводчика на то, чтобы одновременно находиться в обеих стихиях: подобное человеку, по-видимому, не под силу.
Перевод как сведение к общей логической форме
Язык представляет собой законченный и самодостаточный мир. Языки различны; это означает, что различны «языковые миры», что различно «языковое мышление». Это положение неоднократно высказано лингвистами в XIX и XX вв.
287
Языковые различия связываются и с различиями культур. Можно бесконечно приводить примеры, подтверждающие целостность языковых миров и их «скроенность» по собственным законам.
Но если каждый из языковых миров целостен, имеет собственные законы и самодостаточен, то как возможен переход между ними?
Можно поставить вопрос по-другому. Хороший перевод высказывает на языке перевода то же, что сказано на языке оригинала. Но откуда нам известно, что перевод тождествен оригиналу? Стратегия плохого перевода изначально выстроена как прямое отождествление. С хорошим переводом дело обстоит иначе. Он превращает исходное высказывание в целостность, а затем инициирует переводное высказывание. Какие средства мы имеем в своем распоряжении, чтобы утверждать тождественность двух высказываний?
Осознанное и подтвержденное многочисленными конкретными исследованиями существенное различие языков, доходящее до их грамматической несоизмеримости, дало основание остро поставить вопрос о соотношения языка и мышления. Наиболее обсуждаемая версия теоретической трактовки различия языков принадлежит Э. Сепиру и Б. Уорфу. Известная в качестве «гипотезы языковой относительности», она обычно трактуется как утверждающая своего рода первичность языка в отношении мышления. Арсенал формальных языковых средств определяет не просто языковой, но и мыслительный мир человека. Так, наличие или отсутствие тех или иных грамматических категорий влечет, согласно этой гипотезе, соответствующие особенности в стихийной или осознанной метафизике носителя данного языка.
Как правило, меньшее внимание обращают на другую сторону концепции Э. Сепира. Я имею в виду его тезис о «формальной завершенности» языка. Суть этого тезиса в том, что язык готов выразить любую мысль говорящего. Иными словами, язык предоставляет готовый набор формальных средств, которые наверняка пригодны для выражения любых мыслей носителя этого языка, в том числе никогда еще не формулировавшихся.
Эти два тезиса, взятые вкупе, означают: на данном языке можно пожелать выразить только то, что данный язык готов выразить. Человек, говорящий на определенном языке, и помыслить может только то, что как будто загодя формализует для него язык.
Так тезис о языковой относительности фактически перерастает в тезис об относительности мышления.
С этим выводом не спешат согласиться психологи, исследующие когнитивные способности носителей разных языков и не находящие подтверждения существенной связи между особенностями грамматического строя и мыслительными навыками. Но гипотеза Сепира-Уорфа представляется неудовлетворительной и с теоретической точки зрения.
Языки, формально замкнутые и предопределяющие мышление своих носителей, по-разному отражают единый окружающий всех людей мир. Если они обладают разными формальными возможностями отражения мира, то в системе
288
«мир → язык/мышление» непременно должно быть какое-то «контролирующее» звено. Его функция — определять, как именно отражен мир в языке и как именно он представлен в мышлении носителя языка.
Если бы это было не так, мы оказались бы марионетками языка. Тогда наш язык задавал бы нашему мышлению не просто готовые, но единственно возможные формы. Мы не могли бы сравнивать эти формы с миром, отражаемым в языке (ведь у нас не было бы независимых от языка форм отражения мира), и решать, насколько такое отражение адекватно. У нас не было бы возможности сравнить свой язык с другими языками, которые предоставляют отличные от нашего и несовместимые с ним формальные средства: для нас они были бы просто бессмысленными. Парадоксальным образом оказывается, что, если гипотеза языковой относительности и формальной завершенности языка верна, она бы никогда не могла быть сформулирована, поскольку у нас просто отсутствовали бы средства, позволяющие осознать формы языков и мышлений, не совпадающие с нашими.
Но разве есть что-то, кроме нашего мышления (нашего сознания, наших когнитивных способностей), что способно играть роль такого «контролера»?
Чтобы сравнивать отражение единого мира в разных формально-языковых системах, наше мышление должно быть универсальным и не зависеть ни от какого конкретного языка. По самой своей сути оно должно в таком случае иметь надъязыковую природу. Чтобы сравнить цвета, я должен снять цветные очки; чтобы сравнить языки и соотнести их с объективным миром (как того требует обсуждаемая гипотеза), я должен устранить всякое влияние любого языка на свое мышление.
Интересно, что и положение об универсальности форм мышления и их независимости от конкретных языков и, более того, о потенциальной способности любых языков выразить любые результаты мыслительной деятельности также высказано Э. Сепиром. Даже если в данный момент, говорит он, на язык эскимосов непросто переложить кантовскую «Критику чистого разума», ничто в принципе не мешает этому языку, развившись, стать даже более пригодным для выражения идей этого произведения, нежели немецкий язык [Сепир 1993: 251—252].
Вот почему тезис об универсальности мышления не может быть опровергнут только теми данными, которыми оперируют лингвисты, выдвигающие гипотезу языковой относительности. Чтобы утверждать относительность мышления, ее защитникам следовало бы указать, что займет место мышления в качестве «контролирующей» инстанции в системе «мир → язык/мышление».
Если же правы оппоненты гипотезы языковой относительности и мышление универсально, то мы находим, кажется, ответ на наш вопрос. Приравнять два высказывания, принадлежащие разным языковым мирам, можно на уровне мышления. Мысля мир и мысля языковые формы, мы тем самым окажемся способны соотнести одно с другим. Точно так же мы будем способны соотнести любые два языка и установить эквивалентность высказываний на них, мысля два высказывания в некой единой для них форме.
289
На этом построена стратегия разделения поверхностных и глубинных структур языка, утверждающая для разных языков различие первых и принципиальное тождество вторых, а также, что существенно, сводимость первых ко вторым. В этом же направлении движутся многообразные семантические штудии, авторы которых стремятся найти возможность такого формального выражения семантических реалий, которое будет общим для разных языков.
Универсальность мышления, таким образом, понимается как универсальность той формы, в которую отлиты его результаты.
Проверка возможности редукции к общей логической форме
В этом тезисе лингвистика находит взаимопонимание с традиционной философией и логикой: универсальные формы мышления выражаются во множественных частно-языковых формах.
Субъект-предикатная форма «S есть P» служит примером подобной универсальной формы. Мы привыкли к тому, что наше знание о мире строится в форме суждений, имеющих субъект-предикатную форму.
Не затрагивая сложный вопрос о том, является ли эта субъект-предикатная форма всеобщей и должно ли любое суждение сводиться к ней, ограничимся более очевидным, как представляется, утверждением. Любое высказывание, в котором что-то говорится о субъекте, т. е. любое субъектное высказывание, должно сводиться к этой логической форме. В том смысле, в каком на это указывал Аристотель, говоря, что «он идет» и «он есть идущий» — одно и то же.
Сейчас, когда я пишу этот текст, я сижу в кресле перед компьютером. Ужмем это сложное выражение до простой констатации: «Я пишу». С грамматической точки зрения в этом предложении есть подлежащее и сказуемое. С логической точки зрения здесь есть субъект («я») и предикат («пишу» = «есть пишущий»). Предложение имеет простейшую форму «S есть P».
Как мы скажем то же самое по-арабски? Как мы, иначе говоря, переведем эту фразу?
Для начала применим самое простое решение. Поступим как студенты, обучающиеся арабскому языку, и переведем фразу простым приравниванием. Переводя «я пишу», мы скажем ’ана̄ актубу («я» = ’ана̄ и «пишу» = актубу). Это то самое прямое приравнивание, которое я называю стратегией плохого перевода. Рассмотрим его следствия.
Такой перевод не заставил нас совершить какую-либо грамматическую ошибку. Фраза ’ана̄ актубу является правильной фразой арабского языка и понятна его носителю.
Единственный ее недостаток в том, что так никто не говорит. Я хочу сказать, что, если бы арабоязычный оратор захотел выразить то же, что мы выражаем по-русски, говоря «я пишу», он высказался бы иначе. Он сказал бы: ’ана̄ ка̄тиб, употребив не глагол актубу («пишу»), а действительное причастие ка̄тиб. (Отметим,
290
что «действительным причастием» ка̄тиб является в терминах нашей грамматики, тогда как арабская грамматика именует эту форму ’исм фа̄‘ил «имя действователя»; значение этого различия выяснится позже.)
Услышав от нас ’ана̄ актубу, носителю арабского языка пришлось бы совершить усилие, чтобы понять, что именно мы хотим сказать. Если кто-то по-русски говорит: «Я пишу», то имеет место, вероятно, такая ситуация: жена зовет обедать и слышит в ответ, что муж «сейчас пишет» и должен закончить мысль, после чего и явится к столу. Описывая такую ситуацию, носитель арабского языка употребит именно ’ана̄ ка̄тиб (букв. «Я пишущий»), но не ’ана̄ актубу («Я пишу»). Реконструируя контекст последней фразы, он скорее всего вообразит, что кто-то спрягает глагол катаба (≈ «писать») с целью поупражняться в арабской грамматике.
Употребив правильную фразу арабского языка, полученную прямым приравниванием, мы не добились понимания. Как и человек с разговорником в руке в чужой стране, мы увидим в глазах собеседника недоумение, которое сменится радостью понимания, когда он, совершив внутренний перевод, поймет, что же мы хотели сказать.
Итак, хорошим переводом фразы «Я пишу» на арабский служит ’ана̄ ка̄тиб, но не ’ана̄ актубу; последнюю фразу мы квалифицируем как плохой перевод. Рассмотрим разницу между двумя фразами.
И та и другая сообщают нечто о субъекте. Принимая тезис об универсальности мышления, мы сказали бы, что обе фразы имеют одну и ту же форму «S есть P». Это — глубинная структура, которая на поверхности может принять форму ’ана̄ ка̄тиб (букв. «Я пишущий»), а может принять форму ’ана̄ актубу («Я пишу»). Разница между двумя фразами будет усматриваться на уровне поверхностной структуры, но никак не глубинной. И если носитель арабского языка выбирает одну из возможных языковых форм, отвергая другую, то это объясняется языковыми практиками, предпочтениями и прочими так называемыми культурными особенностями.
Далее, поскольку русская фраза «Я пишу» также имеет структуру «S есть P», то тождество глубинных структур фраз «Я пишу», ’ана̄ актубу и ’ана̄ ка̄тиб дает основание признать их эквивалентами друг для друга. Обе арабские фразы служат переводом для русской; так теория поверхностных и глубинных структур дает свое объяснение процессу перевода. Дополнительным подтверждением этой позиции послужит анализ фраз ’ана̄ ка̄тиб и ’ана̄ актубу: первая буквально (в смысле прямого приравнивания) означает «я пишущий», а вторая — «я пишу»; как эквивалентны «Человек идет» и «Человек есть идущий», точно так же эквивалентны «Я пишу» и «Я [есть] пишущий».
Этот стройный анализ основан на допущении, что обе арабские фразы, ’ана̄ ка̄тиб и ’ана̄ актубу, имеют форму «S есть P». Оправдано ли это допущение?
Очевидно, что ’ана̄ актубу «Я пишу» не дает нам форму «S есть P» непосредственно. Чтобы утверждать сводимость ’ана̄ актубу к форме «S есть P», необходимо сперва свести эту арабскую фразу к именной форме. Кажется, именно это и достигается при отождествлении ’ана̄ актубу («Я пишу») с ’ана̄ ка̄тиб («Я [есть] пишущий»).
291
Мы видели, что такое отождествление неверно с точки зрения употребления арабского языка. Зададим теперь решающий вопрос: является ли это нежелание арабского языка допустить такое отождествление следствием случайных факторов (сложившиеся культурные привычки и т. п.) или же оно закономерно?
Различие между ’ана̄ актубу («я пишу») и ’ана̄ ка̄тиб («я пишущий») заключается в том, что первая фраза указывает на время, тогда как вторая такого указания не содержит.
Это утверждение следует понимать в самом сильном смысле: ’ана̄ ка̄тиб в своей семантике вовсе не содержит время.
Является ли этот факт существенным? Рассмотрим его следствия.
Русское «пишущий» указывает на незавершенность действия. Очевидно, что действие, которое еще не завершено, длится в настоящее время. По импликации «пишущий» указывает на настоящее.
Для «пишущий» в русском есть альтернативное «писавший» и «написавший»: здесь мы имеем указание на прошедшее время и, во втором случае, на завершенное действие.
Альтернативность форм «пишущий» и «писавший/написавший» встроена в наш язык настолько глубоко, что не может не сопровождать любой случай употребления этих слов. Я хочу сказать, что говорящий на русском языке, произнося «я пишущий», совершает тем самым акт выбора и отрицает, что является «писавшим» или «написавшим», по меньшей мере отрицает в пределах произносимой фразы.
Арабское ’ана̄ ка̄тиб безальтернативно. Поскольку эта фраза не указывает на завершенность или незавершенность действия, она по импликации не указывает и на время. Произнося ’ана̄ ка̄тиб, мы никак не указываем на время; мы оставляем время в стороне, вне поля нашего внимания.
Из сказанного вытекает непереводимость ’ана̄ ка̄тиб на русский язык. Ведь эта арабская фраза безальтернативна; однако мы не имеем возможности высказать безальтернативную фразу на русском языке: мы обязаны выбрать одну из альтернатив.
Такая непереводимость — непреложный факт. В каких-то случаях ее влияние заметно только восприимчивому взгляду. В других оно эксплицировано в теоретических рассуждениях. Например, переводя мутах̣аррик на русский язык, мы обязаны выбрать между «двигающийся», «двигавшийся», «сдвинувшийся», «передвинувшийся», «передвигавшийся» и т. п. Говоря по-русски, мы не можем не указать на завершенность или незавершенность действия и на время — прошедшее либо настоящее. Ничего этого нет в арабском слове. В контекстах, обсуждающих понятие движения, этот контраст двух языков и двух типов мышления может стать решающим1.
Нечто похожее на арабское ка̄тиб содержится в арсенале формальных средств английского языка. Я имею в виду герундий: writing так же не указывает на завершенность или незавершенность действия и на время, как и арабское ка̄тиб.
292
Это верно, и тем не менее английский язык, как и русский, не обладает возможностью высказать безальтернативную фразу. Нельзя сказать: I writing. Такая фраза не просто неправильна; она бессмысленна. Чтобы понять эту фразу, мы обязаны восстановить связку в одном из вариантов: I am writing, I will be writing, I was writing. Только одна из этих (или им подобных) фраз возможна на английском языке; но они именно альтернативны. Для английского языка не меньше, чем для русского, императивно указание на время, разве что оно полностью встроено в связку.
Глагольная связка «быть» принципиальна для формы «S есть P». Это верно даже для тех случаев, когда «есть» выражает «вечную истину», то есть истину, не зависящую от времени. Например, фраза «Квадрат есть четырехсторонний многоугольник с равными сторонами и углами» не подразумевает, что квадрат таков только сейчас, а завтра или вчера он будет или мог быть другим. Вечность снимает время; но снимает так, что все же предполагает свой диктат над каждым моментом времени. Определение квадрата дано на все времена; но это значит всего лишь, что оно дано для любого настоящего момента. Указание на настоящее время, длящееся бесконечно, — вот значение связки «есть», фиксирующей вечную истину.
В этом смысле выражающее вечную истину «есть» также не является безальтернативным. Мы указываем на любой данный момент времени и отрицаем возможность того, что высказывание может измениться в какой-либо из моментов времени. Мы, таким образом, устанавливаем тождественность трех возможных временных форм, и фраза «Квадрат всегда был…» или «Квадрат всегда будет четырехсторонним многоугольником…» понятна и верна. Мы имеем тождество альтернативных высказываний, а не безальтернативную фразу.
Заметим, что рассмотренный контраст арабского и русского языков далеко не во всем имеет причиной недостаток или избыток языковых средств. Арабский обладает не меньшими возможностями, чем русский, точно указать на время в глагольной фразе, но предпочитает этого не делать, употребляя именную фразу, где такого указания нет в принципе. Вместе с тем различие связки11 и отсутствие указания на завершенность или незавершенность действия в словах типа ка̄тиб действительно демонстрируют различие формальных средств двух языков. Гипотезу языковой относительности обычно трактуют в том смысле, что мышление носителей разных языков различно постольку, поскольку различны формальные средства соответствующих языков. Мы видим, что дело обстоит иначе: даже когда возможности, предоставляемые формальными средствами, совпадают, мышление оказывается
293
контрастирующим, избегающим, как в случае арабского языка, указания на время при сообщении о субъекте.
Это показывает, что нет однозначной связи между языком и мышлением: мышление действует как будто самостоятельно, избирая из наличных формальных средств языка одни, а не другие. С этими предпочтениями хорошо согласуется действительно имеющее место несовпадение формальных средств, как это справедливо в рассмотренных случаях для арабского, русского и английского. Язык в одних случаях выбирает то же, что в других случаях выбирает мышление. Очевидно, что арабский в принципе мог бы — о такой возможности для любого языка говорит Э. Сепир — развить формальные средства, которые не отличали бы его от русского и английского (в нем как таковом нет принципиальных препятствий к этому); однако он этого не сделал. В других случаях мысль говорящего на арабском облекается именно в те формы, которые этот язык предпочел избрать, отбросив прочие варианты и как будто не оставляя для мысли выбора.
Понятно, что язык сам по себе ничего не предпочитает и не выбирает. «Предпочтения языка» — это устоявшиеся формы мыслительных предпочтений. И в том и в другом случае имеет место различие типов мышления.
Субстанциальное и процессуальное видения мира
Арабский язык избегает тех языковых форм, которые могут быть сведены к логической форме «S есть P». Является ли такое ускользание от этой логической формы случайным?
Мы видим мир субстанциально. Это значит, что для нас мир является совокупностью вещей-субстанций. В данном случае неважно, вещей или фактов, состояний дел: факты все равно складываются из субстанциально понятых вещей, связанных отношениями.
Арабский язык видит мир процессуально. Когда мы находимся в стихии арабского языка, мир для нас — совокупность вещей-процессов. Процессов, связывающих и соединяющих две своих стороны: инициирующую (действователь) и принимающую (претерпевающее).
Говоря по-русски «я пишу», мы вводим субстанциальный субъект («я» как S) и утверждаем за ним некоторое свойство. Если оно и выражено глаголом, ничто не мешает нам использовать причастие в смысле качества и затем приписать это качество субъекту при помощи связки «есть»: «пишу» = «есть пишущий». Так форма «S есть P» получает свое завершение.
Говоря ’ана̄ ка̄тиб, мы указываем, что имеет место процесс «писания» (кита̄ба), в котором «я» (’ана̄) является одной из сторон, а именно действователем, активной стороной процесса. Неназванной, но закономерно восстанавливаемой служит вторая сторона процесса — претерпевающее. И действователь, и претерпевающее являются именами и не несут указания на время, ни эксплицитного, ни имплицитного. Не случайно, что и то и другое в терминах арабской грамматики называется
294
«именем»: имя в отличие от глагола не указывает на время. То, чем назван сам процесс, также является именем (мас̣дар в терминологии арабской грамматики) и точно так же не указывает на время.
Процесс, таким образом, связывает две стороны, две «самости», составляющие стороны процесса и стянутые, соединенные процессом. Мышление, которое видит мир таким образом, не может выражать результаты своей деятельности в форме «S есть P».
Перевод как логико-смысловая трансформация
На месте универсальности мышления, которая должна была бы подтверждаться универсальностью логических форм, и прежде всего формы «S есть P», мы увидели вариативность типов мышления. С точки зрения «чистой логики» фразы «я пишу» и ’ана̄ ка̄тиб не могут служить переводом друг для друга, поскольку не имеют общей логической формы. Однако практика перевода подсказывает, что дело обстоит противоположным образом и что эти две фразы используются как эквиваленты.
Как возможна эквивалентность в отсутствие общей формы?
Стратегия плохого перевода является стратегией прямого приравнивания. Мы видели, что она неудовлетворительна.
Стратегия хорошего перевода расценивается с традиционной философской точки зрения как стратегия нахождения инварианта. Языковые миры целостны, но все они сводятся к некоему общему знаменателю. Роль такого инварианта отдана логическим формам. Приравнивание разных языковых миров, то есть перевод, мыслится здесь как переход через стадию инварианта, общего всем языковым мирам.
Такое представление о хорошем переводе ошибочно. Следует вести речь не просто о языковых мирах; следует вести речь о мирах языка-и-мышления. Язык и мышление скоординированы, хотя не определяют друг друга. Язык «подогнан» под мышление скорее всего потому, что, будучи инструментом мышления и его стихией, отбирает и фиксирует именно те языковые формы, которые наиболее пригодны для исполнения задач данного типа мышления. Языковая относительность в таком случае действительно означает относительность форм мышления. Мышление, если оно понято как заключенное в логических формах, не может служить инвариантом для разных языковых миров.
Если типы мышления различны, причем различны в самом основании, а потому не могут быть сведены один к другому без утраты такового, то столь же различны и языки, используемые для выражения результатов деятельности разнотипного мышления. Вот почему невозможно достижение единого языка без утраты нередуцируемого многообразия языков как выразителей разных типов мышления.
И язык, и мышление представляют собой определенные целостности. Надо понимать, что эти целостности никогда не даны как таковые, т. е. именно как целостности; мы всегда имеем дело с их развернутыми «фрагментами». Но как черепки
295
разбитого сосуда, обнаруживаемые археологами при раскопках, имеют смысл, складываясь в целое (причем такое целое не становится менее значимым из-за того, что какие-то его части утрачены, может быть, навсегда), так и угадываемая целостность языкового мира и мира мышления не менее значима от того, что мы всегда имеем дело с ее фрагментами, развернутыми как речь и как суждения. Целостность смысла стоит за дискурсивностью осмысленности, к которой мы получаем доступ в нашем языке и нашем мышлении.
Предстающие перед нами развернутые фрагменты языка и мышления вариативны, и ни один вариант — будучи лишь вариантом — не может претендовать на роль инварианта. Хороший перевод не может проходить только через стадию развернутости, которая всегда представляет собой вариант.
Смысл феномена перевода заключается, следовательно, вот в чем: он демонстрирует наличие целостности, в которую сворачиваются миры языка-и-мышления и из которой они разворачиваются в виде конечных текстов. Хороший перевод проходит через стадию целостности. Эта стадия не может быть схвачена с помощью логических форм, хотя логические формы порождены ею.
Миры языка-и-мышления различны. Их различие, однако, имеет разный порядок. Одно дело — различие русского и арабского, и другое — различие русского и английского. В первом случае мы имеем дело с различием между субстанциальным и процессуальным видением мира; во втором — с различием между двумя вариантами субстанциальной картины мира.
Эта типология различий (указание на разницу между самими различиями) составляет отдельную область исследования. Я называю ее логико-смысловой областью, или логикой смысла. Логика смысла исследует подобные различия и их следствия для развернутых фрагментов языка и мышления. Различие между субстанциальным и процессуальным видениями мира является глубоким логико-смысловым различием, накладывающим свою печать на все феномены языка и мышления. Их экспликация и составляет предмет логики смысла.
Мне остается ответить на вопрос, вынесенный в заглавие. Перевод возможен как сворачивание исходного текста в целостность и разворачивание ее на языке перевода. В том случае, если между мирами языка-и-мышления исходного и результирующего текстов имеются логико-смысловые различия, как между русским и арабским, хороший перевод непременно включает в себя логико-смысловую трансформацию. Конечно, хороший перевод не сводится к такой трансформации; но он невозможен без нее тогда, когда между мирами исходного и результирующего текстов имеется логико-смысловой контраст.
 |

|
296
Ключевым здесь является слово «строго». Можно ли говорить о непереводимости строго — вот вопрос, который я хочу поставить.
Что значит «строго»? Я предложу так понимать это слово. Мы говорим о чем-то строго, если можем это предъявить другому, то есть объективировать, в каком-то смысле указать на это пальцем, сказав об обсуждаемом предмете: «Вот оно»; иначе говоря, если можем устранить сомнения в объективности того, о чем говорим.
Можно ли в таком смысле говорить о непереводимости? Может ли непереводимость быть понята не как некая «трудность», которая заставляет вновь и вновь возвращаться к данному тексту и предлагать всё новые варианты перевода; может ли непереводимость быть понята как абсолютная, то есть как то, возвращаться к чему в попытке найти подходящее решение не только не нужно, но и нельзя? Допустимо ли говорить о непереводимости как об абсолютном препятствии, которое можно лишь обойти, но не преодолеть?
В соответствии с исходной установкой будем понимать строгий разговор о непереводимости как такой, который объективно предъявляет непереводимость. Но что значит «объективно предъявить»? Пытаясь развернуть это понятие, мы начинаем движение к тому, что называют реальностью, или внешним, объективным миром. Поясню это на примере соотношения понятий «переводимость» и «непереводимость».
Стремясь строго зафиксировать переводимость, мы делаем это, как правило, так. Мы предъявляем некий предмет и говорим (к примеру): по-английски это называется computer, по-русски — электронно-вычислительная машина, а по-арабски — ’а̄ла х̣а̄сиба. Данные слова и словосочетания служат переводом друг для друга, поскольку соотносятся с некоторой реальностью, причем эту реальность мы можем точно и строго предъявить как их общий эквивалент. Далее, наряду с переводимостью можно зафиксировать и непереводимость, потому что слово computer имеет одни коннотации, а словосочетания электронно-вычислительная машина и ’а̄ла х̣а̄сиба — другие. Непереводимость уходит в область со-означений, чего-то психического, связанного с нашим сознанием и опытом, причем часто именно с индивидуальным, неповторимым опытом, то есть с чем-то необъективируемым, что очень плывуче и меняется от человека к человеку. Однако предмет, на который
297
указывают эти слова, не меняется от человека к человеку, и в этом смысле переводимость устанавливается строго, тогда как непереводимость оказывается связанной с индивидуальным сознанием и психикой, с чем-то зыбким, а значит, не строго устанавливаемым.
Так обычно понимают соотношение понятий «переводимость» и «непереводимость». Конечно, это не более чем схема, но она улавливает стержень проблемы. Мой вопрос заключается в том, можно ли о непереводимости говорить строго, то есть можно ли ее объективировать.
Конечно, я не стал бы тратить столько времени на введение этого вопроса, если бы не предполагал положительный ответ на него. Я рассмотрю три случая, которые свидетельствуют о необходимости именно такого решения. Первый касается того, что называют языковым мышлением, второй развивает полученные результаты для теоретического мышления, а третий показывает их значение для выстраивания целостного тела культуры.
Но прежде чем сделать это, отмечу следующее. Трактуя переводимость как нечто объективируемое, точно устанавливаемое, а непереводимость — как нечто связанное с коннотациями, с личным опытом и так далее, мы тем самым выстраиваем классическую философскую оппозицию «бытие-сознание». Переводимость выступает как объективно устанавливаемая, как что-то, имеющее отношение к бытию, а непереводимость — как то, что имеет отношение к сознанию. В самом деле, бытие-то ведь должно быть единым для всех нас, а значит, мы всегда должны иметь возможность отослать к реальному миру как общему эквиваленту разных слов. Неважно, на каком языке говорит человек, объективный мир от этого не меняется и остается одинаковым для всех. Поэтому, конечно, переводимость между разными языками всегда должна иметь место, поскольку эти языки — человеческие и поскольку они отсылают к единому миру. Вот почему непереводимость, то есть невозможность установить эквивалентность языковых единиц, обычно связывают с невозможностью отослать к чему-то объективному и одинаковому для всех, то есть с чем-то сугубо индивидуальным.
Так обычно представляют дело; но если окажется, что и непереводимость может быть зафиксирована строго, то есть объективно, это будет означать, что должно быть пересмотрено традиционное, прочно укрепившееся в философии и древнее как сама она представление о единстве мира и о том, как именно это единство может мыслиться.
Перейдем теперь к первому примеру. Он очень прост, и его сложность для восприятия заключается лишь в том, что в нем участвует арабский языковой материал. Но эту сложность нельзя устранить, поскольку мой основной тезис (а именно, что о непереводимости можно говорить строго) связан с необходимостью обратиться к арабскому языковому и теоретическому мышлению.
Пусть я выступаю перед аудиторией с докладом, стоя за трибуной. Это значит, что «я стою». По-английски в такой ситуации мы скажем I am standing, а по-арабски то же самое выразим так: انا واقف ’ ’ана̄ ва̄к̣иф.
298
Что это значит? Тому, кто не знает арабского языка, предложу перевод: «Я {стоящий}». Разберем его пословно. Слово ’ана̄ эквивалентно русскому «я», а ва̄к̣иф передано словом «стоящий», которое взято в фигурные скобки. Они призваны выразить сомнение в том, что слово «стоящий» служит переводом для ва̄к̣иф.
В каком смысле можно выражать такое сомнение? Открыв словарь, увидим, что глагол вак̣афа означает «стоять», и это действительно так. Откуда же наше сомнение? Когда студенты учат арабский язык и им объясняют форму ва̄к̣иф, то обычно говорят, что это — действительное причастие глагола вак̣афа «стоять», то есть то, что должно соответствовать русскому «стоящий». Правда, по-арабски, в сочинениях арабских грамматиков эта форма называется «имя действователя», но на это, как правило, обращают внимание лишь при объяснении особенностей классической арабской грамматической теории и забывают, переходя к практическому обучению арабскому языку: тут в дело идет отождествление ва̄к̣иф с русским причастием.
Но давайте обратим внимание вот на что. Слово «стоящий» в русском языке имеет альтернативу. Можно сказать: «Я стоящий», а можно — «Я стоявший» или «Я постоявший». Иначе говоря, причастие всегда бывает настоящего или прошедшего времени и совершенного либо несовершенного вида, указывая либо на завершенность, либо на незавершенность действия. Мы не можем в русском выбрать форму, которая не указывала бы ни на одно из двух.
Между тем арабское ва̄к̣иф не указывает на время никоим образом. Оно не указывает ни на совершенность, ни на несовершенность действия и не указывает ни на какое время — ни на настоящее, ни на прошедшее. Это означает, что в арабской фразе ’ана̄ ва̄к̣иф вообще нет семантики времени. А в русской — есть. Именно поэтому слово «стоящий» я беру в фигурные скобки, выражая сомнение в том, что этим русским причастием можно перевести арабское слово ва̄к̣иф в этой фразе.
Могут возразить: разве это означает, что фраза ’ана̄ ва̄к̣иф непонятна вследствие рассмотренных особенностей формы ва̄к̣иф? В конце концов, если некто стоит на трибуне и говорит ’ана̄ ва̄к̣иф, слушатель прекрасно понимает, что речь идет о настоящем времени, даже если в этой арабской фразе отсутствует семантика времени.
Это, безусловно, верно; более того, арабский язык предоставляет все необходимые средства, чтобы при желании говорящий мог точно указать на время. Для этого достаточно употребить не имя действователя (ва̄к̣иф), а глагол (ак̣ифу, наст. вр. 1 лицо от вак̣афа), который точно укажет на время. Но я говорю не об этом. Мой тезис заключается не в том, что арабский язык целиком отличается от русского в рассматриваемом отношении и что нет никакой возможности найти «точки соприкосновения» между ними. Дело вовсе не в этом. Дело в том, что есть точки несоприкосновения, то есть такие моменты, в которых языки ведут себя принципиально различным образом, так, что между ними нельзя найти контакт. В таких моментах, которые я называю моментами контраста, языки демонстрируют несводимые один к другому способы осмысления мира.
299
Воображаемый оппонент продолжит свое возражение. Пусть мы обнаружим между языками точки несоприкосновения, назовем их точками контраста и объявим точками непереводимости. От этого соотношение между переводимостью и непереводимостью не изменится: оно останется таким же, каким было обрисовано вначале. Переводимость фраз «я стоящий» и ’ана̄ ва̄к̣иф будет обеспечена отсылкой к одному и тому же событию объективного мира (событию «стояния на трибуне»), тогда как непереводимость останется в области ментального, поскольку будет связана с тем, что в сознании арабского оратора отсутствует временнáя семантика, а в сознании русскоязычного она присутствует. Прибавим к этому тот факт, что по-арабски при желании все же можно ввести во фразу все необходимые временные значения, употребив глагол вместо имени действователя. Это доказывает, что для человека, произносящего арабскую фразу ’ана̄ ва̄к̣иф, указание на время попросту не нужно, поскольку он и его адресат и так понимают, о чем идет речь. А то, «о чем» идет речь, однозначно задано как ситуация «стояния на трибуне»… И так далее: наш оппонент замыкает круг доказательства отсылкой к объективному миру, однозначность фиксации которого обосновывает переводимость вопреки всем контрастным расхождениям языков.
Заметим, что этот аргумент имеет силу лишь потому, что оппонент принимает как само собой разумеющуюся однозначность отсылки к данной конкретной ситуации объективного мира. Он не сомневается, во-первых, в том, что эта ситуация является чем-то одним, некой однозначной данностью, к которой одинаково отсылают обе фразы, русская и арабская. Поэтому, во-вторых, он вынужден рассуждать очень грубо, считая, будто описать эту однозначную данность можно как угодно: то ли словами «Я стою на трибуне», то ли фразами вроде «Мое стояние на трибуне», «Ситуация моего стояния на трибуне». Для него «Я стою» и «Мое стояние» — одно и то же, поскольку различие слов не имеет значения, ибо отсылают они к одному и тому же.
Нетрудно видеть, что эта аргументация представляет собой круг. Оппонент утверждает, что арабское ’ана̄ ва̄к̣иф и русское «Я стоящий» переводимы, поскольку отсылают к одной и той же ситуации, и хотя описать эту ситуацию можно по-разному («Я стою» и «Мое стояние» — это описание выполнено уже на одном языке, в данном случае на русском), различие словесных выражений не имеет значения, поскольку все они отсылают к одной и той же ситуации. Но я ведь и спрашиваю, имеет ли значение тот факт, что один язык обходится без семантики времени, тогда как другой вынужден ее вводить, — а оппонент отвечает, что это не имеет значения, поскольку, независимо от наличия или отсутствия этой семантики, тот «фрагмент» объективного мира, к которому отсылают две фразы, один и тот же. Однако смысл моего вопроса заключается именно в том, действительно ли «ситуация» объективного мира однозначно фиксируется средствами того или другого языка и использующим его мышлением, действительно ли ситуация одна и та же независимо от того, мыслим мы ее по-русски как разворачивающуюся во времени или по-арабски как зафиксированную вне времени. Какие основания, кроме слепой веры,
300
мы имеем для того, чтобы игнорировать эти различия и утверждать, что «внешний мир» один и тот же в обоих случаях? Однозначность отсылки к объективному миру, лежащая в основании веры в переводимость двух фраз, сама оказывается под вопросом, и оппонент не снимает его, а лишь догматически заявляет, что на него можно не обращать внимания. Вопрос о переводимости он подменяет вопросом о «понятности»; однако действительно ли понята арабская фраза, можно установить лишь на основании ее переводимости, но никак не наоборот. (Я уж не говорю о том, что понятость надо отличать от понятности: второе может быть иллюзией, вовсе не снимаемой тем, что такая мнимая понятность будет лежать в основании коммуникации.)
Продолжим исследование переводимости фразы ’ана̄ ва̄к̣иф. Возьмем английский герундий. Может быть, ва̄к̣иф можно перевести словом standing? Ведь standing тоже не указывает на завершенность или незавершенность действия и, следовательно, не указывает на время.
Это верно, и если бы мы устанавливали переводимость на уровне слов, а не высказываний, то на заданный вопрос надо было бы дать положительный ответ. Но ведь единицей речи не является слово; минимальная единица речи — высказывание. Мы не говорим словами; мы говорим предложениями, даже если некоторые из них состоят из одного слова. По-английски нельзя сказать I standing. Если бы это было возможно, то в такой фразе действительно не было бы указания на время. Но мы обязаны сказать (к примеру) I am standing и, следовательно, выбрать один из нескольких вариантов: I am standing, I was standing и т. д.
Однако в арабском эта многовариантность отсутствует. Ее нет именно потому, что нет указания на время, а в русском и английском такое указание не может быть изъято из фразы. В данном случае в английском оно встроено в связку, без которой не выстраивается фраза.
Суммируем сказанное. Приведенный пример показывает, что арабскую фразу ’ана̄ ва̄к̣иф нельзя перевести на русский или английский язык. Почему? Потому что в ходе перевода мы обязаны выбрать один из альтернативных вариантов, который будет содержать указание на то или иное время, прошедшее или настоящее. В арабском такого указания нет в принципе. Приведенный пример является примером абсолютной непереводимости. Это означает, что никакими средствами русского или английского языка мы не можем передать то, что сказано в арабской фразе.
А что там сказано? Мы до сих пор разбирали фразу ’ана̄ ва̄к̣иф «я {стоящий}». Но по-арабски можно сказать и ’ана̄ ак̣ифу «Я стою»11. Точно так же по-русски можно сказать «Я [есть] стоящий» и «Я стою», а по-английски — I am standing и I stand. Фразы ’ана̄ ак̣ифу, «Я стою» и I stand служат точными эквивалентами
301
друг друга: все три представляют собой сочленение местоимения «я» и глагола «стоять» в первом лице настоящего времени. Все они говорят строго одно и то же: они выражают событие «я-стою», отражают текучесть мира, столь удачно схватываемую глаголами. А вот фраза ’ана̄ ва̄к̣иф, с одной стороны, и фразы «Я [есть] стоящий» и I am standing, с другой, неэквивалентны. Об этой неэквивалентности и шла у нас речь. Арабское имя действователя ва̄к̣иф не указывает на время и совершенность/несовершенность действия, тогда как в русском и английском языках мы не только имеем возможность, но и обязаны (не можем избежать этого) указать и на то и на другое.
Этим строго, то есть объективно, установлен факт непереводимости. Вопрос, задавший тему нашего рассуждения, получил положительный ответ. Непереводимость между арабским, с одной стороны, и русским и английским — с другой, показана не как субъективная трудность, а как, во-первых, объективное, а во-вторых, непреодолимое препятствие. Можно объяснить его наличие и характер непреодолимости, но его нельзя сгладить.
Объективность, о которой идет речь, связана с устройством рассматриваемых языков. Имеет ли установленный факт непереводимости какое-либо значение за пределами языковой сферы? Сигнализирует ли эта непереводимость о чем-либо в строении мира и в устройстве мышления, а не только в строении языков?
Отсутствие указания на время в рассмотренной арабской фразе не является маргинальным фактом; напротив, оно ведет в самую сердцевину арабского языкового и, далее, теоретического мышления. Дело в том, что арабское мышление процессуально, в отличие от субстанциального мышления, выработанного греками и легшего в основу западной цивилизации.
Процессуальность и субстанциальность. Субстанциальность, характерная для греков и для западного мышления, и процессуальность, характерная для арабского мышления. Что здесь подразумевается? Эту тему можно разворачивать очень подробно, поэтому я ограничусь основной линией, жертвуя нюансами и представляя ее по необходимости схематично.
Для греческого мышления основная оппозиция — бытие/становление. Бытие связано с неизменностью и истинностью вещи, с тем, чтó есть вещь как таковая, сама по себе. Истина здесь — это истина ставшей, бытийствующей вещи, истина, схватываемая в идее. А что такое становление и почему оно находится в оппозиции к бытию? Потому что оно связано со временем. (Заметим: мы возвращаемся к понятию времени.) Становление — это изменение во времени.
Это крайне важно. Это означает, что для греческого мышления и для мышления тех культур, которые наследуют ему, время связано с изменением и, следовательно, с неистинностью, с нефиксированностью. Ведь истина фиксирована и неизменна, а потому вынесена за пределы времени. Погруженное в поток времени изменяется, и никакую вещь нельзя схватить в ее истинности, не поднявшись над этим потоком. Субстанциальное мышление понимает процесс как изменение во времени, как нечто противоположное субстанциальной и вневременной фиксированности.
302
В отличие от этого арабское языковое и теоретическое мышление понимает процесс как вынесенный за пределы времени. Процесс не «протекает» во времени. Поэтому я и говорю, что отсутствие указания на время в рассмотренном простеньком примере является не маргинальным фактом, а, наоборот, фактом фундаментальным и центральным.
Вернемся к двум парам фраз: ’ана̄ ак̣ифу —’ана̄ ва̄к̣иф и «Я стою» — «Я [есть] стоящий». Фразы (первые в этих двух парах), выстроенные по схеме «местоимение + глагол», эквивалентны, между ними нет никакой разницы: они отражают одинаковое для всех языков и для всех логик смысла событие. А вот фразы ’ана̄ ва̄к̣иф и «Я [есть] стоящий» превращают это событие в вещи, т. е. в субъект-предикатные комплексы, выстроенные на основе целостностей — логико-смысловых конфигураций, вписывая субъект в ЛСК и благодаря этому наделяя его предикатами. Однако для субстанциально-ориентированного и процессуально-ориентированного сознания ЛСК реализованы в разных вариантах и предполагают разную логику. Арабское ва̄к̣иф, имя действователя, задает процессуальную тройку «действователь—процесс—претерпевающее», вытягивая за собой два других члена этой ЛСК: пусть и не упомянутые явно, они легко восстанавливаются мышлением и присутствуют в его «фоне». Это проявляется прежде всего в той логике, которая задает контур осмысленности в данном случае: ва̄к̣иф (имя действователя, ≈ «стоящий») предполагает свою связанность с мавк̣ӯф ‘алай-хи (имя претерпевающего, ≈ «то-на-чем-стоят»11) через вук̣ӯф — процесс стояния. Это комплексное полагание, заданное процессуальной реализацией ЛСК, может быть выражено в трех законах процессуальной логики (см. выше, с. 189—208). Процессуальность полностью изымает событие «я-стою» из потока времени, превращая его в процесс «стояние»: мы получаем вещь-процесс. (Точно так же, хотя целиком иначе, субстанциально-ориентированное мышление изымает вещь-субстанцию из времени, превращая ее чистую идею или форму: здесь тоже время снято, а субстанциально-ориентированное полагание вещи отражено связкой «есть», которая сохраняется в рассмотренных нами русских и английских фразах как неуничтожимое указание на субстанциальность, контрастирующее с отсутствием такового в арабской фразе, ориентированной на процессуальность.)
Можно ли средствами русского языка схватить то, что подразумевает арабское языковое и теоретическое мышление? Можно ли получить доступ к процессу как вневременному, а не связанному с изменениями во времени? Конечно. «Стояние», «говорение», «хождение» и прочие обозначения процессов в русском не связаны с указанием на время и не имеют временнóй семантики. Русский язык дает возможность прикоснуться к тому, как устроено арабское языковое мышление.
303
Однако это прикосновение останется не более чем намеком: мы получим об этом теоретическое представление, но не сможем перестроить свое мышление с тем, чтобы оно соответствовало так понимаемой процессуальности. Точно так же рассказ о неведомой стране не обретет для нас плоть и кровь, пока мы лишены опыта пребывания в ней. Если «мышление» в русском языке не имеет семантики времени, то «мыслящее» и «мыслимое» уже наделены ею. В арабском же вся аналогичная тройка — имя действующего, процесс и имя претерпевающего — не указывает на время. (Заметим, что именно процесс, выражаемый в арабском масдаром, а не действие, выражаемое глаголом, соединяет действующее и претерпевающее.) Процесс «стягивает» действующее и претерпевающее, и вся эта процессуальная среда целиком оказывается для арабского мышления вне времени. Именно в процессуальности оно находит фиксированность, неподверженность временным изменениям и, следовательно, истинность. Мир для арабского языка и арабского мышления состоит не из субстанций, а из процессов. (Надо помнить, что процесс принципиально отличается от действия: действие встроено в поток времени, а выражающий его глагол указывает на время, тогда как процесс — вне времени.)
Итак, для арабского мышления истинность связана с процессуальностью. Отсюда имеются очень интересные выходы на то, как организовано арабское теоретическое и, в частности, философское мышление, но ничто из этого я не могу здесь разворачивать. Вместо этого я приведу второй из обещанных примеров, который позволит выйти за пределы фактов языка и поставить вопрос о том, как устроен объективный, внешний для нас мир.
Движение всегда представляло и до сих пор представляет собой загадку. Парадоксы, связанные с движением и выраженные в знаменитых зеноновских апориях, так и остаются парадоксами. Ранние арабские мыслители, мутазилиты, также задумывались над тем, что такое движение. Рассмотрим, как они его мыслили.
«Движение» по-арабски выражается словом х̣арака, которое служит вторым элементом названной парадигмальной тройки «имя действующего—процесс—имя претерпевающего». Для арабского языкового мышления движение — это процесс, предполагающий две стороны, действующую и претерпевающую, между которыми он располагается и которые соединяет. Такова, повторю, естественная предрасположенность арабского языкового мышления.
Перейдем теперь на уровень теоретического мышления и рассмотрим, как некоторые из мутазилитов определяли покой и движение.
Они придерживались атомистической концепции времени: время — это череда атомарных, недлящихся моментов. Поскольку каждый такой момент — атомарный, вполне естественно, что «внутри» этого точечного момента тело двигаться не может — просто в силу неделимости момента. Покой определяется следующим образом. Если место, занимаемое телом в некий момент времени, совпадает с местом, которое оно занимало в предшествующий момент времени, то тело находится в покое. Движение же определяется так: если место, занимаемое телом в некий момент времени, не совпадает с местом, которое оно занимало
304
в предшествующий момент времени, то… (и здесь я вынужден перейти на арабский язык, чтобы закончить фразу) …то الجسم متحرك то ал-джисм мутах̣аррик.
Мы сталкиваемся с тем же случаем абсолютной непереводимости, что был рассмотрен в первом примере. Ал-джисм по-арабски — «тело», и этот перевод не вызывает трудностей; проблема со вторым словом. Мутах̣аррик — имя действователя для глагола тах̣аррака «двигаться». Первый пример уже показал, что арабское имя действователя непереводимо на русский язык. Здесь мы встречаемся с тем же; но теперь сам пример заставляет нас задать важнейший теоретический вопрос. Чем является движение — отношением между телами, как то предполагает субстанциальная картина мира, или процессом, как то видится в процессуальной картине мира? Чем являются время и пространство? Что, если Кант прав, и «реальный мир» — лишь набор «данных», упорядоченный нашим сознанием в априорной пространственно-временной матрице? Мы рассматриваем временной аспект движения; можно, взяв для примера «Ахиллеса и черепаху» и соответствующие построения мутазилитов, рассмотреть и пространственный, — результат будет тот же. Наше рассуждение открывает удивительную вещь: если априорная пространственно-временная матрица может быть устроена по-разному, то и «реальный мир» будет устроен по-разному для носителей сознания с различной архитектоникой. Что значит «по-разному» — к этому мы прикасаемся в рассматриваемых примерах.
Рассмотрим это подробно. Несовпадение положений тела в два последовательные момента времени, говорят арабские мыслители, означает, что тело является мутах̣аррик. Как перевести слово мутах̣аррик? Это — имя действователя, не имеющее семантики времени, однако в русском придется выбрать один из нескольких вариантов: «двигающееся» или «двигавшееся», «передвигающееся» или «передвинувшееся». В любом случае получаем нелепицу. Если сказать «тело двигающееся», то как же оно может быть двигающимся, если мы имеем дело либо с моментом-1, либо с моментом-2, а ни в один из них тело не может двигаться, поскольку эти моменты атомарные? То же касается двух следующих вариантов — «двигавшееся» и «передвигающееся». Но и последний вариант, «передвинувшееся», ничуть не лучше: если тело является передвинувшимся, значит, оно было двигающимся, иначе быть не может, и мы опять возвращаемся к первым трем вариантам11.
В чем суть затруднения, с которым мы сталкиваемся в данном случае?
На языковом уровне оно заключается в том, что в русском мы обязаны выбрать одну из форм причастия совершенного или несовершенного вида, настоящего или прошедшего времени, причем любая из них будет указывать на время, тогда как в арабском отсутствует семантика времени. Нелепица предложенных русских переводов, абсолютно непреодолимая, сигнализирует о том, что арабское и русское языковое мышление устроено несовместимым образом в том, что касается отображения
305
движения и связанной с этим концептуализацией времени и пространства. Эта несовместимость сама по себе не означает ни того, что лишь одна из двух концепцептуализаций должна оказаться «правильной», ни того, что «правильна» именно наша. Такие утверждения были бы догматическими, основанными на слепой вере.
Назрела необходимость рассмотреть наши затруднения на уровне теоретического мышления. Здесь сложность заключается в том, что мы не мыслим процессуальность так, как то предполагает арабское теоретическое мышление. Процесс объединяет действующее и претерпевающее, но не включает их внутрь себя: процесс говорения, например, не заключает внутри себя говорящего и проговариваемое, но скорее является чем-то третьим для этих двух, что позволяет связать их. Так и данном случае. Два момента времени, следующие один за другим, надо мыслить по аналогии с действующим и претерпевающим, а движение — как процесс, который соединяет эти моменты времени, но является чем-то третьим, что не включает их в себя. Движение тогда совершается вне времени — вот тот принципиальный вывод, который был недоступен нам, пока мы, оставаясь в рамках привычной субстанциальной картины мира, не вникли в устройство арабского процессуального мышления. Если так, если движение, соединяющее атомарные (статические) моменты времени, располагается вне их, то понятно, почему и как тело может быть не двигающимся ни в один из моментов времени, но двигающимся, если взять сопряженную пару таких моментов; понятно также, почему движение и покой существуют только для пары сопряженных моментов времени, но никогда — для единичного момента или двух несопряженных моментов времени (например, начала и конца некоторой последовательности моментов, которые — начало и конец — нельзя сопрячь непосредственно).
Как именно устроено время? Как именно устроено движение? Верна ли та концептуализация движения, которую мы имеем в субстанциальной картине мира, или, напротив, та, которую предлагает процессуальная картина мира? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Та абсолютная непереводимость, которую мы открыли на языковом уровне в первом примере, заявила о себе здесь как непереводимость теоретических построений и концептуализаций, касающихся принципиального устройства внешнего, объективного мира. В силу установленной непереводимости мы не можем оценить правильность другой концептуализации (субстанциальной либо процессуальной), пока остаемся в рамках данной, и в то же время не можем встать «над» ними, поскольку границы этих картин мира и являются границами нашего мышления — субстанциального либо процессуального.
Перейдем к третьему примеру, затрагивающему третий аспект рассуждения. Культура представляет собой целостность, а ее стержень задан как тот или иной тип мышления. Здесь нет возможности доказывать или разворачивать этот общий тезис. Мы лишь рассмотрим единичный пример, который, на мой взгляд, хорошо дает понять, о чем идет речь и что подразумевается в данном случае под контрастом культур.
Этика — это особая сфера, где теоретическое и практическое сходятся в нерасторжимом единстве: моральная философия ценна в первую очередь, если
306
не исключительно, своим применением на практике. Арабо-мусульманская культура интересна тем, что в ней, с одной стороны, были развиты собственные этические учения, которые можно объединить под названием «мусульманская этика», а с другой — имели хождение воспринятые и обработанные античные этические теории. Мусульманская этика опирается на собственную нормативную базу, решает проблемы, вытекающие из размышления над основоположениями исламской доктрины, и имеет прямой выход в практику воспитания, взаимодействует с юридической сферой и т. д.; этика, зависимая от античности, опиралась на тексты античных авторов, прежде всего Аристотеля и Платона, и была ограничена почти исключительно школой фальсафы. Мусульманская и воспринятая античная этика сосуществовали в классической арабо-мусульманской культуре на протяжении нескольких веков. Я утверждаю, что они представляют собой два различных типа этических учений, опирающихся соответственно на процессуальное и субстанциальное понимание как предмета этики, так и ее архитектоники.
Соотношение между ними хорошо выражается через сопоставление их центральных понятий. Для мусульманской этики основным служит понятие их̣са̄н «доброделание», тогда как для воспроизводимых античных теорий таковым является понятие фад̣ӣла «добродетель». Русский язык передает эти два разных (имеющих разные корни) арабских слова с помощью одних и тех же корневых понятий, «делание» и «добро», но удачно указывает в первом случае на процессуальный, а во втором — на субстанциальный аспект. В самом деле, для мусульманской этики главным является поступок, понимаемый как процесс перехода намерения в действие, которые (намерение и действие) выступают здесь в роли действующего и претерпевающего. Для античной этики в ее восприятии арабо-мусульманскими мыслителями главным служит понятие добродетели, то есть некоего качества характера, чего-то, что можно воспитывать и что противоположно пороку. «Добродетель» (фад̣ӣла) вполне вписывается в субстанциальное видение мира, поскольку мыслима именно как субстанция, тогда как «доброделание» (их̣са̄н), будучи процессом, связывающим намерение и действие, требует процессуальной картины мира. Из этого вытекает соотношение между заимствованной античной этикой и собственной, мусульманской: античная этика не может, во-первых, вытеснить собственные, мусульманские этические взгляды, а во-вторых, не способна с ними продуктивно взаимодействовать в силу непереводимости субстанциального и процессуального типов мышления11.
Подведем итог.
Поставленный нами вопрос получил положительный ответ. Более того, о непереводимости не только можно, но и нужно говорить строго. Только тогда мы действительно поймем, что архитектоника сознания может быть разной, и научимся работать с разными вариантами такой архитектоники, не считая лишь один из них единственно возможным.
307
На этом пути предстоит сделать многое, и здесь нас ждут интересные открытия. Возьмем хотя бы такое соображение. Абсолютная непереводимость между языками и типами мышления не может быть односторонней, она должна быть взаимной. Мы говорили о непереводимости арабского процессуального мышления средствами русского субстанциального. Но если это так, то должно быть верно и обратное: русское субстанциальное мышление окажется в чем-то непереводимым средствами арабского процессуального. Непереводимость результатов субстанциального мышления в пространстве процессуального также было бы очень интересно рассмотреть, начав хотя бы с непереводимости связки «есть», составляющей фундамент субстанциального мышления, на арабский язык11. Этот языковой факт имеет вполне очевидный коррелят на уровне арабского теоретического мышления, которое расценивает «бытие» (фундаментальная для субстанциального мышления категория) иначе, нежели это делали греки, считая данную категорию и ее корреляты атрибутами вещи. В свою очередь, это имеет прямое отношение к устройству предикации в этих двух типах мышления. Непереводимость является строгой (или абсолютной) в том случае, если она может быть установлена как взаимная, причем на уровне не только языка, но и теоретического мышления.
308
 |

|
Здесь будет дана иллюстрация положения о двух картинах мира, субстанциальной и процессуальной, которые известны нам по опыту западной и арабо-мусульманской культур, и стоящих за ними логиках мышления — С- и П-логиках. Теоретические положения, раскрывающие суть дела, были изложены выше и будут развиты в дальнейшем.
Они имеют прямое отношение к проблеме перевода. Когда мы переводим и комментируем текст, который создан в процессуально-ориентированной мыслительной среде, мы не можем не столкнуться с «шероховатостями», «нестыковками» и прочими зазорами, о которых известно любому переводчику, не менее других — переводчику классических арабских текстов. Такие нестыковки могут быть вызваны самыми разными причинами; но меня здесь интересуют причины объективные, имеющие логико-смысловую природу, а именно — контраст субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной мыслительной среды. На них я и собираюсь обратить внимание читателя на нескольких примерах.
Но сперва о тексте. В самом начале «Мекканских откровений», в составе авторкого «Введения», замыкая его, фигурирует небольшой по объему раздел, который Ибн ‘Арабӣ назвал «Об учении избранных из народа Божьего, полученном путем умозрения и раскрытия». Лучше всего этот текст и его значение характеризуют слова самого Величайшего шейха, сказанные им в завершение «Введения», сразу после окончания данного раздела:
Таково учение избранных из народа Божьего. А что касается учения о Всевышнем Боге, которого придерживаются избранные из избранных (х̱ула̄с̣ат ал-х̱а̄с̣с̣а), то оно превышает оное. Мы распределили его по всей этой книге то здесь, то там, поскольку большинство умов за завесой своих мыслей не способны, не освободившись, постичь его [Ибн Араби 1998, 1: 88]2.
Таким образом, эта глава излагает учение «избранных» (х̱а̄с̣с̣а) из, как говорит Ибн ‘Арабӣ, «народа Божьего» (’ахл ’алла̄х), то есть собственное учение
Величайшего шейха — его понимание исламского Закона. Отсюда и значение этого небольшого текста: едва ли где-то еще мы встретим на столь ограниченном
309
текстовом пространстве, выражаясь современным языком, автореферат учения Ибн ‘Арабӣ. Эта глава написана очень сжато, в виде «тезисов» (маса̄’ил), порой даже отрывочных; всю эту главу «Мекканских откровений» я называю поэтому «Тезисы». Возьмем для примера несколько из них. Я дам сперва арабский текст, затем — его перевод, после чего разберу интересующие нас нюансы перевода.
Пример первый
*مسئلة * لا يلزم الراضى بالقضاء الرضى بالمقضي فالقضاء حكم
الله وهو الذي أمرنا بالرضى به والمقضى المحكوم به فلا يلزمنا الرضى به
Тезис. Кто доволен приговором (к̣ад̣а̄’) [Бога], не обязан проявлять довольство содержанием приговора (мак̣д̣ийй). Приговор — это суждение (х̣укм) Бога, и это им Он приказал нам быть довольными. А содержание приговора — это то-что-суждено (мах̣кӯм би-хи), и нам не обязательно проявлять довольство им [Ибн Араби 1998, 1: 86].
Речь здесь об одной из центральных проблем исламского вероучения: может ли человек протестовать и проявлять недовольство божественным «приговором», т. е. тем ходом событий, который предопределен Богом, или нет, и что именно понимается под «приговором» Бога — ведь среди событий есть и явно плохие, такие, которые Бог осуждает.
Рассуждение Ибн ‘Арабӣ построено на различении «приговора» как «приговаривания» (к̣ад̣а̄’), т. е. как процесса, и «приговора» как «содержания приговора» (мак̣д̣ийй ≈ приговоренное), т. е. как результата процесса, как чего-то субстанциального. У ал-’Ӣджӣ и ат-Тафта̄за̄нӣ, известных мутакаллимов, живших позже Ибн ‘Арабӣ, находим почти идентичные формулировки в контексте ответа на аргумент оппонентов о том, что если бы неверие было предметом воли Бога, то оно бы совершалось по его приговору (к̣ад̣а̄’), а поскольку быть довольным приговором — обязательно, то мы должны были бы быть довольны неверием; однако это невозможно, поскольку быть довольным неверием — значит быть неверным, из чего следует ложность посылки (а значит, неверие выпадает из предметов, на которые направлена божественная воля, т. е. не все подпадает под волю Бога, что означает автономию человеческой воли). Ал-’Ӣджӣ (1281—1355) пишет:
Обязательным является быть довольным приговором (к̣ад̣а̄’), а не содержанием приговора (мак̣д̣ийй). Неверие — это содержание приговора, а не приговор ([Иджи 1997, 3: 251]; см. также [Там же: 257]).
310
У ат-Тафта̄за̄нӣ (1322—1390) читаем:
Если бы [неверие] было предметом воли [Бога], оно было бы приговором, а значит, нам было бы вменено в обязанность быть довольными им; однако вывод, согласно консенсусу, неверен. На это отвечали так: это — содержание приговора (мак̣д̣ийй), а не приговор (к̣ад̣а̄’); вменено в обязанность быть довольными приговором, а не содержанием приговора [Тафтазани 1981, 2: 147].
Эти две цитаты, конечно, не исчерпывают историю этого вопроса, который поднимался и до Ибн ‘Арабӣ; я лишь привлекаю внимание к устойчивости приема различения категорий к̣ад̣а̄’ и мак̣д̣ийй. Это различение облегчается (если не делается возможным) процессуальной мыслительной средой, где возможно, более того, необходимо различать процесс и его пассивную сторону, в данном случае — приговор как «приговаривание» (к̣ад̣а̄’) и приговор как содержание приговора ≈ «приговоренное» (мак̣д̣ийй). Эти две категории различаются и по линии божественное-мирское: «приговаривание» (к̣ад̣а̄’) — это действие Бога, тогда как содержание приговора ≈ «приговоренное» (мак̣д̣ийй) — это мирское.
Вдумавшись в этот вопрос, обнаружим, что в смысловой среде арабского языка, собственно говоря, нет категории «приговор», там есть «приговаривание» (к̣ад̣а̄’) и «приговоренное» (мак̣д̣ийй). Относительно термина «приговоренное»: приходится пользоваться таким переводом, хотя без разъяснений он заведомо сбивает с толку русского читателя, ведь «приговоренный» — это тот, в отношении кого осуществлен приговор, а вовсе не содержание приговора. Однако в системе формальных средств русского языка мы не находим слова, которое было бы именем претерпевающего и вместе с тем передавало смысл содержания приговора как претерпевающего процесса «приговаривание». Это — пример невозможности перевода, или непереводимости, понятой строго и обусловленной контрастом субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной смысловых сред.
В переводе использованы слова «приговор» и «содержание приговора», хотя их нет в оригинале, где они отсутствуют в принципе. Это не просто использование других языковых средств, обусловленное спецификой языков, арабского и русского; это — смысловой контраст, который не устраняется никакими ухищрениями перевода. Интересно провести эксперимент: дать перевод данного Тезиса, не приспосабливая его к субстанциально-ориентированному мышлению, а сохранив процессуальность оригинала:
Кто доволен приговариванием (к̣ад̣а̄’), не обязан проявлять довольство приговоренным (мак̣д̣ийй). Приговаривание — это суждение (х̣укм) Бога, и это им Он приказал нам быть довольными. А приговоренное — это сужденное (мах̣кӯм би-хи), и нам не обязательно проявлять довольство им.
Такой перевод заведомо ломает привычки не только русского языка (его не пропустит ни один редактор), но и субстанциально-ориентированного мышления. Второе как раз хорошо: такой негодный перевод оказывается ближе к оригиналу, чем
311
любой пригнанный к русской языковой и мыслительной привычке. В самом деле, преодолев неприятие на языковом уровне и прочитав такой процессуально-ориентированный перевод несколько раз (чтобы привыкнуть к непривычному звучанию слов и не обращать больше на него внимания), мы увидим, что никакого неудобства для понимания этот перевод не представляет — в отличие от соответствующего нашим языковым и мыслительным привычкам и оперирующего терминами «приговор» и «содержание приговора»: заставить себя осмыслить различие этих двух категорий почти невозможно, тогда как осмыслить различие «приговаривания» и «приговоренного» не составляет труда. Этот экспериментальный процессуально-ориентированный перевод дает читателю представление о той смысловой среде, в которую погружен оригинал.
Интересно, что ат-Тафта̄за̄нӣ в процитированном труде разбирает и мнение оппонентов о том, что «под “приговариванием”, которым мы обязаны быть довольны, подразумеваются “приговоренные” испытания, несчастья, бедствия и утраты, а не самостный атрибут Всевышнего Бога», и утверждает, что это — «ложь; на самом деле это (приговаривание. — А. С.) — сотворение, суждение и предопределение» [Тафтазани 1981, 2: 147]. Как видим, оппоненты не говорят, что к̣ад̣а̄’ и есть мак̣д̣ийй, что «приговор» и есть «содержание приговора» (если использовать наши термины); они говорят, что под к̣ад̣а̄’ подразумевается мак̣д̣ийй, что под «приговариванием» подразумевается «приговоренное» (если использовать уже процессуально-ориентированные термины), тем самым признавая их различие и лишь утверждая, что авторитетный текст, вменивший мусульманам в обязанность довольство, подразумевал второе, а не первое. Таким образом, и мысль оппонентов движется в той же процессуально-ориентированной среде, категорически различающей процесс и его пассивную сторону.
Пример второй
В первом примере мы только прикоснулись к проблеме несовпадения мыслительных и языковых сред процессуально-ориентированного и субстанциально-ориентированного мышления, когда при переходе из одной среды в другую невозможно добиться осмысленности (об «адекватности» мы и вовсе не говорим), если не учитывать базовую логику смысла оригинала, причем речь идет вовсе не о языковых нюансах, а о самой сути мышления, которое обнаруживает свою непосредственную логико-смысловую определенность. Обратимся теперь к несколько более сложному рассуждению, в котором речь идет о познании. Ибн ‘Арабӣ защищает тезис о том, что знание сугубо индивидуально: его предметом служит состояние мира или любой вещи в нем для каждого отдельного атомарного момента времени, а поскольку такие состояния никогда не повторяются, то и знание не повторяется, а значит, говорит Величайший шейх, оно «не изменяется»: ведь чтобы изменяться, надо остаться тем же, переменив некоторые свои характеристики. Нас интересует не само это положение, а та логика, в которой
312
выполнено его изложение и обоснование. Я даю арабский текст этого тезиса целиком, а русский перевод — отрывками, сопровождаемыми моим разбором.
* مسألة * ثبت أن العلم لا يتغير فالمعلوم أيضاً لا يتغير فإن معلوم
العلم إنما هو نسبة لأمرين معلومين محققين فالجسم معلوم لا يتغير أبداً
والقيام معلوم لا يتغير ونسبة القيام للجسم هي المعلومة التي الحق بها التغيير
والنسبة أيضاً لا تتغير وهذه النسبة الشخصية أيضاً لا تكون لغير هذا الشخص
فلا تتغير وما ثم معلوم أصلاً سوى هذه الأربعة وهي الثلاثة الأمور المحققة
النسبة والمنسوب والمنسوب إليه والنسبة الشخصية فإن قيل إنما ألحقنا
التغير بالمنسوب إليه لكونه رأيناه على حالة ما ثم رأيناه على حالة أخرى قلنا
لما نظرت المنسوب إليه أمراً ما لم تنظر إليه من حيث حقيقته فحقيقته غير
متغيرة ولا من حيث ما هو منسوب إليه فتلك حقيقة لا تتغير أيضاً وإنما نظرت
إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال ما فإذن ليس المعلوم الآخر ما هو
المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إنها زالت فإنها لا تفارق منسوبها وإنما هذا
منسوب آخر إليه نسبة أخرى فإذن فلا يتغير علم ولا معلوم وإنما العلم له
تعلقات بالمعلومات أو تعلق بالمعلومات كيف شئت
Тезис. Итак, установлено, что познание не изменяется, — но и познаваемое также не изменяется. Ведь познаваемое познания (ма‘лӯм ал-‘илм) — это соотнесенность двух истинно познанных предметов.
Ибн ‘Арабӣ имеет в виду предикационное высказывание в его простейшей форме, где субъекту приписывается некий предикат, например (следующая фраза Тезиса) предицирование стояния телу (в терминах Ибн ‘Арабӣ — соотнесение тела и стояния), т. е. высказывание «тело стоит» (к̣а̄ма ал-джисм) или «тело — стоящее» (ал-джисм к̣а̄’им; эти два высказывания исчерпывают типы фраз, которые выделяются арабской грамматикой: глагольный и именной).
Под «истинно познанным предметом» (’амр ма‘лӯм мух̣ак̣к̣ак̣) Ибн ‘Арабӣ подразумевает, как представляется, то, о чем можно говорить как об «истинности» (х̣ак̣ӣк̣а). Интересно, что в примере, который он приводит (см. следующую фразу Тезиса), упомянуты субстанция (тело) и процесс (стояние — к̣ийа̄м). Представление о том, что мир состоит из «самостей» (з̱ава̄т), т. е. (в грубом приближении) субстанций, и «действ[ован]ий» (аф‘а̄л), т. е. процессов, было распространенным, если не стандартным, среди авторов классического периода. В высказывании «тело стоит» (или «тело — стоящее») соотнесенные «тело» и «стояние» неизменны, они даны раз и навсегда, поскольку под телом мы всегда подразумеваем нечто определенное (то, что и схватывается истинностью — х̣ак̣ӣк̣а — тела) и под стоянием также — нечто определенное (то, что схвачено как истинность — х̣ак̣ӣк̣а — стояния). В этом смысле ни «тело», ни «стояние» не меняются в процессе познания.
313
Вот как это выражено в тексте Тезиса:
Тело — это познаваемое, которое никогда не изменяется, и стояние — это познаваемое, которое не изменяется. А вот соотнесенность стояния и тела — это такое познаваемое, которому было приписано изменение.
Сам факт соотнесения «тела» и «стояния», т. е. сам факт предикации, — вот то, о чем говорят как об изменении в процессе познания. Хотя «тело» и «стояние» неизменны и всегда одинаковы в нашем познании, их соотнесение, говорит Ибн ‘Арабӣ, расценивается как изменение в сравнении с неким прежним моментом, когда они не были соотнесены, т. е. когда телу не было предицировано стояние.
Это — ключевой момент, поскольку здесь и кроется корень проблемы: вещи мира, как обычно считают (во всяком случае, это верно для всей предшествующей Ибн ‘Арабӣ мысли, как вероучительной, так и философской), меняются во времени, а значит, меняется и знание о них. Такое изменение может пониматься по-разному: и как сотворение из ничего, и как возникновение, которому предшествует другое онтологическое состояние, и как переход из потенции в акт, — но в любом случае это некоторое изменение вещи во времени. Однако такое представление исключено концепцией Ибн ‘Арабӣ, и вопрос о знании и познании формулируется целиком на другом основании.
Но и соотнесенность не изменяется; а данная особая (шах̱с̣ийййа) соотнесенность также имеет отношение только к данной особи (шах̱с̣), а потому не изменяется.
Это — заключительный аккорд всего хода доказательства отсутствия изменения (таг̣аййур) знания и познания с точки зрения инструментов познания. Ибн ‘Арабӣ говорит, что ни субъект, ни предикат, ни сама предикация (соотнесение субъекта и предиката), взятые в общем виде, как понятия, не меняются: мы оперируем ими как неизменными, одними и теми же. Если же взять конкретный случай предикации, когда конкретному субъекту предицируется конкретный предикат, то и такая единично-конкретная предикация, говорит он, не меняется, именно в силу ее единичности и конкретности: другая конкретно-единичная предикация — именно другая, а не измененная прежняя. Таким образом, изменение в орудиях познания отсутствует.
Первое утверждение (инструменты составления предикационных высказываний неизменны) едва ли можно оспорить. Но и со вторым, хотя оно менее очевидно, все же приходится согласиться: предикативное высказывание, построенное для данного субъекта в данный момент времени, т. е. в его «особом» (шах̱с̣иййа) состоянии, конечно же, не может меняться, потому что полностью соответствует именно данному моменту. Обоснование этого положения — уже не гносеологическое, а онтологическое, и оно будет рассмотрено Ибн ‘Арабӣ в завершение данного Тезиса.
314
Нет ничего познаваемого за исключением этих четырех. Это — три истинно-постигнутых (мух̣ак̣к̣ак̣) предмета — соотнесенность (нисба), предикат (мансӯб) и субъект (мансӯб ’илай-хи) — и особая соотнесенность (нисба шах̱с̣иййа).
Термины нисба, мансӯб и мансӯб ’илай-хи совершенно очевидным образом отражают полную процессуальную парадигму, хотя и не имеют соответствующей грамматической формы. Это, кстати говоря, один из показателей отрыва мышления от языковых форм: процессуальная парадигма, пусть и укорененная в арабском языке с его глагольной словообразовательной парадигмой фи‘л—фа̄‘ил—маф‘ӯл (глагол—имя действователя—имя претерпевающего), играет ведущую роль в организации мышления, когда переступает границы непосредственно-языкового выражения и понимается как отражение процессуально-ориентированной ЛСК «процесс—действующее—претерпевающее». Тогда важны именно эти логико-смысловые роли, а не конкретные языковые формы. Так и здесь: данные роли сохраняются, несмотря на использование других языковых форм. Термин мансӯб имеет форму имени претерпевающего и буквально означает «[со]отнесенное» — отнесенное к чему-то или соотнесенное с чем-то. Термин мансӯб ’илай-хи также имеет форму имени претерпевающего и означает то, к чему нечто отнесено или с чем соотнесено. Хороший перевод на русский язык этого термина невозможен, поскольку при любом переводе мы утеряем процессуальную нагруженность термина и заменим ее на субстанциальную.
Буквально его следовало бы передать как «отнесенное-к-нему»; так, однако, сказать нельзя, поскольку это выражение не будет правильно понято; мы должны перестроить его и сказать: «то-к-чему-отнесено». Хотя этот конструкт неуклюж, он соответствует русской языковой интуиции и правильно передает суть дела, однако вместе с понятностью и комфортностью перевода мы получили и переделку процессуальной среды в субстанциальную. Выражение «то-к-чему-отнесено» указывает на некую субстанцию («то»), в которой мы выделяем признак («к чему отнесено»), относящийся к одной из девяти аристотелевских акцидентальных категорий — «претерпевать». Таким образом, в переводе у нас идет речь о субстанции, которая претерпевает воздействие; следовательно, мы имеем полное право заключить, что имеется еще одна субстанция, которая воздействует: так мы получаем в нашем мыслительном пространстве две субстанции, действующую и претерпевающую, полностью утеряв процесс как самостоятельный, обладающий собственным онтологическим статусом и не сводящийся к своим сторонам — действующей и претерпевающей. Это еще один пример принципиальной невозможности перевода, когда мы переходим из процессуально-ориентированной среды в субстанциально-ориентированную (или наоборот), о чем мы уже говорили выше. Языковые «нестыковки», вызванные логико-смысловым контрастом двух пространств мысли, не могут быть сглажены языковыми средствами — потому, что имеют своим источником разную смысловую логику организации мысли. Они, следовательно, могут быть разъяснены только в комментарии, из чего вытекает настоятельная необходимость логико-смыслового
315
комментария в случае логико-смыслового контраста переводимого текста и мыслительной (и языковой) среды перевода.
Я придерживаюсь принципа максимальной приближенности перевода терминов к их непосредственному звучанию на языке оригинала, избегая замены на как будто очевидные «эквиваленты», взятые из европейского философского лексикона, поскольку такая «эквивалентность» — всегда проблема: она может быть установлена только после тщательного исследования и, главное, выяснения вопроса о логико-смысловой нагруженности термина. В данном случае, однако, даже намеренное приближение к языку оригинала не даст правильного перевода, потому что не будет буквальным (речь именно о правильности, а не о красоте, благозвучии и т. п.). Мы видели это только что: переводя мансӯб ’илай-хи подстановкой слово в слово, получаем «отнесенное-к-нему» — к кому к «нему»? В оригинале это местоимение указывает на предмет, обозначенный данным выражением, тогда как наше языковое чутье говорит, что такой предмет обозначен в русском переводе словом «отнесенное», что совершенно неверно. Исправляя сделанный слово в слово перевод так, чтобы языковое чутье не ошибалось, мы и получаем «то-к-чему-отнесено»: теперь референция установлена правильно, но — за счет замены процессуальной среды на субстанциальную.
Этот случай абсолютной непереводимости, свидетельствующий о контрасте (т. е. несводимости логико-смысловых оснований), вместе с тем дает право выбрать для перевода термин, который передаст суть дела (конечно же, с учетом комментария, который покажет его логико-смысловую нагруженность) и вместе с тем будет благозвучен. Поэтому здесь я избираю для передачи термина мансӯб слово «предикат», поскольку мансӯб — это «[со]относимое»; для передачи термина мансӯб ’илай-хи — «субъект», поскольку мансӯб ’илай-хи — это то, к чему относится предикат (мансӯб); а вот термин нисба оставляю как «соотнесенность», подчеркивая процессуальность соотнесения предиката и субъекта, служащую отдельной, третьей вещью наряду с ними.
Тройка терминов мансӯб—мансӯб ’илай-хи—нисба, которую я передаю здесь как субъект—предикат—соотнесенность (= предикация), имеет совершенно очевидную параллель с тройкой муснад—муснад ’илай-хи—исна̄д, которой в арабской грамматике описывается базовая значащая (осмысленная) структура фразы. Муснад — это «опираемое», или, в терминах нашей грамматики, сказуемое; муснад ’илай-хи — «то-на-что-опирают» (со всеми оговорками для такого перевода, которые высказаны выше для аналогичного мансӯб ’илай-хи), то есть подлежащее; исна̄д — «опирание», термин, для которого нет столь однозначного соответствия в нашем грамматическом лексиконе (обычно говорят — «синтаксическая связь», подразумевая связанность подлежащего и сказуемого1), но который чрезвычайно
316
важен. Именно этот термин демонстрирует процессуальность построения арабской фразы, в которой связывание субъекта и предиката, подлежащего и сказуемого осуществляется благодаря «опиранию» (исна̄д) — процессу, выполняющему ту функцию, которую в других языках (и в другом, субстанциально-ориентированном пространстве мышления) выполняет связка «есть», неважно, имплицитная или эксплицитная. Поскольку об этом мне также приходилось писать, я ограничусь здесь данным наблюдением, отсылая заинтересованного читателя к работе, где этот вопрос разобран более подробно (см. [Смирнов 2012: 625—629]); общая постановка вопроса о связке, предикации и обосновывающей ее интуиции уже была дана выше (см.: «Шкатулка скупца, или Почему мы верим в законы логики»).
Если две названные тройки терминов демонстрируют в своем строении и функционировании очевидную процессуальность, то терминология, которой предикация передавалась в фальсафе, напротив, такой процессуальности не обнаруживает. Здесь субъект обозначается термином х̣а̄мил (букв. «несущее»), предикат — термином мах̣мӯл (букв. «несомое»), и хотя грамматически они выражены именем действующего и именем претерпевающего1, тем не менее эти термины не отражают процессуальность. Предикация мыслится в фальсафе как совершающаяся не благодаря процессу, будь то «соотнесение» (нисба) в терминах Ибн ‘Арабӣ или «опирание» (исна̄д) в терминах арабской грамматики, — а благодаря связке (ра̄бит̣а), которая «нагружает» субъект смысловым содержанием предиката, заставляя его «нести» предикат (откуда, видимо, и названия этих терминов). Здесь предикат мыслится как расширяющий смысловое содержание субъекта — так, как это мыслится в логике Аристотеля, которую перелагают на арабский манер фала̄сифа и которая не находит сцепления с собственно арабской грамматикой в ее представлениях о самом главном — о механизме «завязывания смысла» (ин‘ик̣а̄д ал-ма‘на̄).
Отмечу также, что тройка мансӯб—мансӯб ’илай-хи—нисба имеет у Ибн ‘Арабӣ не только гносеологический (как в пределах данного Тезиса), но и онтологический смысл. Показательны его рассуждения в «Мекканских откровениях» (см. [Ибн Араби 2014: 228], где эта терминология использована для описания соотношения между миром (мансӯб — то, что отнесено) и Богом, взятым как божественность (мансӯб ’илай-хи — то, с чем соотнесено): соотношение (нисба) между этими двумя сторонами и выражает процессуальность их связи и отвечает в концепции Ибн ‘Арабӣ
317
за многообразие (хотя и единство) божественности, которая точно соответствует многообразию (и уже множественности) мира как «ответной» стороны.
Если же нам скажут, что мы все же приписали изменение субъекту, поскольку увидели его сперва в одном состоянии, а затем — в другом, то мы ответим: ты взглянул на субъект неким особым образом, а не с точки зрения его истинности (ведь его истинность неизменна) и не с той точки зрения, что он — субъект (ведь это — истинность, которая также не изменяется). Нет, ты смотришь на него как на субъект-в-некоем-состоянии. Значит, другое познаваемое — это не субъект в том состоянии, которое, как ты утверждаешь, исчезло: оное [состояние] не отделяется от своего субъекта; на самом деле здесь — другой субъект, с которым — другая соотнесенность.
Здесь дано онтологическое обоснование тезиса Ибн ‘Арабӣ о том, что познание не изменяется; оно дополняет данное выше гносеологическое его обоснование и вместе с тем разъясняет смысл этого положения. Если говорить кратко, то дело не в том, что знание дано раз и навсегда и никогда не может быть другим (таково обычное понимание неизменности божественного знания, в котором изначально заключены все вещи во всех их состояниях). Как раз наоборот: знание всегда новое, всегда другое — но именно поэтому оно не изменяется, поскольку для того, чтобы говорить об изменении, нужно иметь одну и ту же вещь в двух (или более) разных состояниях. Возражение, на которое отвечает Ибн ‘Арабӣ, и исходит именно из этого предположения: что мы, хотя и оперируем неизменными орудиями познания, тем не менее описываем ими меняющуюся вещь (изменяющийся предмет познания — субъект предикации). В ответ на это Ибн ‘Арабӣ говорит, что мы никогда не имеем дела с тем же самым субъектом предикации, который изменился в сравнении со своим предыдущим состоянием, представ перед нами в новом состоянии, с новым предикатом.
Чтобы до конца понять суть его позиции, надо вспомнить, что (1) Ибн ‘Арабӣ придерживается теории атомарного времени, разработанной мутазилитами; что (2) в каждое мгновение мир полностью обновляется: мы имеем дело с новой конфигурацией «истинностей» (их можно иначе назвать акциденциями — правда, в отсутствие субстанций, поскольку Ибн ‘Арабӣ не признает оправданность этой категории), которые и составляют каждую вещь мира; что (3) вещь-в-мире и вещь-в-Боге, или, в терминах Ибн ‘Арабӣ, существующая и несуществующая (= утвержденная) воплощенность, взаимно определяют друг друга: вещь-в-мире такова, какова она в Боге, и наоборот.
Эти положения обосновывают тот факт, что в каждый следующий момент времени (каждое следующее мгновение) мы имеем дело с новым предметом познания (субъектом предикации), поскольку в каждое мгновение мир «застывает» как новая конфигурация качеств (в терминах Ибн ‘Арабӣ — акциденций, или истинностей), где каждая вещь — другая, нежели в предшествующий момент, а не та же измененная. Вот почему нельзя говорить об изменении познаваемого: с каждым мгновением
318
происходит не изменение одной и той же вещи, а перебор разных «состояний» (х̣а̄л), в каждое из которых мы имеем дело с другой вещью — с другим предметом познания, другим субъектом предикации.
И в заключение Тезиса — итоговый вывод:
Следовательно, не изменяется ни познание, ни познаваемое. Дело в том, что у познания — [разные] связанности с познаваемыми; или же оно связывается с [разными] познаваемыми, — как угодно [Ибн Араби 1998, 1: 82—83].
Пример третий
Нарастим сложность примера и возьмем самую сердцевину учения Ибн ‘Арабӣ — его положение о Самости (з̱а̄т) и божественности (’улӯхиййа). Здесь мы встретимся с фундаментальными проблемами онтологии и увидим, как неизбежно и неустранимо искажается мысль Ибн ‘Арабӣ, когда ее пытаются трактовать в соответствии с субстанциальной логикой, не учитывая ее базовый процессуальный характер.
*مسئلة * أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته وبين الممكن
وإن كان واجباً به عند من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلم ومآخذها
الفكرية إنما تقوم صحيحة من البراهين الوجودية ولا بدّ بين الدليل والمدلول
والبرهان والمبرهن عليه من وجه به يكون التعلق له نسبة إلى الدليل ونسبة
إلى المدلول عليه بذلك الدليل ولولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله
أبداً فلا يصح أن يجتمع الخلق والحق في وجه أبداً من حيث الذات لكن من
حيث أن هذه الذات منعوتة الألوهة فهذا حكم آخر تستقل العقول بإدراكه وكل
ما يستقل العقل بإدراكه عندنا يمكن أن يتقدم العلم به على شهوده وذات
الحق تعالى بائنة عن هذا الحكم فإن شهودها يتقدم على العلم بها بل تشهد ولا
تعلم كما أن الألولهة تعلم ولا تشهد والذات تقابلها وكم من عاقل ممن يدعي
العقل الرصين من العلماء النظار يقول أنه حصل على معرفة الذات من حيث
النظر الفكريّ وهو غالط في ذلك وذلك لأنه متردّد بفكره بين السلب والإثبات
فالإثبات راجع إليه فإنه ما أثبت للحق الناظر إلا ما هو الناظر عليه من كونه
عالماً قادراً مريداً إلى جميع الأسماء والسلب راجع إلى العدم والنفي لا يكون
صفة ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هي ثبوتية فما حصل لهذا
المفكر المتردد بين الإثبات والسلب من العلم بالله شيء
Как и выше, дадим перевод по отрывкам, комментируя каждый.
Тезис. Никакая соотнесенность между Истинным, должным существовать благодаря Самому Себе (ал-х̣ак̣к̣ ал-ва̄джиб ал-вуджӯд би-з̱а̄ти-хи), и возможным
319
(мумкин), пусть оно и является необходимым благодаря Ему (с точки зрения тех, кто говорит об этом) в силу того, что этого требует либо [божественная] Самость (з̱а̄т), либо знание с его мыслительными посылками, — не может быть установлена бытийными доказательствами (бара̄хӣн вуджӯдиййа).
Начнем по порядку. Термин «соотнесенность» (муна̄саба) сразу ввергает нас в средоточие мысли Ибн ‘Арабӣ. Речь идет о соответствии между Богом и миром со всеми его отдельными вещами, когда одно отвечает другому. Важно понять изначальную установку Ибн ‘Арабӣ, которая определяет контур рассуждения, задает его горизонт и перспективу. Бог и мир даны оба, и для того, чтобы увидеть их связанность (без которой их не было бы как двоицы — был бы один абсолютный Бог, Абсолютная Самость), нужно найти между ними соответствие, ту самую «соотнесенность», о которой говорит Ибн ‘Арабӣ. Именно так: не вывести мир из Бога, применив, например, ход неоплатоников, когда мир служит следствием и какая-либо соотнесенность между миром и Богом может устанавливаться только a posteriori, как соотнесенность между следствием и причиной. Здесь наоборот: данность Бога и мира, их парность служит начальным, исходным условием мысли, которая должна теперь, отталкиваясь от их характеристик, установить основание, которое позволит увидеть их связанность.
Наша следующая остановка — термин мумкин (возможное). Он появляется уже у мутазилитов, а позже становится центральным в онтологическом учении ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣны. Мутазилиты ввели понятие «утвержденность» (с̱убӯт), которое обозначает наличие, данность вещи до того, как она получает существование (вуджӯд). Утвержденная (с̱а̄бит) вещь — это вещь как таковая, чистая вещь; во многом потребность во введении этого понятия была продиктована необходимостью установить онтологический статус того, что служит претерпевающим (пассивное причастие) для божественных имен, выраженных как имена действователя (активные причастия), то есть онтологический статус вещей мира до их сотворения Богом: такие вещи были поняты как утвержденные до своего существования, и тогда их сотворение Богом трактовалось как «наделение существованием» (ӣджа̄д) вещи, уже наличествующей как утвержденная.
Этот тезис мутазилитов, за который они подверглись решительному осуждению со стороны исламских вероучителей (тезис об изначальном наличии вещей наряду с Богом), в переинтерпретированном виде использован Ибн ‘Арабӣ. И у мутазилитов, и у Ибн ‘Арабӣ, и в онтологии возможного ал-Фа̄ра̄бӣ—Ибн Сӣны в ее изначальном виде вещи имеются (что не означает «существуют») как таковые наряду с Богом-действователем, который передает им существование-вуджӯд, или необходимость-вуджӯб: здесь вещи не после Бога, как его линейно-причиненное субстанциальное следствие, а сразу, одновременно с ним, как претерпевающее с действователем.
Представление о наличии вещи до того, как Бог дает ей существование, находит неплохую опору в Коране, где в интересующем нас контексте шесть раз упо
320
треблена знаменитая формула кун фа-йакӯн «“Возникни!” — и оно возникает»1. Бог, пожелав «нечто» (’амр) или «вещь» (шай’), обращается к ней с приказом «Возникни!» — и та возникает; но чтобы Бог мог обратиться к «чему-то» или к «вещи» с речью, это что-то или вещь должны каким-то образом наличествовать.
Вот эти контексты: «Он Зиждитель небес и земли, и когда определит что-то, только скажет тому: “Возникни!” — и оно возникает» (2:117, С. с измен.); «Он сказал: Так и будет, потому что Бог творит что хочет: когда Он определит что-то, то скажет только тому: “Возникни!” — и оно возникает» (3:47); «Если Мы волим что-то, то говорим той вещи: “Возникни!” — и она возникает (16:40); «Когда определит что-то, только скажет тому: “Возникни!” — и оно возникает» (19:35); «Когда Он восхощет чего-либо, то дело Его только сказать тому: “Возникни!” — и оно возникает» (36:82, С. с измен.); «Он самый оживляет и умерщвляет; когда Он определит что-то, то скажет только тому: “Возникни!” — и оно возникает» (40:68, С. с измен.). Во всех этих случаях употреблены конструкции фа-’инна-ма̄ йак̣ӯлу ла-ху кун фа-йакӯн или ’ан йак̣ӯла ла-ху кун фа-йакӯн: Бог говорит «Возникни!» ла-ху, т. е. ей (вещи) или ему (тому «нечто»). Еще более отчетливо это заметно в следующем аяте: «Действительно, Иисус перед Богом подобен Адаму, которого Он сотворил из земли и сказал к нему: “Возникни!” — и он возник» (3:59, С. с измен.); здесь Адам имеется как несомненная вещь, как неодушевленное тело, к которому Бог обращается с той же формулой повеления: «Возникни!». И только один раз в Коране формула кун фа-йакӯн «“Возникни!” — и оно возникает» употреблена без ла-ху, т. е. это приказание Бога не обращено к «нему» (или к «ней» — вещи): «Он Тот, кто сотворил небеса и землю, истинно, в то время, когда Он сказал: “Возникни!” — и они возникли» (6:73, С. с измен.).
Не углубляясь в комментаторскую литературу, приведу только один пример — разбор первого из упомянутых аятов (2:117) в комментарии ат̣-Т̣абарӣ. Анализируя слова «когда Он определит что-то (’из̱а̄ к̣ад̣а̄ ’амран)», ат̣-Т̣абарӣ поясняет, что слово к̣ад̣а̄’ (масдар от к̣ад̣а̄: Бог определяет вещь до того, как обращается к ней с приказанием возникнуть) означает ал-их̣ка̄м ва-л-фара̄г̣ мин-ху «уладить нечто и освободиться от этого», т. е. выстроить нечто в окончательном виде, чтобы больше в это не вмешиваться; поэтому судью, говорит ат̣-Т̣абарӣ, называют к̣а̄д̣ин, ибо он принимает окончательное решение, улаживающее спор
321
между противниками, и т. д. Исходя из этого, ат̣-Т̣абарӣ так разъясняет интересующие нас слова аята:
Смысл этого следующий: когда Он завершит (ах̣кама) и окончательно решит (х̣атама) нечто (’амр), Он говорит этому нечто: “Возникни!” — и это нечто возникает таким, каким возникнуть ему приказал Бог и каким его захотел» [Табари 1405, 1: 509].
Как видим, здесь «нечто» (’амр) оказывается уже слаженным, в каком-то смысле законченным, и к этому готовому «нечто» (такому, в которое уже не надо вмешиваться, от которого он свободен — вспомним разъяснение слова к̣ад̣а̄) Бог обращается с приказанием возникнуть.
Следующие вслед за упоминанием термина мумкин слова Ибн ‘Арабӣ («пусть оно и является необходимым благодаря Ему с точки зрения тех, кто говорит об этом») адресуют нас к онтологическому учению, разработанному в сочинениях ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣны, согласно которому любая вещь мира является возможной (мумкин) как таковая, вне связи со своей причиной, тогда как в связи с причиной, передающей ей необходимость (= существование), становится необходимой-благодаря-другому (ва̄джиб ал-вуджӯд би-г̣айри-хи, = существующей), а в связи с причиной, обусловливающей ее невозможность (= несуществование), становится невозможной-благодаря-другому (мумтани‘ ал-вуджӯд би-г̣айри-хи, = несуществующей). Лестница причин, или лестница передачи необходимости (= существования), восходит к Богу — Первопричине, которая необходима-благодаря-самой-себе (ва̄джиб ал-вуджӯд би-з̱а̄ти-хи). В этом учении «возможность» (имка̄н) — это категория, которая указывает на самостоятельный статус вещи, несводимый к существованию (= необходимости) и несуществованию (= невозможности) и логически первичный в отношении них, поскольку вещь не теряет этот статус ни в состоянии существования, ни в состоянии несуществования: она всегда может быть отвлечена от причины, давшей ей необходимость или невозможность, и тогда окажется сама-по-себе возможной.
При попытке перевести эту тройственную систему категорий в бинарную, построенную на оппозиции «существование-несуществование» и на представлении о предельном характере категории «существование», она неизбежно разрушается: «возможность» перестает быть самостоятельной категорией. Авторы, идущие по этому пути, начинают употреблять термин «возможное» вместо громоздкого понятия «необходимое-благодаря-другому» (в изначальной редакции учения вовсе не тождественного «возможному»), тогда как термин «необходимое-благодаря-самому-себе» ужимается до просто «необходимого». Теперь система категорий упрощается и выглядит как бинарная, где «возможное» обозначает любую вещь мира, а «необходимое» — Первопричину, или Бога; эта метаморфоза произошла в поздней фальсафе и в других областях мысли.
Против такой редукции Ибн ‘Арабӣ неоднократно протестует в своих произведениях, отмечая, что «возможность» должна быть понята как самостоятельная
322
категория, без которой процессуальная связанность Бога и мира не осуществится. В процессуальной парадигматике, где процесс обладает собственным онтологическим статусом, не редуцируемым до онтологии действующего и претерпевающего, «возможное» как раз и играет роль связующего звена между действователем (у Ибн ‘Арабӣ — Богом) и претерпевающим (миром в его временнóм существовании). Редукция до пары «возможное-необходимое» уничтожает процессуальную парадигматику и переводит рассуждение в план субстанциально-ориентированной онтологии, где существование понимается как либо возможное существование (всех вещей мира), либо необходимое существование (Бога) и где фиксация существования в каком-то из его модусов только и дает право говорить о вещи-субстанции, тогда как отсутствие какого-либо модуса существования устраняет и такое право.
Пойдем дальше. Говоря: «…в силу того, что этого требует либо Самость, либо знание с его мыслительными посылками», Ибн ‘Арабӣ, видимо, имеет в виду мутазилитов в первом случае и фала̄сифа, придерживавшихся фарабиево-авиценновой онтологии, во втором. Термин мумкин (возможное) употреблялся уже мутазилитами для обозначения любой вещи мира, которая может быть сотворена Богом; отсюда и отсылка к Самости Бога, придающей необходимость возможному. Во втором случае речь может идти о рациональном доказательстве конечности причинно-следственного ряда, который делает необходимой любую вещь мира, саму-по-себе обладающую возможностью: если бы череда причин, передающих необходимость, была бесконечной, то необходимость не была бы передана никакой из вещей мира (бесконечный ряд нельзя пройти), и тогда ни одна вещь мира не существовала бы.
И наконец, заключительные слова: «…не может быть установлена…» В оригинале мы имеем здесь так̣ӯм с̣ах̣ӣх̣а мин. В переводе этого выражения исхожу из разъяснений, предоставляемых классическими арабскими словарями: с̣ах̣ӣх̣ означает «свободный от изъянов», то есть «здоровый», не затронутый болезнью или иными недостатками. Так и здесь: доказательства, построенные на понятии «существование», не могут «затронуть» соотнесение Бога и какой-либо вещи мира, а потому такая соотнесенность «здорова от» подобных доказательств.
В самом деле, необходимое само по себе существование, с одной стороны, и возможное — с другой, не имеют между собой ничего общего; даже если принять вслед за Ибн Сӣной, что Первопричина как источник всякой необходимости передает свою необходимость следствиям, т. е. вещам мира, которые, рассматриваемые сами по себе, возможны, остается непонятным, как, за счет чего осуществляется такая передача. Должно быть что-то, связывающее Первоначало и вещи мира, — но в фарабиево-авиценновской онтологии отсутствует указание на такое связывание, говорит Ибн ‘Арабӣ в следующей фразе. Иначе говоря, отсутствует указание на процессуальное звено — то, что только и может связать действователя и претерпевающее. Как видим, очевидность, к которой апеллирует Ибн ‘Арабӣ, носит логико-смысловой характер: это базовая интуиция процессуально-ориентированного мышления.
323
Следующая фраза Тезиса — изумительная по своей логической ясности и отточенности формулировка:
Между указанием и тем, на что указано, между доказательством и тем, что доказывается, должна каким-то образом (ваджх) иметься связанность (та‘аллук̣), имеющая отношение и к указанию, и к тому, на что указано посредством этого указания: без этого указывающее никогда бы не достигло того, на что указывает его указание.
Обратим внимание на два термина: «связанность» и «указание». Совершенно не случайно, что для нашего субстанциально-натренированного мышления эти слова звучат довольно невнятно и их терминологический статус будет опознан далеко не каждым переводчиком и исследователем. Между тем слово та‘аллук̣ неоднократно встречается в «Тезисах», и способ обращения с ним не оставляет сомнений в его полновесном терминологическом статусе. Та‘аллук̣ приходится передавать словом «связанность», сообразуясь с построением русской фразы. Хотя такой перевод — не ошибка, он устраняет процессуальное понимание термина, которое должно быть возвращено в наш мыслительный горизонт, если мы хотим лучше понять логику рассуждения Ибн ‘Арабӣ: та‘аллук̣ — это прежде всего «связывание» как процесс, требующий обеих сторон, действующей и претерпевающей, и устанавливающий именно их взаимо-связанность. Термин та‘аллук̣, таким образом, может рассматриваться как общее обозначение сути процесса, заключающейся в связывании двух его сторон.
Арабский язык легко образовывает форму ’исм маф‘ӯл (имя претерпевающего) для этого процесса — мута‘аллак̣ би-хи, с которой мы также неоднократно встречаемся в «Тезисах». Интересно, что русский язык не имеет формальных средств, способных адекватно отобразить эту, претерпевающую, сторону процесса: нам приходится обходиться громоздкими конструкциями вроде такой: «то, с чем устанавливается связанность» — и тому подобными. В любом случае мы имеем здесь — на уровне языка и его формальных средств — невозможность адекватного отображения процессуальности и сталкиваемся с необходимостью перевести ее в регистр субстанциальности: когда мы говорим «то, с чем…», мы постулируем некий субъект («то»), обладающий предикатом («..с чем связывается»), а значит, строим субъект-предикатную конструкцию (как будто независимое предложение), замещающую в русской фразе арабскую форму имени претерпевающего.
Такие языковые метаморфозы служат одним из показателей «подогнанности» арабского и русского языков под потребности процессуально-ориентированного и субстанциально-ориентированного мышления соответственно, а настоятельная необходимость проведения подобных заведомо неадекватных преобразований языковых форм — показателем контраста, т. е. нередуцируемых различий логико-смысловых оснований двух модусов мышления. Конечно, в мысли, особым усилием, с использованием комментария и благодаря постоянному контролю за языковыми формами русского перевода, можно достичь адекватного понимания и при
324
неадекватности языковых форм: последние не предопределяют фатально нашу мысль, хотя могут быть более или менее комфортными для того или иного устройства мышления.
Связанность-та‘аллук̣ нужна для того, чтобы обеспечить необходимую «сцепленность» противоположностей — действующего и претерпевающего. Это — базовое требование процессуальной смысловой логики, поскольку без такой сцепленности процесс невозможен: процесс, собственно, и служит самой этой сцепленностью.
Перейдем к «указанию» и заключительным словам отрывка. Рассуждение Ибн ‘Арабӣ определено процессуальной парадигмой, которая задает тройственность действователя, подверженного воздействию и самого действия как онтологическую, а не только словесную. Иначе говоря, каждое из звеньев этой цепи должно иметь собственный онтологический (с необходимым переосмыслением слова «онтология») статус. Воздействующее и подверженное воздействию, Бог и мир составляют крайние звенья процессуальной цепи; их Ибн ‘Арабӣ называет «указывающее» (да̄лл) и «то-на-что-указано» (мадлӯл), или «доказательство» и «доказанное», если использовать другое значение слов в корнем д-л-л. Но главное — среднее звено этой цепи, т. е. сам процесс «указывание» (или «доказывание» — далӣл): без него, говорит Ибн ‘Арабӣ, Бог и мир, указывающее и то, на что указано, не могли бы быть связаны, указание не дошло бы до своего адресата. Этот процесс, связывающий две стороны, Ибн ‘Арабӣ наделяет собственным онтологическим статусом и отождествляет его с Третьей вещью (см. его «Составление окружностей»: [Ибн Араби 2013]), именуя также «Область соотнесенностей» и «Облако» (‘ама̄’ — известный концепт исламской мифологии).
На этом основании строится дальнейшее рассуждение, разделяющее понятия Самость (з̱а̄т) и божественность (’улӯха, ’улӯхиййа):
Творение и Истинный никаким образом (ваджх) не могут иметь ничего общего с точки зрения Самости. Однако, поскольку эта Самость характеризуется божественностью (’улӯха), то это — другое определение (х̣укм), которое разум самостоятельно постигает.
Мир и Бог, Творение и Истинный, говорит Ибн ‘Арабӣ, не могут иметь ничего общего, а значит, между ними исключена какая-либо связанность-та‘аллук̣. Но это верно только с точки Самости, иначе говоря, субстанциально: абсолютное субстанциальное разведение Бога и мира, постулируемое исламским вероучением, исключает какую-либо их субстанциальную общность, а значит, и субстанциально-понятую связь между ними. Такая связь должна устанавливаться на другом основании — процессуально. Этому и служит категория «божественность», которая, как говорит Ибн ‘Арабӣ, представляет собой другой х̣укм.
Х̣укм — один из частотных у Ибн ‘Арабӣ терминов, смысл которого непросто передать, выбрав какой-то один вариант перевода. Х̣укм — масдар (имя действия) от глагола х̣акама «судить» в самом общем смысле. Поэтому х̣укм — это «суждение»,
325
т. е. некое утверждение, устанавливающее определенное положение дел. В фикхе это — общее название категорий, под которые подводятся поступки людей и которые таким образом получают то или иное определение. Что-то близкое имеет в виду Ибн ‘Арабӣ: х̣укм у него — это некая определенность, которая служит следствием соотнесения данной вещи с чем-то другим. Именно соотнесение-с-другим, та самая «связанность» (та‘аллук̣), о которой Ибн ‘Арабӣ говорил только что, производит х̣укм и придает его данной вещи: это, иначе говоря, не какое-то внутреннее качество, свойство или характеристика вещи, которые наращивают смысловое содержание данной вещи, будучи предицированы ей в соответствии с процедурой субстанциально-устроенной предикации. Х̣укм — это то, что позволяет нам судить (вот где этимология) о данной вещи как о такой-то на основании ее соотнесения с другой вещью, т. е. судить о ней на основании процессуально-выстроенной предикации (о двух типах предикации см. «Шкатулка скупца, или Почему мы верим в законы логики» и другие работы раздела II «Логика»).
Передавая х̣укм словом «определение», я вполне понимаю, что определение в привычном нам смысле слова, логическое определение, — это х̣адд («ограничивание»), но даю именно такой перевод с целью показать, что х̣укм — это определение, достигаемое иным способом, нежели приписывание атрибутов некоему субстанциально-понятому субъекту; иначе говоря, х̣укм — это определение вещи, достигаемое процессуально, через ее соотнесение с другой вещью. Эти два типа определения, х̣адд и х̣укм, принадлежат разным логико-смысловым пространствам.
Сам Ибн ‘Арабӣ фиксирует различие между двумя способами придания определенности вещи: через (1) предицирование качеств или характеристик вещи как субстанциально понятому субъекту (т. е. предикатов как внутренних качеств вещи) и через (2) определение-х̣укм, даваемое благодаря соотнесению-с-другой-вещью. Примером первого служит попытка понять Самость Бога через приписывание ей атрибутов, о чем Ибн ‘Арабӣ будет говорить ниже: если такое приписывание мыслится как придание «самостного атрибута» (с̣ифа з̱а̄тиййа), т. е. атрибута, которым описывается данная самость сама в себе (как субстанция), то оно будет неудачным в любом случае (в случае и положительных, и отрицательных атрибутов); а вот если Самости Бога придается определение-х̣укм «божественность», то такая ее характеристика правильна и удачна, и именно этот путь Ибн ‘Арабӣ изберет для построения своего учения.
Что же такое «божественность»? Если понимать этот термин как всего лишь описанность божественной Самости ее именами, — а именно так ее обычно понимают исследователи Ибн ‘Арабӣ, да и формулировки в этом смысле можно найти в его текстах, — то в чем отличие такого понимания от первого способа придания вещи определенности через приписывание ей атрибутов, т. е. именно того способа, который Ибн ‘Арабӣ отвергает? Ведь трактовка божественной Самости как Самости, описанной именами, характерна для того субстанциализирующего прочтения текстов Ибн ‘Арабӣ, которое говорит о нисходящем, неоплатонически скроенном «самораскрытии» Абсолюта, когда на пути этого раскрытия развернутость божественной
326
Самости в виде бесконечного многообразия имен служит первым шагом к конечному пункту — «затвердеванию» этих имен в виде вещей мира.
Если понимать божественные имена как атрибуты, а придание божественных имен — как их предикацию божественной Самости, то разницу с первым, отвергаемым Ибн ‘Арабӣ путем придания определенности абсолютной божественной Самости заметить будет и в самом деле сложно. Неспособность заметить и внятно объяснить такую разницу — одна из неудач, которые терпит искажающая интерпретация, подменяющая логико-смысловое основание и выстраивающая себя в субстанциальной, а не процессуальной перспективе: приходится не обращать внимания на такие вот «нестыковки», которые списывают обычно за счет непоследовательности автора, сумбурности, вызванной мистическим характером текста, — но которых на самом деле нет, поскольку они тают как туман, как только мы ставим текст Ибн ‘Арабӣ на адекватное логико-смысловое основание.
Так и здесь: разговор о божественности не означает предикации имен Самости Бога, когда бы они понимались — как понимаются в субстанциально-ориентированной логике — в качестве собственных характеристик вещи, наращивающих ее содержание (в традиционном понимании логики) или задающих объем обозначающего ее понятия, т. е. относящих ее к некоторому классу (в современной трактовке логики). Он означает совсем другое: соотнесение (вспомним начало этого Тезиса) Самости с вещами мира, благодаря чему она и приобретает все определенности-х̣укм — но приобретает их не «как таковая», т. е. не как собственные атрибуты (первый, субстанциально-ориентированный тип задания определенности), а как соотнесенности-нисаб, не «затрагивающие» Самость как таковую, не «внедряющиеся» внутрь ее, а лишь внешним образом позволяющие давать суждение-х̣укм, определяющее ее как такую-то.
Как же можно определить Самость как «такую-то», не внедряя внутрь ее никаких различающих характеристик? Только процессуально: как находящуюся в таком-то процессуальном соотношении с вещью мира, т. е. как действующую и связанную этим действием (точнее, действованием — процессом) с подвергающимся воздействию. Так эта процессуальная тройка, выражаемая в терминах арабской грамматики как фи‘л—фа̄‘ил—маф‘ӯл (глагол—имя действия—имя претерпевающего), восстанавливается в рассуждении, чтобы показать истинный смысл процессуального определения-х̣укм.
Далее Ибн ‘Арабӣ говорит:
А мы считаем, что знание обо всем том, что разум постигает самостоятельно, может предшествовать свидетельствованию (шухӯд) этого.
Это — крайне важное утверждение Ибн ‘Арабӣ, которое фактически устанавливает подвластность разуму устройства миропорядка, начиная с его первых оснований, и независимость разума от откровения в любых его формах, предполагающих мистическое приобщение к «тайнам». В этом Ибн ‘Арабӣ очень напоминает мутазилитов с их пафосом рационализма и этим, конечно, отличается
327
от многочисленных предшественников и последователей, не проводивших эту линию рационализма последовательно или вовсе предававших ее забвению. Единственное ограничение, которое Ибн ‘Арабӣ налагает на разум, — это познание божественной Самости как таковой. Вместе с тем эта абсолютная, ничем не ограниченная божественная Самость, во-первых, не может быть познана в принципе в силу своей абсолютности (познание — всегда ограничение, так̣йӣд), а во-вторых, она не может быть причиной мира (об этом Ибн ‘Арабӣ неоднократно говорит и в «Геммах мудрости», и в «Мекканских откровениях»). Таким образом, иррациональность абсолютной божественной Самости никак не умаляет у Ибн ‘Арабӣ способности разума постичь последние основания мироустройства — божественность, взятую как развернутость вещей мира, не обладающих существованием, и процесс ежемгновенного наделения их существованием и их воплощения в качестве временнóго мира. Когда Ибн ‘Арабӣ говорит, что такое знание мироустройства не доступно «рационалисту» (а такие высказывания встречаются у него неоднократно), это следует понимать как указание на ограниченность определенного философского или доктринального учения, излагаемого рационально, а вовсе не как отрицание принципиальной посильности этого ибн-арабиевского учения для разума.
Таким образом, учение Ибн ‘Арабӣ, по его собственному признанию, может быть выстроено и постигнуто рационально, без апелляции к сверх- или вне-рациональным источникам.
Однако Самость Всевышнего Истинного отлична от этого: ее свидетельствование предшествует знанию о ней, более того, она свидетельствуется, но не познается. А божественность познается, но не свидетельствуется: Самость ей противостоит (тук̣а̄билу-ха̄).
Как представляется, в этих формулах противопоставления Самости Бога и божественности с точки зрения познания и свидетельствования под свидетельствованием Ибн ‘Арабӣ подразумевает формулу исповедания веры (шаха̄да —
«свидетельствование»), в которой выражена единственность Бога. Единственность Ибн ‘Арабӣ считает прямым, более того, единственно адекватным указанием на Самость, в то время как божественность у него предполагает непременную связанность с мирским, а значит, исключает единственность. Такая связанность-с-мирским и не-единственность божественности никак не указаны в формуле исповедания веры, поэтому Ибн ‘Арабӣ и говорит, что божественность не свидетельствуется. Это можно считать узловым пунктом, который компактно показывает расхождение исламского вероучения (‘ак̣ӣда) с учением (и‘тик̣а̄д) самого Ибн ‘Арабӣ, сжато излагаемом в «Тезисах».
«Свидетельствование» вряд ли можно понимать здесь иначе и отождествлять с однокоренным «свидетельствуемым» (ша̄хид), которое упомянуто в других местах «Тезисов» (см. Тезис 6 в [Ибн Араби 2014: 150 и далее]): там ша̄хид употребляется уже в другом смысле и оказывается несовместимым с Самостью Бога, которая характеризуется как сокровенная (г̣а̄’иб).
328
И наконец, в завершение Тезиса — разработка положения о невозможности субстанциально-понятной предикации в отношении Самости:
Сколько ученых-рационалистов, притязающих на обладание уравновешенным разумом, утверждают, что мысль и умозрение дали им знание о Самости! Однако рационалист ошибается, ведь мысль его мечется между отрицанием (салб) и утверждением (ис̱ба̄т).
Ибн ‘Арабӣ имеет в виду подходы к трактовке божественных атрибутов, которые (в числе прочих) были выдвинуты еще мутазилитами и воспроизводились последующими мыслителями. Отрицание-салб — это понимание смысла (ма‘нан) некоего божественного атрибута как отрицания его противоположности без утверждения чего-либо; например, атрибут «знающий» имеет тот смысл, что отрицает «невежество» Бога, «могущественный» отрицает «бессилие», и т. д. Под утверждением-ис̱ба̄т понимается трактовка атрибутов как приписывающих Богу нечто; так мутазилиты рассматривали прежде всего три атрибута, которые упоминает ниже Ибн ‘Арабӣ (знание, могущество, воля), поскольку именно через них Бог раскрывается как действователь (фа̄‘ил), т. е. как творец (х̱а̄лик̣): могущество и воля — необходимые свойства подлинного действователя, а знание — необходимое условие воли, которую еще мутазилиты определяли как альтернативный выбор (выбор невозможен без знания альтернатив). Негативная трактовка божественных атрибутов была развита в дальнейшем фала̄сифа.
Утверждаемое к нему же и восходит, ибо рационалист утверждает за Истинным именно то, каков он сам: знающий, могущий, волящий и так далее все имена. А отрицаемое (салб) восходит к несуществованию и отрицанию (нафй). Отрицаемое не является самостным атрибутом, ибо самостные атрибуты для сущего — утвержденные (с̱убӯтиййа). Так этот мыслитель, мечущийся между утверждением и отрицанием, никакого знания о Боге не получает [Ибн Араби 1998, 1: 80].
Что «отрицаемое не является самостным атрибутом», вполне понятно: вещь нельзя определить, перечисляя то, чем она не является, поскольку это не составляет ее собственного свойства, делающего ее именно ею.
* * *
Эти три точечных примера показали, я надеюсь, со всей ясностью контраст между субстанциально-ориентированной средой мышления, к которой мы привыкли, и процессуально-ориентированной, которая характерна для текстов, созданных в лоне арабской культуры. Не для всех, это верно; как раз исследование логико-смысловой карты арабо-мусульманской культуры было бы захватывающим предприятием. Но оно возможно только и именно после того, как мы выделим чистые логико-смысловые типы и, отталкиваясь от этого, сможем проследить их разграничение, их противостояние, а порой и смешение в конкретных текстах культуры.
 |
5.5 Логическая неопределенность перевода: грамматика языка и грамматика мысли |

|
329
Арабский глагол ваджада означает «находить», а в страдательном залоге (вуджида) — «находиться». Русское «находиться» может выполнять связочную функцию, которая, на первый взгляд, соответствует таковой у глагола «быть» и его эквивалентов в европейских языках. Более того, в русском языке «находиться» даже вытесняет «быть» во фразах в настоящем времени. Например, «я нахожусь в доме», а не «я есть в доме» — последнее неестественно, хотя и понятно; правда, уже одинаково естественны фразы в прошедшем времени «я был в доме» и «я находился в доме».
И все же при кажущейся эквивалентности «находиться» и «быть» их существенная неэквивалентность сохраняется. Она заключается в том, что «быть», а не «находиться» используется в формуле «S есть P», которая служит предельной формой для любой фразы, глагольной или именной, в русском языке. Под «предельной формой» я понимаю такую форму, в которую можно перевести любую без исключения фразу, но которая сама ни во что не может быть переведена. Отвлекаясь от языковой привычки и обращая внимание только на грамматическую форму, понятную носителю русского языка (пусть и не употребляющуюся в естественной речи), мы заметим, что можно сказать: «Я есть находящийся в доме», переформулируя на основе формулы «S есть P» фразу «Я нахожусь в доме», но невозможно придумать такую же переформулировку, в которой фигурировал бы в качестве предельной связки глагол «находиться». Невозможно потому, что любая такая фраза все равно может быть переформулирована с помощью «быть», ей все равно можно придать форму «S есть P». В этом смысле «быть» и «находиться» неэквивалентны.
Формула «S есть P» задает предельную, или атомарную, форму высказывания: любое сложное высказывание сводится к этой атомарной форме или комбинации таких форм. Это верно для мышления, которое естественно использует в качестве средства своего выражения русский или другие европейские языки: здесь языковые формы и базовые, ядерные формы мышления замечательно пригнаны друг к другу, и выражение мышления в языковых формах не наталкивается ни на какие препятствия.
Иное дело арабский язык. В арабском отсутствуют естественно-языковые средства, эквивалентные глаголу «быть» и позволяющие построить высказывание, ядерной формой которого было бы «S есть P»1. Это не значит, что с использованием
330
арабского языка нельзя имитировать глагол «быть» и формулу «S есть P». Имитировать можно что угодно с помощью чего угодно, если договориться соответствующим образом и сыграть в витгенштейновскую языковую игру: обращаясь с языком как с кодом, как со знаковой системой (что ужасно и отвратительно, но не невозможно), мы можем для своего сообщества, посвященного в правила игры, закодировать некоторые из языковых средств как эквиваленты всех тех форм, которые нужны, чтобы сконструировать ядерную формулу «S есть P». В этом, собственно, нет ничего удивительного: если наше мышление уже обладает формулой «S есть P» и уже привыкло выстраивать себя как развертывание этой ядерной формы предикации, ему не составит труда приспособить к этим нуждам любой язык, добавив в него при необходимости недостающие «знаки» и перекодировав имеющиеся. Защитники тезиса о том, что с помощью арабского языка можно выразить все то, что греки выражали с помощью глагола einai и его производных on и ousia1, ломятся по сути дела в открытую дверь: конечно, это возможно. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, (1) устроен ли арабский язык таким образом, что он без всякой перекодировки и искусственной языковой игры использует формулу «S есть P» как ядерную формулу предикации и, следовательно, (2) отражает ли он мышление, для которого «S есть P» служит исходной, ядерной формой разворачивания. В случае, если мы получим отрицательный ответ на оба вопроса, мы имеем право поставить третий: действительно ли форма «S есть P» является универсальной ядерной формулой разворачивания субъект-предикатных комплексов? Возможна ли другая предельная форма выстраивания предикации?
Сказанное намечает общий проблемный контекст исследования, которое мы предпримем. Перевод имеет дело с языком; но перевод всегда имеет дело с мышлением. Именно в переводе, в этой точке перехода от одной языковой формы к другой, где мы уже освободились от языковых одежд исходного текста, но еще не надели новых, переводных языковых форм, мы остаемся с голой мыслью2, голой едва ли не в физическом смысле: лишенная прикрывающей языковой чешуи, она беззащитна, как любое новорожденное существо. Как никто другой, переводчик способен ощутить это биение чистой мысли (чистого смысла), потому что именно он привык раздевать и одевать ее, а потому хорошо чувствует разницу между одеянием и одетым. Поэтому предельный вопрос — вопрос о предельных формах мысли — не может не стоять, эксплицитно или имплицитно, перед любым переводчиком. Мы увидим, как вопрос о ядерной форме мышления встает в процессе, казалось бы, несложных и безобидных операций перевода.
331
Итак, именно с помощью глагола ваджада, взятого в страдательном залоге, и его производных передавалось античное «бытие» и связанные с ним идеи1. Воспроизводилась ли тем самым и предельная форма мысли, точнее, предельная форма предикации «S есть P» — ядерная формула, лежащая, как мы бы сказали, в основе любого предикативного высказывания, формула, вопрос об универсальности которой мы и поставили? Нет, не воспроизводилась. Ситуация здесь зеркальная в сравнении с той, что мы имеем в русском языке с глаголами «находиться» и «быть»: будучи как будто равнозначными, они на деле не равнозначны, поскольку второй, а не первый, задает предельный фон мысли. Здесь то же самое (хотя в содержательном плане — обратное в отношении «быть» и «находиться»): даже если мы перекодируем нужные нам языковые формы арабского2 и скажем Зайд йӯджад/мавджӯд инса̄нан «Зайд находится (= является) человеком» или йакӯну Зайд инса̄нан «Зайд есть человек»3, мы получим форму «S есть P» не как предельную, а как, во-первых, искусственно созданную, имитируемую средствами языковой игры, а во-вторых — и это гораздо важнее — как допускающую свою переформулировку в грамматически исходную, ядерную форму предикации, которая отражается другой формулой4. Ограничимся сутью дела, поскольку здесь невозможно входить во все детали: исходная, ядерная форма предикации для арабского языка может быть отражена формулой «S P»5, а значит, формула «S есть P» переформулируется в эту исходную таким образом: «S есть P» → «S (есть P)» → «S P*». Говоря попросту, все языковые средства, которые мы назначаем в нашей языковой игре на роль выразителей связки «есть», трактуются с точки зрения предикационной грамматики арабского языка как часть предиката, и нет никакой возможности считать их «связкой». Базовая
332
операция связывания субъекта и предиката, ядро словесной фразы, совершается здесь иначе.
Итак, две (а не одна) исходные, ядерные формулы предикации: «S есть P» и «S P». И то и другое выражает связность — но по-разному.
Что это значит? Чтобы ответить на этот вопрос, договоримся различать словесное оформление ядра фразы, т. е. субъект-предикатной склейки, и его мыслительное оформление. Это два существенно разных способа представления, хотя словесная форма призвана представить мысль, ничто иное. Разница между ними та, что в предложении слова по необходимости вытянуты в цепочку, рядоположены; однако в мысли субъект и предикат столь же необходимо слиты в нечто одно; собственно, и не слиты, они — одно.
Возьмем какое-нибудь предложение и рассмотрим его словесное и мыслительное оформление. «Кошка — белая»: два слова, поставленные рядом и соединенные в субъект-предикатную конструкцию связкой «есть» (вместо нее стоит тире). Но в мысли «кошка» и «белая» — нечто одно, не два разных. В чем тогда польза такой предикации? Если «кошка» и «белая» — это нечто одно, цельное и не расчленяемое в пределах данной субъект-предикатной конструкции, то не будет ли одно и то же сказать «кошка» и «кошка белая»? Нет, потому что предикация «кошка белая» предполагает по необходимости наше знание о том, что кошки бывают и не-белыми; не говоря уже о том, что мы знаем, что наша белая кошка никак не может оказаться не белой, а также и то, что любая кошка окажется либо тем, либо другим.
Всего этого знания нет в субъекте — в слове «кошка». Но его, собственно, нет и в предикате как таковом, в слове «белая». Тогда откуда оно берется? Только из того, что мы откуда-то знаем, что белая и не-белая вместе образуют исчерпывающее поле предикатов цвета для любой кошки; что белая и не-белая дихотомичны и что, следовательно, будут работать все три Аристотелевых закона, которым наша белая кошка непременно подчинится. Мысль как будто расширяет слово, прочерчивает линии, словесно заданные лишь намеком. В свою очередь, все это работает только потому, что мы знаем, что предикат «белая» — не просто некое «значение» или некое ощущение белизны; мы точно знаем о том, что он имеет свою противоположность, что это противоположение устроено строго определенным образом и что оно снимается в единстве общего понятия (например, «цвет»). Эта вполне определенная сконфигурированность противоположения-и-объединения и дает нам все это знание, не содержащееся в словах предложения как таковых.
Однако словесное оформление фразы как будто подсказывает нам этот конкретный вид конфигурации противоположения-и-объединения, откуда взят наш предикат «белая». Связка «есть», явно выраженная или подразумеваемая и восстанавливаемая, указывает на строгую самотождественность субъект-предикатной склейки, ее ограниченность пределами предиката «белый»: в такой фразе нашей белой кошке нет никакого дела до ее противоположности, до любых не-белых кошек, и если представить себе, что некий безумец истребил всех не-белых ушастых зверьков на свете,
333
наша любимица от этого ничуть не пострадает и пребудет как «белая кошка». Конкретный вид сконфигурированности противоположения-и-объединения, откуда мы взяли предикат «белая» и который сохранил в бытии нашу белую кошку во вселенской катастрофе, постигшей всех небелых ее собратьев, как будто подсказан типом предикации и связкой «есть». Эта конфигурация как будто спроецирована на тип связывания субъекта и предиката1, и формула «S есть P» только потому оказывается предельной — такой, в которую может быть переформулирована любая другая фраза, что она отражает тот тип конфигурированности противоположения-и-объединения, из которого мы всегда (пока остаемся в данной логике) берем предикаты, чтобы приписать их субъекту.
Пусть теперь наша кошка получит миску любимого ею молока. «Кошка лакающая», скажем мы, глядя, как она наслаждается лакомством. Эту фразу можно рассмотреть так же, как первую, сказав: «Кошка есть лакающая» — и применив ту же логику понимания. Однако данная фраза удобна, чтобы показать возможность другой логики. Здесь для нас будет важна не субстанция («кошка»), а то действие, которое она совершает («лакание»). Мы тогда будем точно знать, — хотя этого не сказано в словах, — что лакающая кошка связана с лакаемым молоком лаканием, причем так, что эта троицу невозможно расцепить, не уничтожив каждое ее звено. «Лакающая» кошка требует «лакаемого» молока и без него не будет «лакающей»; ее предикат не замыкает ее в пределах и границах некоего класса «лакающих» кошек2, а напрямую привязывает к ее противоположности (лакаемому молоку) процессом лакания, который соединяет лакающую кошку и лакаемое молоко, хотя вовсе не объединяет их в некий род, класс или множество, которые дихотомически делились бы на две половинки. Мы не можем вставить связку «есть» между «кошкой» и «лакающей», не порушив всю процессуальную конструкцию, не превратив кошку в субстанцию и не изменив онтологию выстроенного процессуального мира. Ведь в процессуально понятой фразе уничтожение всего «лакаемого» молока во вселенной уничтожит и «лакающую» кошку, равно как и процесс «лакание»: могут происходить какие угодно процессы, в которых будет участвовать наша кошка (она исчезнет как «лакающая», но не как, например, «охотящаяся»), но не этот. А вот в субстанциальном мире «лакающих» и «не-лакающих» кошек попросту невозможно уничтожить объект их лакания: его нет ни в пределах словесной фразы, ни в пределах мыслимой субъект-предикатной конструкции, даже расширенной до конфигурации противоположения-и-объединения («лакающие»
и «не-лакающие» кошки). На него невозможно указать и невозможно принять его во внимание, как невозможно принять во внимание процесс, связывающий лакающую кошку и лакаемое молоко и отличный от них обоих — но при этом сцепляющий их в единую неразъемную конструкцию. Онтологии процессуального и субстанциального миров различны.
Здесь требуется несколько уточнений. Под онтологией я понимаю выстраивание наличного мира так, как то предполагается исключительно фразой «кошка лакающая», т. е. словесно, и ее мыслимым расширением до конфигурации противоположения-и-объединения, выполненной в соответствии с одной из логик, которая (конфигурация) и предоставляет в наше распоряжение предикат. Словесная фраза «кошка лакающая» может быть понята в любой из этих двух логик. Но это не значит, что логики выстроят разную действительность. Мир субстанций и мир процессов — не действительность как таковая, а лишь ее отображение в соответствии с требованиями той или иной логики. А вот событие «кошка лакает» — одно и то же, оно не зависит ни от какой из логик и, по видимому, единственным образом представляет действительность. Две логики отображают это событие либо субстанциально, либо процессуально: мы получаем разные отображения, но само событие от этого не меняется.
Арабская грамматика именует субъект, предикат и предикатную связь муснад илай-хи, муснад и исна̄д. Здесь субъект и предикат фразы вступают между собой в отношения, которые точно описываются процессуальной конфигурацией противоположения-и-объединения: мы имеем «опирающееся» (муснад), предикат; «то-на-что-опирают» (муснад илай-хи), субъект; и «опирание» (иснад). Именно «опирание» как процесс связывает две свои стороны, действующую и претерпевающую, т. е. «опирающееся» (не литературным, зато точным переводом для муснад служило бы «опертое» или «опираемое», поскольку термин имеет форму имени претерпевающего) и «то-на-что-опирают» (грамматически форма имени претерпевающего второго порядка, т. е. претерпевающее для муснад).
Получается, что отношение между субъектом и предикатом, как оно расценивается арабской грамматикой, как будто «скопировано» с процессуальной конфигурации действователь-процесс-претерпевающее. Как и в
334
первом случае, эта конфигурация не высказана словесно, по подсказана типом связывания субъекта и предиката — процессуальным связыванием. Формулу процессуального субъект-предикатного связывания можно выразить, использовав знак взаимодействия: «S ⇔ P». Такая запись лучше, поскольку показывает, что субъект и предикат не поставлены рядом: подобное рядополагание не давало бы связной фразы. Они связаны тем, что арабская грамматика называет исна̄д — букв. «опирание».
В завершение этого отступления еще раз подчеркну: в словесной грамматике субъект и предикат связаны так, чтобы подсказать нашему языковому сознанию (а тем самым — и мысли) тип конфигурирования, который управляет связью предиката с его противоположностью и с объединяющим эти две противоположности понятием, хотя в мысли субъект и предикат — нечто одно. Грамматика мысли, не высказанная явно
335
в минимальной (ядерной) словесной фразе, спроецирована на слово и выявлена в превращенной форме словесной грамматики субъект-предикатной связи.
Выяснив различие двух ядерных формул завязывания фразы, мы подобрались вплотную к нашей теме. Остается подчеркнуть (хотя это и было указано выше) вот что: словесная фраза на естественном языке, неважно, арабская или русская, не содержит и не может содержать никаких средств, однозначно фиксирующих ту или иную ядерную формулу предикации и, следовательно, внутреннюю логику текста. Какой именно тип завязывания фразы мы используем, прочитывая и понимая текст, — это прерогатива мышления, а не языка. Иначе говоря, даже если автор построит фразу или текст на основе базовой формулы «S есть P», читателю ничто не может помешать прочитать ее на основе формулы «S ⇔ P». И наоборот: текст на естественном языке логически недооформлен. Это и создает возможность игры — но не игры значений, создаваемой вечным несовпадением лексики любой пары языков. И не игры синтаксиса, вызванной расхождением синтаксических правил и привычек языков. Это создает возможность более глубокой игры — игры логик. Такая логическая игра, т. е. возможность переопределения логики текста, создает вместе с тем и дополнительную возможность игры значений и синтаксиса.
Посмотрим на конкретном примере, как это работает.
В IX в. в Багдаде, цветущей столице халифата, жил Абӯ ал-К̣а̄сим ал-Джунайд, прославленный мистик, глава школы так называемого трезвого суфизма. До нас дошло несколько работ ал-Джунайда, составивших небольшой том. Одна из них называется Кита̄б ал-фана̄’ — «Послание о фана̄’». Работа, занимающая всего несколько страниц, посвящена одной из важнейших категорий суфийского учения — фана̄’, букв. «гибель». Эта категория непосредственно связана с тем, как суфии трактуют сердцевину исламского учения — положение о тавх̣ӣд, божественной единственности. «Нет бога, кроме Бога», гласит первая половина шахады — исламской формулы свидетельствования веры. Бог, иначе говоря, — единственный бог, никаких других богов нет. Это положение звучит очень просто и понятно. Однако суфии делают еще один шаг и говорят, что подлинным и пребывающим можно считать только Бога; все остальное, и прежде всего сам мистик, переживает гибель (фана̄’). Но что это значит? Должны ли мы думать, что существует (подлинно, истинно бытийствует) только Бог, тогда как все вещи и даже сам человек обладают неподлинным бытием и в этом смысле «гибнут»? Будет ли такая «гибель» чем-то вроде исчезновения, аннигиляции в высшей, божественной реальности? Или речь идет о чем-то другом?
Я приведу отрывок арабского текста из названной работы ал-Джунайда, читая и переводя который, мы будем отвечать на этот вопрос. Отрывок вполне понятен и не содержит никаких специфических терминов; единственное, чем стоит предварить его чтение, — это изложение известной коранической истории, на которую ссылается ал-Джунайд. Она поведана в суре «Преграды»: «Некогда Господь твой из сынов Адама, из чресл их, извлек потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих. “Не есмь ли Я Господь ваш?” Они сказали: “Да; исповедуем это”. Это было для
336
того, чтобы вы в день воскресения не сказали: “Мы не были в состоянии постигнуть это” — или не сказали: Отцы наши прежде нас признавали соучастников Богу, а мы были только их потомками”»1. Речь идет о том, что до сотворения мира Бог «извлек» на свет весь людской род, от первого до последнего человека. Понятно, что мира еще не существовало, а значит, и люди не обладали существованием в том смысле, в каком мы приписываем существование сотворенным вещам. И тем не менее весь людской род предстал пред Богом, и в этом предстоянии свершился диалог, расцениваемый в исламе как завет между Богом и человеком. Бог спросил людей, признают ли они его Господом; люди ответили безусловно утвердительно. В исламском вероучении этот эпизод трактуют как указывающий на предвечную истину ислама и на то, что ислам — естественная, соответствующая устройству человека религия, о верности которой весь людской род заявил еще до сотворения мира. Этот же эпизод нередко упоминают суфийские авторы, указывая на предвечную связь между Богом и человеком — связь, которую мистик стремится актуализировать и воплотить, соткав из нее ткань своей жизни.
Итак, арабский текст из работы ал-Джунайда «Послание о фана̄’ (гибели)»:
قلت فما قولك "افناني بإنشائي كما أنشأني بديا في
حال فنائي" ؟ قال أليس تعلم انه عز وجل قال "واذ اخذ ربك
من بنى آدم" الى قوله "شهدنا" فقد اخبرك عز وجل انه
خاطبهم وهم غير موجودين الا بوجوده لهم اذ كان واجدا
للخليقة بغير معنى وجودها لانفسها بالمعنى الذي لا يعلمه
غيره ولا يجده سواه فقد كان واجدا محيطا شاهدا عليهم بديا
في حال فنائهم عن بقائهم الذين كانوا ]في الازل[ للأزل
فذلك هو الوجود الرباني والادراك الالهي الذي لا ينبغي الا له
جل وعز ولذلك قلنا إنه اذا كان واجدا للعبد يجري عليه مراده
من حيث يشاء بصفته المتعالية التي لا يشارك فيها كان ذلك
الوجود اتم الوجود وامضاه لا محالة وهو اولى واغلب واحق
بالغلبة والقهر وصحة الاستيلاء على ما يبدو عليه حتى يمحي
رسمه عامة ويذهب وجوده اذ لا صفة بشرية ووجود ليس
يقوم به لما ذكرنا تعاليا من الحق وقهره انما هذا تلبس على
الارواح [ما لها من الازلية]6
В этом небольшом отрывке 12 раз употреблены слова с корнем в-дж-д: 7 раз — вуджӯд, 3 раза — ва̄джид и по 1 разу — мавджӯд и ваджада. Нам надо решить, как мы будем переводить эти слова, поскольку от этого, как увидим, решающим
337
образом зависит смысл отрывка, закладывающего основу джунайдовского понимания категории фана̄’ «гибель».
Мы начали с того, что глагол ваджада означает «находить». Точнее, этот глагол означает «он находит»: в арабском нет инфинитива, такого, как русское «находить», и любой глагол непременно несет значение лица и времени. Зато в арабском есть масдар — имя действия, которое указывает на действие, не указывая на время (или на лицо)1. Здесь это — самое частотное слово отрывка, вуджӯд. Если вуджӯд — имя действия для глагола ваджада «находить», который встречается в этом отрывке, то мы переведем его как «нахождение». Далее, имя действия, масдар, одинаково «обслуживает» и действительный, и страдательный залог глагола, а значит, вуджӯд будет именем действия и для вуджида — «он находился», как во фразе «Он находился в доме». Наконец, масдар одинаково относится к любому времени глагола, значит, он является именем действия и для глагола настоящего времени — йӯджад «он находится», как во фразе «Он находится в доме». Все это заставляет вспомнить о том, что говорилось в начале статьи. Мы можем утверждать, что вуджӯд имеет значение не только «нахождение» в смысле действия нахождения, но и «нахождение» в смысле «существование», «бытие», причем в силу особенностей арабской языковой формы (масдара) эти значения не могут быть различены в самой языковой форме.
Однако по смыслу эти два значения существенно различаются. В первом случае речь идет о действии, которое совершается кем-то в отношении кого-то: «нахождение» означает, что кто-то «находит» кого-то. Во втором речь идет о существовании: «нахождение» означает, что кто-то «находится», т. е. является таким-то или существует как такой-то. Это — развилка, это — та точка, в которой переводчик непременно должен выбрать один из двух путей: он не может пойти по обоим одновременно. Подлинная причина этого — различие двух базовых формул предикации: в конечном счете мы выбираем именно между ними. Но на поверхности речь идет как будто о флуктуации значений, некоем переливе смысла; так кожа хамелеона переливается разными цветами, хотя и не разноцветна. И все же, даже оставаясь на поверхности, с кожей хамелеона, мы не можем миновать этой развилки, не можем не выбрать; так фотография не может не отобрать какой-то один цвет из всего спектра цветов для каждой точки поверхности хамелеоньего тела.
В нашем отрывке есть еще два слова с корнем в-дж-д. Это ва̄джид, имя действователя для глагола ваджада «находить»; здесь мы не встретим никакой двусмысленности и переведем его «находящий». И имя претерпевающего для этого же глагола — мавджӯд. Имя претерпевающего в арабском языке может отсылать и к действительному, и к страдательному залогу, поэтому мавджӯд мы можем перевести и «находимый» в смысле находимый, обнаруживаемый кем-то (объект
338
действия другого лица), и «находящийся» в смысле существующий. Здесь вновь та развилка, о которой мы говорили: развилка динамики и статики, действия и существования.
Это — развилка, которой не миновать: мы обязаны выбрать один из вариантов перевода. Мы можем проследить за игрой значений в нашем русском переводе — игрой, вызванной этой развилкой. Развилка, обеспечивающая равную возможность двух путей, дает нам и равную обоснованность двух вариантов перевода одного и того же отрывка: мы не можем выбрать между ними на основании языковых предпочтений и аргументов, они с этой точки зрения равно оправданы.
Пойдем по первому пути: будем считать, что вуджӯд означает «существование», «бытие», а мавджӯд — «существующее». Такие слова с корнем в-дж-д, переданные через значение существования, подчеркнуты одинарной чертой. Слова ваджада и ва̄джид нам не удастся передать через значение существования, они останутся привязанными к действию нахождения: «находить» и «находящий» соответственно; такие слова выделены разрядкой. Вот перевод:
Я спросил: Что значат твои слова: «Он (Бог. — А. С.) уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он (ал-Джунайд. — А. С.) ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были существующими (мавджӯд) только благодаря Его существованию (вуджӯд)1: Он находил (ва̄джид) людей, притом что отсутствовал смысл их существования (вуджӯд) для самих себя, благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид, наст. вр. от ваджада) только Он. Так Он находил (ва̄джид, букв. «был находящим») их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее существование (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.
Вот почему мы говорим, что если Он находит (ва̄джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это существование (вуджӯд) — самое совершенное и полное существование (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить все, что в нем (рабе. — А. С.) появляется, так что Он и вовсе стирает его отметины и устраняет его существование (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и существования (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнета Его. Это оказалось темным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].
339
В самом начале отрывка собеседник задает автору трактата вопрос с просьбой разъяснить высказывание, смысл которого — диалектика создания, выстраивания человека и его уничтожения, когда эти два действия оказываются сторонами друг друга. Бог создает, букв. «выстраивает» (анша’а), человека — но тем самым уничтожает, букв. «заставляет погибнуть» (афна̄), его. Как создание может стать уничтожением? Вот вопрос, на который отвечает этот отрывок.
Мы выбрали субстанциальный путь понимания смысла отрывка, трактуя везде, где возможно, слова с корнем в-дж-д как указывающие на существование. Мы понимаем — насколько это позволяет текст — человека как сущее, как то, что «есть»; что не просто наличествует, но что может выступать субъектом в ядерной формуле предикации «S есть P». Тогда у нас сталкивается существование Бога — самое, как здесь сказано, полное, наилучшее существование — и существование человека. Мы обнаруживаем прежде всего, что человек существует благодаря существованию Бога: таким оказывается смысл коранического отрывка, излагающего историю предвечного залога между Богом и человеком. Правда, не совсем ясно, как трактовать это и что означает эта зависимость существования человека от существования Бога в свете следующей фразы, где сказано, что смысла существования людей для самих себя не было: если не было, то как они были существующими? Кроме того, разговор о существовании перемежается указаниями на действия «нахождения» со стороны Бога, которые не вполне понятно как соотносятся с разговором о существовании. В одном месте нам пришлось и вовсе «подчистить» оригинал, чтобы перевод состоялся (см. примеч. 1, с. 338). Впрочем, все эти шероховатости перевода умелый переводчик и комментатор без особого труда устранит гипотезами ad hoc.
Во втором абзаце отрывка мы обнаруживаем, что Бог «находит» человека и полностью подчиняет себе, распространяя на него свою волю. Это и оказывается наилучшим для человека существованием: полная подчиненность воле Бога и полное устранение человеческого существования. Правда, тут же сказано, что любое существование и атрибут человека Бог устраивает — но как устраивает, если они устранены? И все же можно вытянуть некий смутный «общий смысл» отрывка примерно следующим образом: Богу принадлежит полное и самое совершенное существование, человеческое существование целиком зависит от божественного и является ничем в сравнении с ним.
Почему я предложил первым такой, субстанциальный путь перевода? Потому, что таковы, как я их называю, герменевтические привычки нашей культуры, формирующие наши герменевтические ожидания: наше мышление ориентировано на базовую ядерную формулу предикации «S есть P», поэтому смысл «есть» и «существование» имеет преимущество и вычитывается первым, вытесняя другие возможные прочтения. Другая, альтернативная логика предикации, выражаемая формулой «S ⇔ P», непривычна, а потому подсказываемые ею значения действия, т. е. значения, связанные с «находить», а не «находиться», оттесняются на периферию. Поскольку в самих словах, неважно, русских или арабских, нет ничего, что
340
однозначно определяло бы базовую логику предикации, то субстанциально-ориентированное прочтение, направляемое формулой «S есть P», во-первых, всегда возможно, а во-вторых, всегда может защитить себя с помощью теорий ad hoc. Иначе говоря, не только «первый слой» интерпретации, т. е. предложенный перевод, может быть основан на этой логике, но и любые контраргументы, призванные поставить такой перевод под сомнение, будут всегда отведены с помощью казуальных контраргументов: субстанциально-ориентированное прочтение выдержит рефлективную критику.
Но что если мы отстранимся от наших естественных герменевтических ожиданий, заглушим их голос и попробуем перевести отрывок иначе? Мы пойдем тогда по второму из двух путей, заданных развилкой. Будем трактовать все слова с корнем в-дж-д как относящиеся к действию «находить», которое имеет, во-первых, инициатора, действователя и, во-вторых, то, что претерпевает это действие1. Вот как выглядит такой перевод2:
Я спросил: Что значат твои слова: «Он уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были находимы (мавджӯд) только благодаря Его нахождению (вуджӯд) их: Он находил (ва̄джид) людей при том, что отсутствовал смысл нахождения (вуджӯд) ими самих себя, благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид) только Он. Так Он находил (ва̄джид) их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее нахождение (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.
Вот почему мы говорим, что если Он находит (ва̄джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это нахождение (вуджӯд) — самое совершенное и полное нахождение (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее
341
достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить все, что в нем (рабе. — А. С.) появляется, так что Он и вовсе стирает его отметины и устраняет его нахождение (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и нахождения (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнета Его. Это оказалось темным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].
Речь идет о взаимодействии двух действователей — Бога и человека, каждый из которых способен в принципе осуществлять действие «нахождение». Это действие и для того и для другого направлено на человека: Бог находит человека, и человек находит себя. Эти два нахождения сравниваются во втором абзаце, и автор выносит однозначный вывод: нахождение человека Богом, а не его собственное нахождение себя является наилучшим и самым совершенным. В таком случае находящий Бог и находимый человек оказываются накрепко связаны нахождением; но чтобы оно состоялось, человек должен полностью включиться в эту связанность с Богом. Не перестать существовать, не «аннигилировать» (как при первом понимании отрывка), а, напротив, превратиться в претерпевающую сторону процесса «нахождение», который инициирует Бог и который предполагает непременное наличие «находимого» человека (иначе как может осуществиться «нахождение»?). Такое «нахождение» человека Богом и составляет цель суфия, именно его он хочет превратить в ткань своей жизни.
В этом переводе все термины с корнем в-дж-д последовательно переданы через смыслы действия, действователя и претерпевающего для действия «нахождение». Это, безусловно, преимущество в сравнении с первым вариантом перевода, где мы имели чересполосицу «существования» и «нахождения», что не может не бросить тень на перевод, столь кардинально меняющий смысл однокоренных и явно связанных слов на протяжении небольшого отрывка текста. И все же это соображение не будет решающим в пользу второго варианта перевода и не заставит окончательно отказаться от первого. Это возражение можно отвести известным постулатом контекстуальности перевода, позволяющим фактически произвольно, опираясь лишь на гипотезы ad hoc, менять значения слов.
Перевод должен быть понят; надевание русских языковых форм на мысль, лишенную арабских языковых форм и оставшуюся голой мыслью в руках переводчика, — вовсе не завершающая стадия перевода. Переводчик дал текст, передав на русском языке арабский оригинал. Но есть еще два шага герменевтической цепочки, которыми завершается работа по переводу. Первый из них — понимание перевода читателем, его восприятие и усвоение. Второй — создание комментария к переведенному тексту. Мы поговорим о них подробнее, и станет ясно, почему я расположил их именно в таком порядке.
Развилка, которую миновал переводчик и в точке которой совершил свой выбор, — эта развилка не явлена читателю. В обычной ситуации читатель не может иметь перед собой два варианта текста, он всегда имеет дело с одним. Если вселенная перевода, пока перевод в руках переводчика, состоит из двух миров, в каждом
342
из которых — свой текст, то для читателя мир перевода задан однозначно, виртуальная двойственность для него стала осуществленным и единственным выбором.
Это первое. Второе: слов как таковых никогда не достаточно для понимания. И речь сейчас не о том, что надо знать смысл слов и понимать синтаксис. Пусть это условие выполнено; все равно этого недостаточно. Нужна еще и логика завязывания фразы, логика связности — логика, делающая субъект и предикат не рядоположенными словами, а единым смыслом. Логика перехода от рассыпанности, от атомарной единичности — к собранности воедино, к синтетическому смыслу.
И тогда на стороне читателя начинается игра второго порядка: игра понимания текста, а не его создания. Игра, воспроизводящая логическую игру перевода: здесь та же развилка, которую должен пройти читатель, синтезируя смысл текста, предоставленного ему переводчиком. Переводчик не может считать свою работу законченной, когда он выдал на-гора переведенный текст. После этого начинается не менее важная работа: он должен стать читателем, забыв о том, что был переводчиком; он должен прогнать в своем сознании весь процесс восприятия переводного текста так, как если бы он был другим человеком, впервые видящим этот текст.
Мы обнаружим здесь то же, с чем столкнулись, обсуждая работу переводчика. Глубинная, ядерная логика синтезирования смысла (логика мысли) любой из фраз может быть либо логикой субстанциальности, либо логикой, ориентированной на процессуальность, на действие. Соответственно, предельной формулой для понимания, для переформулировки любых словесных конструкций будет либо «S есть P», либо «S ⇔ P». Логика мысли проецирует себя на сферу слова и обнаруживается как логика словесной предикации.
Второй вариант перевода мы создавали, ориентируясь на логику процессуальности с ее ядерной формулой предикации «S ⇔ P». Но это не значит, что этот перевод не может быть прочитан через формулу «S есть P». Восприятие текста — независимый процесс: это как будто «половинка» процесса перевода. Ведь переводчик должен понять исходный текст, — так же, как это делает читатель его перевода, — а затем переодеть его, использовав другие языковые одежды. Понимание текста читателем — лишь раздевание, но не надевание новых одежд: разоблачение текста, сдирание с него языковой оболочки происходит так же и по тем же правилам, что работают в случае перевода.
Итак, прочитаем второй вариант перевода, опираясь на логику предикации «S есть P». Мы обнаружим, что Бог есть «находящий», а человек — «находимый», что Бог совершает это действие в отношении человека (Бог есть находящий человека), но человек не совершает его в отношении себя, зато полностью оказывается претерпевающим действие Бога (человек есть находимый Богом). И для человека быть претерпевающим — наилучшее состояние: полное исключение активности и абсолютная пассивность — идеал, утверждаемый вторым отрывком. Действие «нахождение» расщепляется без остатка на активность Бога и пассивность человека: у нас две субстанции, два субстанциальных субъекта, разделившие между собой акциденции «действовать» и «претерпевать».
343
Смысл создан — текст понят. Переводчик создал перевод, опираясь на логику «S ⇔ P», пытаясь следовать ей и строя слова в соответствии с нею. Но напрасно: читатель обладает суверенным правом смыслополагания, и он, как и переводчик, может трактовать представленный ему словесный текст на основе любой из двух логик. У него та же развилка, что и у переводчика, поскольку словесный текст не содержит никаких обязывающих элементов, которые определяли бы однозначно выбор логики. Если что и есть, то лишь подсказки, прочитываемые тем увереннее, чем увереннее читатель оперирует двумя логиками и понимает саму возможность выбора, и тем легче игнорируемые, чем меньше эта привычка к владению разными логиками предикации.
Если читатель опирается на логику «S есть P» при понимании текста, мы получаем парадоксальную ситуацию: два варианта текста, которые мы создавали, вкладывая в них разные логики, не только будут прочитаны на основе одной и той же логики, но и дадут примерно один и тот же «общий смысл». Ведь при прочтении второго варианта текста через логику «S есть P» мы полагаем, что человек и Бог суть претерпевающий и действующий, но именно потому, что они суть: их существование предполагается по умолчанию самим фактом предицирования действия или претерпевания в логике «S есть P». Первый вариант перевода эту посылку эксплицирует, второй — скрывает; но если мы ведем речь об уровне мысли, а не об уровне слова, различие между двумя вариантами русского переводного текста оказывается не столь уж значительным. Под существованием здесь, конечно же, подразумевается не просто наличие, а обладание сущностью и способность принимать предикаты так, как того требует логика «S есть P» (законы тождества, непротиворечия и исключенного третьего). Это весьма ответственные онтологические и логико-эпистемологические требования. Подчеркну, что они могут не осознаваться читателем, осознаваться смутно или ясно и даже нарушаться, но от этого они не перестают быть именно такими требованиями; собственно, само их нарушение свидетельствует об их императивности.
Можно ли прочитать текст на основании логики «S ⇔ P»? Конечно. Начнем со второго варианта перевода. Логика «S ⇔ P» требует строить смысл как конструкции, в которых действователь связан с претерпевающим действием. Текст дает все основания для этого, он вполне комфортен для такого прочтения. Действующий («находящий») Бог, претерпевающий («находимый») человек и действие («нахождение») как их связка. При таком понимании мы впервые обнаруживаем, что дважды упомянутый в третьей фразе «смысл» имеет вполне внятное толкование. До сих пор мы как будто проскакивали мимо него, а при субстанциально-ориентированном прочтении и вовсе игнорировали, понимая «смысл» как нечто вспомогательное, служебное, что может и опускаться, как, например, если мы скажем: «Я понимаю это в том смысле, что…» — или: «Я понимаю это как…»; опуская «смысл», мы ничего не теряем. Я мало сомневаюсь в том, что среднестатистический переводчик так и поступит со «смыслом» в данном отрывке, опустив или замаскировав его. Однако «смысл» (ма‘нан) — одна из ведущих, принципиальных
344
для арабского мышления категорий1. Здесь мы видим, как эта категория может трактоваться: «смыслом» названо «нахождение», то есть само действие.
Этот момент принципиален: это едва ли не самая чувствительная точка, в которой ясно заметно расхождение между двумя логиками предикации — «S есть P» и «S ⇔ P». Расхождение между ними на деле — во всем; но точек, в которых оно настолько очевидно, что исключает перетолкование и не может быть не замечено, не так много. Мы говорим об одной из них: для логики «S ⇔ P» действие обладает собственным статусом, несводимым к статусу действователя и претерпевающего, поскольку оно играет роль связки между ними и потому просто не может быть сведено к акциденциям каждой из сторон, как это происходит в мыслительном пространстве предикации, заданном логикой предикации «S есть P». «Нахождение» — то действие, которое соединяет «находящего» Бога и «находимого» человека, действие, которое связывает их воедино.
Это действие, говорит ал-Джунайд, составляет суть предвечного завета между Богом и человеком. Составляет в том смысле, что тогда, в предвечности (’азал), человек, безусловно, не находил себя, не был действователем: он, еще не сотворенный, мог быть только находим Богом, причем так (благодаря такому нахождению), которое возможно только для Бога, но не для человека. Человек не способен так находить себя или что-либо еще, как Бог способен находить его. Человек, включенный в это божественное действие, тем самым становится его участником: триада действователь-действие-претерпевающее неразъемна, она образует единство (но не тождественность ее участников2) взаимосвязи, где каждое зависит от каждого.
Только теперь начинает проясняться суть данного текста. Ведь он призван ответить на вопрос: почему создание человека является его уничтожением? До сих пор, рассматривая текст в субстанциальной перспективе, мы могли трактовать это утверждение как некий парадокс или же как некое смутное «предчувствие» (тем более, скажут нам, предчувствие мистика, исключающее всякую логику), не обязанное связывать себя логическими требованиями: человек при том прочтении оказывается несуществующим, и как понимать вопрос, в котором говорится о его создании как уничтожении, остается непонятным. Но теперь выясняется, что именно говорит ал-Джунайд. Создание человека — это его нахождение Богом, причем из
345
начально, до всех времен (до начала мира): человек находим Богом, а значит, и создан, устроен им (иначе как он мог бы стать претерпевающим для божественного действия?). Но это нахождение человека Богом означает, что человек лишен всякой действенности, что он сам ничего и никого, даже самого себя, не находит: он — только претерпевающее, но не действователь.
Это и есть фана̄’ — гибель. Вовсе не субстанциальная гибель, как бы таковая ни трактовалась. Если понимать фана̄’ как субстанциальную аннигиляцию, нужно признать, что субстанция мистика, его «я» переживает уничтожение, и если это уничтожение не имеет подлинного онтологического смысла, значит, этот смысл — психологический: суфию кажется, будто он уничтожен и растворен в божественной субстанции, что он субстанциально един с Богом, тогда как на деле это не так. Такое «кажется», принимаемое всерьез, и есть состояние «опьянения», а выход из него, осознание кажимости этого «кажется» — «трезвость». Именно так в общем и целом в европейском востоковедении трактуется фана̄’1. Если же мы мыслим процессуально, когда предельной формой предикации у нас является «S ⇔ P», мы поймем фана̄’ иначе. Гибель — это прекращение действенности человека, когда он полностью и безоговорочно перестает быть действователем.
Но самое интересное начинается после этого. Гибель действенности — это гибель человеческого «я»: именно первое лицо служит лицом действователя. Но если первое лицо мистика перестает быть лицом человека, тогда оно переходит к Богу, замещается божественным «я». Не субстанциально: речи о субстанциальных слияниях или чем-то подобном вовсе не идет. Речь о том, что человек видит и ощущает, что действователь всех его поступков — Бог, божественное «я». Вот почему такое «нахождение», говорит ал-Джунайд, наиболее полное и совершенное: оно до конца, без изъятия реализует исламскую формулу тавх̣ӣда (утверждения единственности Бога), понимая ее не просто как арифметическую единственность божества, но как отдание всей без исключения действенности Богу.
Все, что было сказано о возможности двух логик прочтения перевода читателем, не может быть эксплицировано в тексте перевода по самой своей природе, поскольку такое прочтение совершается после того, как текст перевода закончен, в нем поставлена точка. Но все это переводчик, на мой взгляд, обязан сказать читателю в комментарии, иначе его задача (а задача переводчика — работать со смыслом) останется недоисполненной.
Итак, один текст, две логики. Соответственно, две развилки — на стороне переводчика и на стороне читателя. В каждой из них путь раздваивается, поэтому мы получаем четыре варианта смысла. Каждое из прочтений возможно, каждое из них способно защитить себя (что не значит стать убедительным для всех или победить другие прочтения: объективная множественность прочтений неустранима). Само это ветвление возможно потому, что (1) любое предложение, из которых состоит текст, на уровне слова допускает свое прочтение с использованием
346
любой из двух логик предикации, и (2) каждая из логик предикации подсказывает мысли ту грамматику, которая позволяет выстроить смысл, слив субъект и предикат в нечто одно и вписав их в конфигурацию противоположения-и-объединения. Логика предикации, вычитываемая нами из слов предложений (а точнее было бы сказать: вчитываемая нами в слова предложений), вытягивает за собой грамматику мысли. Мы не можем создавать и сознавать смысл предложений, если не примем, сознательно или неосознанно, одну либо другую логику предикации на вербальном уровне: только тогда предложение перестанет быть цепочкой отдельных слов, только тогда слова сольются в мысль. Эта мысль будет оформлена в соответствии с грамматикой, которая неявно отражена в логике предикации, взятой как ядерная форма предложения.
Такова объективная сторона дела: из словесной фразы мы всегда можем извлечь смысл, отталкиваясь от двух логик предикации. Но есть и субъективная сторона. Если мы предполагаем, что автор текста следовал (сознательно или, скорее всего, неосознанно) определенной логике, определенной грамматике слова и мысли, то на каждой из развилок только один вариант будет соответствовать намерению автора. Переводчик и толкователь текста должен сделать свой выбор, надеясь, что он совпадет с выбором автора текста; но он может сделать это только после того, как ясно осознал и выразил логическую априорную альтернативность понимания текста и, далее, обосновал собственное предпочтение. Выбор не может быть сделан «по наитию», со ссылкой на «очевидность» или на «свидетельство традиции»: он должен быть обоснован логико-смысловым анализом как интерпретируемого текста, так и — что не менее важно — любого из инструментов и подручных средств интерпретации, поскольку они в своем словесном оформлении столь же логически недоопределены, как и интерпретируемый текст.
Понимание логики предикации и ее роли в смыслополагании позволяет на новых основаниях исполнить классическую программу Пор-Рояля: говорить о грамматике мысли, стоящей за словом.
 |

|
 |
6.1 Существует ли «всемирная философия»,или проблема преодоления чуждости чужого* |

|
349
Обсуждение вопросов типа «Существует ли всемирная философия?» или «Что есть мировой историко-философский процесс?» почитается в определенных философских и философствующих кругах с известного времени чем-то вроде дурного тона. Однако для исследователя, работающего в сфере историко-философского востоковедения, такие вопросы — дело отнюдь не исследовательского (или философского) вкуса, они прямо и непосредственно связаны с самими основаниями его повседневной деятельности. В самом деле, что я имею в виду, говоря об «арабской философии»7? Чем является этот термин, очерчивающий границы сферы моего исследования, — простым знаком, ярлыком, функцию которого легко исполнит любой другой, наудачу выбранный знак такого рода, или же это полновесная категория, раскрытием содержания которой и явится мое исследование? Вряд ли кто-то станет настаивать на первом, ведь в таком случае изучаемый феномен окажется принципиально несоотносимым с тем, что мы понимаем под «европейской», или «западной», философией. Второй ответ обязывает нас искать возможность говорить об «арабской философии» как о некотором варианте философии-вообще, той, собственно, говоря, философии, которую обычно и принимают за «всемирную». Как, однако, возможно подобное понятие «всемирной философии»? Будем ли мы говорить о ней в тех же терминах, тем же языком, которым мы говорим о собственной философской традиции, или для этого необходимы существенно иные категории?
Создается впечатление, что многие попытки приблизиться к пониманию того, что есть «всемирная философия», делаются со вполне определенных позиций, строящихся на вполне определенных допущениях и предпосылках. Я не хочу в этой связи оперировать пресловутым термином «европоцентризм». Обвинения такого рода, даже если и улавливают достаточно точно суть «крена» и «отклонения», не предлагают альтернативы, к которой нельзя было бы предъявить тех же самых
350
обвинений — обвинений в каком-то ином типе «центризма» или в следовании каким-то другим идеологическим установкам. Если серьезно относиться к вынесенному в качестве заглавия вопросу, следует выбрать другой путь, не совпадающий с изготовлением идеологических ярлыков.
Пожалуй, не составит труда зафиксировать то препятствие, которое затрудняет разговор о «всемирной философии». Оно связано с проблемой субъекта этой философии. Кто является ее носителем? Иначе говоря, что она есть? Конгломерат тех философских массивов, которые представлены огромными «материками» философии: Европой, арабским (мусульманским) миром, Индией, Китаем, Россией1? Является ли все, кроме первого, так называемыми «национальными (локальными) вариантами», недоросшими до европейского образца (а такая посылка часто принимается, пусть молчаливо, как основание рассуждений на эту тему), или это равнозначные и равноправные, равновеликие массивы мысли, которые не могут быть осмыслены по модели «чистый, универсальный образец — национальная (локальная) специфика»?
Эти вопросы принципиальны, и они ставились достаточно давно и достаточно остро. Тот факт, что на них нет ответа, приемлемого хотя бы для большинства членов научного сообщества, которое они волнуют, показателен сам по себе. Возможно, трудность заключается даже не в этих вопросах как таковых. Вернее, даже не столько в них, сколько в самой процедуре «отвечания». На поставленный вопрос отвечает всегда субъект — человек, занимающийся историей философии. Он, несомненно, уже принадлежит одной перечисленных философских традиций, является «жителем» одного из этих философских «материков». Отвечая на эти вопросы, такой мыслитель тем самым пытается разрешить вопрос об основаниях собственной мысли и собственной традиции. Фактически вопрос, который стоит перед ним, является вопросом о характере его собственной мысли. Отвечая на него, он неизбежно сталкивается с парадоксом самовключения в одном из его вариантов.
Парадокс самовключения в общем виде сводится к тому, что нечто включает самого себя как свою часть.
Один из примеров этого парадокса известен нам из математики. Возможно ли «множество всех множеств», множество, включающее самого себя и тем самым — все множества, в том числе самого себя, следовательно, все множества, и т. д.; получаем бесконечную регрессию, когда вмещающее оказывается гораздо «меньше» того, что оно должно вместить. Можно ли понять свои собственные основания, можно ли увидеть самого себя и, повторив подвиг знаменитого барона, вытащить самого себя за волосы из болота? Можно ли утверждать относительно самого себя ложность или истинность каких бы то ни было высказываний? Ведь утверждение истинности своих слов не менее парадоксально, чем утверждение их ложности:
если такая операция разрешена, мне достаточно сказать, что я говорю правду, чтобы всё сказанное мною считалось истиной, — ведь если сомнение в истинности не исключено вовсе, оно может относиться к любой части моих слов, и тогда ложным может оказаться и утверждение об истинности моих слов, так что мы получим парадокс лжеца. В судебной практике давно установлено: никто не может свидетельствовать в собственном деле. Может ли какая-то философская традиция свидетельствовать относительно собственного статуса? Способна ли она отнести себя, или какую-то часть себя, ко «всемирной философии», установив для этого ясные критерии? Не ставит ли подобное утверждение данную традицию в положение «множества всех множеств»? В положение человека, свидетельствующего истинность своих слов?
Этот пункт, вероятно, требует дополнительного разъяснения. Речь идет вовсе не о моральном аспекте такого решения. Речь идет о логической корректности самой процедуры его вынесения. Может ли субъект, принадлежащий к определенной философской традиции, выносить решение о статусе этой традиции в отношении к остальным традициям, отличным по своим основаниям от его собственной? Не будет ли это решение заранее окрашено в его философские цвета? Не будет ли это в любом случае решением, принятым с позиций определенного философского «национализма»? И не является ли необходимым некоторый философский космополитизм для того, чтобы такое решение было корректным? Возможен ли, однако, подобный космополитизм?
Так вопрос о существовании «всемирной философии» в конечном счете — и вполне закономерно — возвращает нас к вопросу о возможности понимания чужой философской традиции. Наверное, эксплицитно определить понятие «чужая» и, далее, отделить его от понятия «чуждая» будет едва ли исполнимой задачей. Насколько «чужой» является для нас, скажем, французская философия XX в.? И переходит ли она ту грань, за которой становится «чуждой» — то есть не способной говорить с нами без специальных трансляционных процедур? (Опять же, что считать такой особой трансляционной процедурой, а что — необходимым-всегда герменевтическим переводом?) Всякий исследователь, долго общавшийся с этой (или любой иной) философской традицией, без труда даст свой ответ на подобный вопрос. Не так-то легко, однако, будет ему сформулировать обоснование своих ответов. То, что мы способны чувствовать «интуитивно» после определенного периода общения с некоторой традицией, бывает нелегко облечь в слова. Привычных понятий не хватает — понятий
351
нашей собственной традиции. Чтобы объяснить это, требуется иной язык, иные понятия. Понятия, которые могли бы не быть чуждыми ни той, «чужой», ни этой, «нашей», традиции. Понятия, с помощью которых можно было бы говорить о том и об этом, но которые не принадлежали ли бы ни тому и ни этому. Нечто вроде над-языка, говорящего о том и об этом, но не о себе. Заговорив о проблеме «степеней чуждости» философских традиций, мы опять приходим к необходимости избегать парадокса самовключения.
352
Вернемся, однако, к разговору о «чуждой» традиции. Из сказанного понятно, что я не претендую на то, чтобы предложить нечто вроде эксплицитных формулировок или определений в защиту того тезиса, из которого исходят эти рассуждения. Я могу лишь высказать (выразить, попытавшись сделать это так, чтобы меня поняли) то ощущение, которое возникло у меня после определенного периода попыток понять средневековую арабо-мусульманскую традицию мысли. Это ощущение состоит в том, что в лице этой традиции мы имеем особое философское образование («структуру», или «тело», или «здание» — метафоричных названий может быть много), образование, герметичное в определенном, релевантном для обсуждаемой темы смысле и притом противо-стоящее (не в смысле враждебности, а в смысле не-рядо-положенности) той культуре историко-философского размышления, мыслью о принадлежности к которой мы имеем возможность себе льстить. Шокирующее ощущение чуже-родности и фундаментальной непонятности оказывается в данном случае тем более сильным, что арабо-мусульманская традиция (в отличие, наверное, от индийской и уж тем более от китайской) внешне необыкновенно близка к западноевропейской (если понимать под этим словом античность и западное средневековье), — всем известно, сколь многим она ей обязана (как, впрочем, и западноевропейская арабской). В определенном плане эта традиция представляет собой уникальный пробный камень для проверки любых гипотез относительно всемирно-философского процесса. То, что такие гипотезы видят в этой традиции, зачастую говорит скорее о них, чем о ней.
Именно это представление о «равновеликости», и в то же время — о какой-то, по всей видимости, фундаментальной инаковости, иных философских традиций мешает принять точку зрения, с которой любая из них могла бы быть рассмотрена как некий «национальный» или «локальный» вариант некоторой уже-известной нам всеобщей линии. Если хотя бы одна из философских традиций рассматривается как вариант, тем самым задается необходимость рассматривать их все как варианты — вот тот тезис, который представляется необходимым высказать. Варианты чего, однако? То, чего они являются вариантами, может существовать в таком случае как еще-не-созданный конструкт. Видимо, это то, что подразумевало бы любую частную традицию как свою разновидность.
Герменевтическая чужеродность, т. е. чужеродность-для-понимания, средневековой арабской мыслительной традиции не является, конечно, чистым ощущением по принципу «мне кажется». Неспособность дать эксплицитное определение ее (этой фундаментальной чужеродности, отчужденности от моего понимания-без-специальной-трансляции), которое я признаю за собой, не означает отсутствия достаточного количества иллюстративных примеров, передающих (надеюсь) это ощущение. И наверное, лучшим из них будет как раз обсуждение проблемы того, что есть «арабская философия»1.
353
Наша задача не подразумевает обсуждение вопроса «Что есть философия?» вообще. Предположим, что нами достигнут определенный консенсус, хотя бы молчаливый, в рамках некоторого научного сообщества историков философии, занимающихся историей арабской философии и воспитанных в условиях данного места-и-времени. Предположим, что они понимают друг друга «без слов» и знают достаточно точно, какого мыслителя, если речь идет о европейской мысли, они классифицировали бы по ведомству философии, а какого — нет. Вопрос, который нам следует задать, звучит так: смогут ли они так же понять арабскую мысль?
Прежде всего зафиксируем наличие проблемы. В арабской традиции существовало направление, именовавшее себя «философия» (фалсафа, транслитерация греческого термина); его последователи, соответственно, называли себя «философами» (фала̄сифа). Это было направление, опиравшееся в основном на перипатетическое наследие, хотя и заимствовавшее в значительной мере неоплатонизм и платонизм. Казалось бы, нет ничего проще, чем решить, что «арабской философией» является именно данное направление, и считать его «локальным», или «национальным», вариантом историко-философского процесса. За это говорят, казалось бы, совершенно бесспорные факты. Коль скоро сами мыслители, само «научное сообщество» того времени однозначно выделило группу своих членов, обозначив ее особым термином, к тому же недвусмысленно указывающим на генетическую связь их учений с античными философскими школами, не должно оставаться никаких сомнений относительно того, кому принадлежит статус «философа» в арабо-мусульманском обществе классической эпохи, а кто на него претендовать не может. Это решение напрашивается тем более, что оно вполне согласуется с исторической реальностью процесса восприятия арабской мысли в Европе. Фактическая сторона этого процесса (кто именно из арабских авторов был оценен как философ и на каких основаниях) в конечном счете и легла в основу очень долго бытовавших, да и сейчас достаточно широко распространенных среди всех, занимающихся философией, в том числе и историков философии, представлений о том, что есть арабская философия. Однако факт восприятия, как и факт оценки, свидетельствует об обеих сторонах, а не только об одной. И то, что было воспринято из арабской мысли и что было расценено как «философия», квалифицирует не только арабскую мысль, но и европейскую традицию. И некогда сложившееся мнение представляется далеко не столь бесспорным и однозначным при взгляде на классическую арабскую мысль с иной точки зрения.
Если на стороне изложенного мнения реальность исторического процесса взаимодействия двух цивилизаций, то на стороне иной, альтернативной (по меньшей мере — не спешащей согласиться) точки зрения — реальность существующих текстов, собственно, того, что позволяет нам судить о прошедших эпохах мысли. Чтение текстов, выходящих за рамки понятия «арабская философия» в изложенном выше понимании (назовем его «историческим», поскольку оно было исторически выработано самой арабоязычной культурой и опирается на реальность исторического процесса), подсказывает нам другую картину.
354
Итак, попытаемся оставить в стороне формальные ярлыки и наименования различных школ средневековой арабской мысли (мутакаллимы, фала̄сифа, исмаилиты, суфии, ишракиты и т. д.) и зададим себе вопрос: каким образом это «научное сообщество» осознавало себя не на формальном (наименования школ), а на содержательном уровне? Иначе говоря, является ли фалсафа течением, осознававшим свою принципиальную выделенность из общей среды и отделенность от прочих школ, и было ли оно, в свою очередь, признаваемо таковым другими школами мысли? Критерий нашего «текстологического» ответа на этот вопрос достаточно прост и однозначен: в произведениях представителей классической арабской мысли довольно легко прочитывается, кого они признавали полноправным оппонентом, кого считали необходимым опровергнуть, дабы утвердить истинность своих взглядов, с кем они спорили и с кем соглашались, а кто оставался вне поля их зрения как представитель учений, нерелевантных для установления истинности в обсуждаемых вопросах.
Если мы подойдем к проблеме классификации арабских мыслителей с этой точки зрения, картина окажется совершенно иной. В таком случае становится ясным, что сами эти мыслители воспринимали как представителей единой области знания мутакаллимов, фала̄сифа, «Братьев чистоты», исмаилитов, ишракитов, суфиев. В памятниках теоретической мысли всех названных направлений мы найдем взаимную полемику, взаимные опровержения и признания. Показательно единодушие, с которым воспринимались «свои» и «чужие». Вот некоторые примеры. Столь яркому представителю утонченно-схоластической мысли, каким был Х̣амӣд ад-Дӣн ал-Кирма̄нӣ, виднейший исмаилитский мыслитель, казалось бы, стоило в «божественных» вопросах скорее полемизировать с факихами (исламскими правоведами) и суннитскими учителями веры, тогда как он все острие своей критики направляет против фала̄сифа, причем именно там, где взгляды последних как раз могли бы быть использованы в противостоянии суннитскому вероучению. Казалось бы, что столь далеко отошедшим от буквалистского понимания исламского вероучения суфиям до ашаритов, которых обычно квалифицируют как представителей «рационалистической теологии»? Но такой свободный и широкий теоретик суфизма, как Ибн ‘Арабӣ, именно их, и только их из всех представителей арабской мысли упоминает «по имени» в своих лапидарных «Геммах мудрости» (называя наряду с ними лишь античных софистов). От исмаилитов, крайнего и весьма закрытого шиитского течения, до пользовавшегося широким влиянием мистицизма сохраняется ощущение и признание совершенно определенного проблемного единства. Если следовать имплицитно выраженному в таком ощущении и признании мнению арабо-мусульманских мыслителей, следует согласиться, что все названные направления образуют единую область знания. Именно эту область знания и стоит, очевидно, в таком случае считать «классической арабской философией».
Такое решение убедит не всех, но многих. Однако разрешение одной проблемы ставит перед нами другую, суть которой, собственно, может быть обозначе
355
на следующим образом: а почему вообще нам пришлось обсуждать этот вопрос и столь тщательно доказывать свою точку зрения? и не было ли наше решение все же насилием над материалом? Если наш ответ верен, то должны же были сами средневековые мыслители, которых мы назвали философами, осознавать свое единство и свою общую принадлежность к философской мысли не только имплицитно (выражая эту принадлежность во взаимном внимании), но и эксплицитно; должен ведь в таком случае существовать термин, которым бы и обозначалось это их единство. Даже если термин фалсафа не может служить таким общим обозначением (ибо он употребляется как название только одной из школ), то мог ведь существовать иной, собственно-арабский термин; мог, и должен был, если наш ответ верен.
Но все дело в том, что такого общего термина не было.
Наиболее близким арабским эквивалентом нашего понятия «философия» мог бы служить термин х̣икма «мудрость». Этим термином пользуются фала̄сифа, обозначая им, наряду с термином фалсафа, свои учения; его же употребляет виднейший представитель философии озарения (ишракизма) Шиха̄б ад-Дӣн ас-Сухравардӣ. Однако в текстах Ибн ‘Арабӣ термин х̣икма малоупотребителен, и свое учение он квалифицирует просто как «знание» (ма‘рифа или ‘илм) или «знание Божьих людей»1. Х̣амӣд ад-Дӣн ал-Кирма̄нӣ обозначает свои построения как «знание людей вероисповедания»2. Примеры можно было бы продолжить; какой бы термин мы ни взяли, он не окажется общепризнанным среди арабских мыслителей обозначением рода их деятельности.
Таким образом, теперь перед нами совсем другая картина. Мы можем выделить проблемное единство, конституирующее также то, что мы назвали бы «арабской философией», но уже не в «историческом», а, возможно, «теоретическом», или «реконструктивном» смысле — феномен, который мы как исследователи вычленяем на пространстве реально существовавших текстов. В таком случае мы заявляем, что выделяем этот феномен как интересующий нас и в то же время как опирающийся на реально существовавшее единое проблемное поле, хотя и не подкрепленное
356
признанным терминологическим статусом «философии»1. Таким образом, в пользу «теоретического» понимания термина «арабская философия» также немало свидетельств, причем таких, которым историк философии, как представляется, должен даже отдать предпочтение.
Итак, у нас по меньшей мере два феномена, которые претендуют на звание «арабской философии». Принципиально важно, что ни в пользу исторического, ни в пользу теоретического понимания не говорят в полном объеме ни тексты, ни историческая реальность. Однако, если бы речь шла только об изучении арабской мысли, предпринимаемом с позиций нашей философской или историко-философской традиции (при ясном осознании этого ограничения), изложенной аргументации (в более развитом, естественно, виде) было бы достаточно, чтобы обоснованно избрать одну из двух очерченных точек зрения. Эти точки зрения несовместимы, но они логически корректны — в собственных пределах. Каждая декларирует свои основания и позволяет работать в заявленных границах. В таком случае, когда мы избираем одну из них, нам не приходится делать никаких онтологических утверждений о статусе того феномена, который мы считаем «арабской философией». Мы не обязаны доказывать, что «арабская философия» в ее «историческом» или «теоретическом» понимании на самом деле существовала, а также — вернее, прежде того — определять понятие «существования-на-самом-деле». Нам достаточно показать, что «историческая» или «теоретическая» реконструкция феномена, именуемого нами «арабской философией», релевантна для нашей собственной культуры, выполнена в соответствии с ее требованиями. «Арабская философия» в таком случае — образ некоторого X в нашей культуре. Х в данном случае — арабская теоретическая мысль (а не философия), и мы не обязаны доказывать, что x’ (принятое нами понятие «арабская философия») непременно имеет референт х (действительная «арабская философия») на Х («арабская теоретическая мысль»): нам достаточно, что мы видим в Х само x’ без всякого х.
Однако принципиальный отказ от утверждения существования «на самом деле» того, что понято нами в ходе историко-философского исследования, едва ли не лишает смысла само это исследование. Мы должны научиться корректно выбирать — в изложенном случае, между «историческим» и «теоретическим» пониманием «арабской философии» — и, далее, корректно обосновывать свой выбор, если хотим хотим сохранить возможность говорить (хотя бы в каком-то смысле) об объективности историко-философского знания об инокультурных традициях.
Этот императив возвращает нас к необходимости интерпретировать «арабскую философию» в ее соотношении со «всемирной философией», или «филосо
357
фией-вообще», «философией-как-таковой». Возникает существенно иная ситуация: в этом случае мы обязаны утверждать, что «арабская философия», будь то в «историческом» или «теоретическом» смысле, действительно существовала. Ведь мы должны теперь говорить не об образе чужой мыслительной традиции, созданном с помощью категорий и прочих мыслительных средств нашей собственной традиции, а о реальном соотношении между двумя принципиально однородными феноменами (арабской философией и нашей философией). Мы должны на основе знания специфики собственного феномена «философия»1 решить, что такой же феномен существовал (а не видится только) в чужой культуре. Такое утверждение предполагает в качестве своей предпосылки, что мы способны, исходя из оснований своей культуры и своей мысли, оценить чужую культуру и навязать ей оценку, которая, как оказывается (по крайнем мере в той ситуации, которую я пытался здесь очертить), в любом случае противоречит ее фактам. Такое суждение, таким образом, оценивает не только другого, но и себя. Ведь в этом случае наше суждение будет определять вполне эксплицитно и основания нашей собственной мысли, т. е. будет суждением о своих собственных основаниях. (Что это, как не парадокс самовключения?) В таком случае мы в принципе можем решить, относится ли ко «всемирной философии» историческое либо теоретическое понимание «арабской философии», только если мы сами претендуем на статус «всемирного философа», если утверждаем, что наша философия дает нам возможность игнорировать тот «зазор», который существует между исторической и текстуальной реальностью и любой из точек зрения.
Парадоксальность ситуации в конечном счете обусловлена нашей попыткой понять иную культуру, используя собственный язык, оценить основания мышления иной цивилизации, исходя из собственных. Мучительная необходимость выбирать (а следовательно, и навязывать свое понимание) вытекает в данном случае из представления о том, что общность обсуждаемых проблем предполагает и общеродовое единство (принадлежность к роду «философия»). Именно поиск такого родового единства заставляет нас считать выработанное «теоретическое» понимание арабской философии в принципе корректным, однако странным образом несогласующимся с некоторыми историческими фактами (среди которых прежде всего — отсутствие свидетельства самих арабских мыслителей о таком единстве), а «историческое» понимание — недостаточно широким (поскольку оно исключает течения, принадлежавшие единому проблемному полю). До тех пор, пока указанная предпосылка сохраняет для нас вою силу, выбор будет невозможен, точнее, любой выбор останется некорректным.
Должна ли эта предпосылка, однако, оставаться в силе в обсуждаемом случае? Должны ли мы полагать, что иная культура зиждется на тех же принципах смыслоформирования, что и наша, и строить в соответствии с этим свои герменевтические
358
ожидания? И не стоит ли нам принять иную, несколько, быть может, неожиданную точку зрения?
Эта точка зрения состоит в том, что правильны оба обсуждаемых тезиса. Вполне правы мы, когда утверждаем, что способны увидеть единое, гомогенное образование и наречь его «арабской философией». Не менее правы и представители самой этой традиции, не видевшие гомогенности «арабской [философской] мысли» в таком смысле. Неправильным и неверным является в данном случае другое — то основание, которое заставляет нас ожидать единственно верного ответа. Это основание, очевидно, состоит в представлении о единстве процессов осмысления, принятых в разных культурах. Наверное, ценность и смысл изучения чужих философских традиций историко-философским востоковедением как раз и состоит в возможности усомниться в этом постулате и поставить вопрос о существенно иных основаниях мышления, заложивших основу этих традиций.
Из сказанного вытекает, что осмысление чужой традиции невозможно исключительно средствами собственной. Для такого осмысления требуется логически корректный язык — такой, который стоял бы в равном отношении к основаниям процессов смыслообразования, выработанных и собственной, и чужими традициями. Что касается тех средств осмысления (в самом широком смысле — осмысления мироздания, Универсума, чужих традиций мысли), которые предоставляет нам наша традиция1, то они принципиально недостаточны для вполне корректной и ненасильственной интерпретации чужой традиции. Если философия — это поиск возможности осмысления, придания смысла вещам, «делания» смысла, как метко выражается английская идиома, то мы, как представляется, еще не обладаем средствами универсального осмысления. Фундаментальная непонятность чужих традиций, только один пример которой был здесь приведен (а их можно множить), со всей ясностью свидетельствует об этом. Действительно всемирной философией может быть лишь та, для которой никакая из чужих традиций не является чуждой. Однако сама возможность преодоления чуждости чужого еще остается под вопросом, а выработка подобной процедуры — интереснейшей проблемой, ждущей своего решения.
359
 |

|
Что такое сравнительная философия? Ставя этот вопрос, мы не можем не иметь в виду другой: что такое философия? Говоря о сравнительной философии, я буду постоянно иметь в виду и этот, второй вопрос.
С точки зрения своего объекта сравнительная философия может пониматься, с одной стороны, как философия, которая сравнивает разные философские традиции. Тогда «сравнительная философия» — это «философия, сравнивающая разные философии». В таком случае, поскольку речь идет о разных философиях, но все же именно философиях, предполагается некое родовое единство объекта, которое только и делает сравнение возможным. Здесь сравнительная философия опирается на свои, имманентные критерии понимания того, что такое «философия». Они имманентны потому, что сама сравнительная философия является философией per se, она в самой себе — а не в изучаемой инокультурной философской традиции — черпает представление о своем объекте.
Другой вариант понимания сравнительной философии — это понимание ее как философии, которая сравнивает нечто иное, нежели философские традиции. Что может быть объектом такого философского сравнения? Если брать максимальный масштаб, то это — разные культуры. При его уменьшении это будут те или иные сегменты разных культур. Тогда сравнительной философией будет философия, которая сравнивает, скажем, поэтологические традиции разных культур с точки зрения их оснований. Или же — разные исторические традиции, опять-таки с точки зрения их оснований. С философских позиций можно сравнивать, например, традиции языкознания, развитые в разных культурах: такой философский подход улавливает то, что остается за пределами сферы внимания истории языкознания.
Заметим, что в этом случае сравнительная философия не имеет в самой себе источника представления о своем объекте: она обязана почерпнуть его в исследуемом материале. Поскольку «исследуемым материалом» является материал разных культур, взятый к тому же в аспекте сравнения, то ни одна из них не обладает логическим приоритетом перед другой в плане формирования у философа представления об объекте своего сравнительного исследования.
В пределе рассмотренные два варианта смыкаются, поскольку, если сегментом культуры оказывается именно философия, то понимание сравнительной
360
философии в первом смысле и будет ее пониманием во втором. Однако разница все же остается, и разница весьма существенная. Ведь в первом случае философ имеет право наделять объект своего сравнительного исследования характеристиками «философии», черпая их в собственном представлении о том, что такое философия. В этом случае он формирует в инокультурной традиции объект «философия», который и становится затем объектом сравнительного исследования. Не будет большим преувеличением сказать, что так формируемый инокультурный объект «философия» служит воплощением существенных черт философии, как та представлена в культуре самого философа-компаративиста. Во втором случае такая операция находится под логическим запретом и философ обязан решить, что такое философия в другой культуре, исходя из критериев самой этой культуры. Что значит «исходить из критериев самой изучаемой культуры» и не проецировать на нее собственные герменевтические ожидания, мы и будем обсуждать. Однако важно зафиксировать, что в таком случае, как это следует из сказанного, философ-компаративист, дабы сформировать объект своего исследования, должен ответить на вопрос: «Что такое философия?», причем ответить на него, не прибегая к «подсказке» своей культуры. Вот почему я утверждаю, что на вопрос: «Что такое сравнительная философия?» — мы не ответим, пока не найдем ответ на вопрос о том, что же такое философия.
Ж. Деррида в работе, посвященной осмыслению статуса не-западных философских традиций (см. [Деррида 1994]), говорил о нашем «опознавании» того, что мы «подразумеваем под словом “философия”». Такое опознавание выступает у него в качестве конечного, фундаментального обоснования для отличения философского знания от не-философского. Вместе с тем он не говорит, как происходит такое опознавание, на основе каких именно критериев мы отделяем философию от не-философии. Такое «опознавание» остается в данном случае, как и во многих других, интуитивным, неотрефлектированным.
Отправляясь от этого высказывания Ж. Деррида, я хочу поднять следующую проблему. Вряд ли кто-то сегодня будет претендовать на окончательный ответ на вопрос: «Что такое философия?» В самом деле, попытки ответить на него приводили к созданию все новых и новых философских систем, но вовсе не к согласию философов по поводу этого вопроса. Это одна сторона проблемы. Другая ее сторона заключается в том, что философы все же имеют некий критерий, позволяющий им сказать, является ли данный текст, данная система взглядов, данное учение философским или нефилософским.
Мы можем, таким образом, констатировать разрыв между этой способностью безошибочного интуитивного опознавания философии и отделения философии от не-философии, с одной стороны, и невозможностью дать четкое определение философии, объективировать это понятие и вывести его из сферы непосредственно-интуитивного опознавания — с другой.
С моей точки зрения, факт такого разрыва и факт наличия этих двух сторон необходимо иметь в виду. Ведь если мы остановимся на первом шаге, признав, что
361
не в состоянии сказать, что такое философия, то окажемся перед размытым предметным полем. Нам придется констатировать свою неспособность отличить философию от не-философии. Но это, конечно же, не так: философы прекрасно умеют отличать философию от не-философии. Следовательно, есть что-то, характерное для философии как таковой, что позволяет осуществить подобное отличение, что дает основания для опознания философии. Однако эта характерная для философии черта до сих пор ускользала от ясного словесного схватывания.
В чем тут сложность?
Может показаться, что такая ситуация не уникальна для философии. В самом деле, биолог не скажет, что такое биология, потому что не сможет дать определение жизни, тогда как биология — это наука о жизни и о живом. Но это совершенно не мешает биологу заниматься биологией и достигать значимых научных результатов. Точно так же математик не может сказать, что такое математика. Потому что ни один математик не даст нам окончательный ответ на вопрос, что такое число или что такое функция. Поиск оснований математики — один из главных и увлекательнейших поисков XX в. Он показал, что эта проблема сложнее, чем представлялось, и выяснилось, что под вопросом единство математики как системы. Однако это совершенно не мешает никакому математику развивать математику.
Иначе говоря, в науках оказывается не просто терпимой, но и нормальной ситуация, когда основания науки не проясняются самой данной наукой. Однако такая ситуация нетерпима и ненормальна в случае философии.
С этой точки зрения различие между философией и нефилософским научным знанием состоит в следующем. В отличие от наук, философия постоянно стремится к тому, чтобы прояснить собственное основание. Наука не стремится к этому; более того, она и не должна к этому стремиться. Наука становится возможной только после того, как перестает отвечать на этот вопрос; после того, как примет свое основание в качестве данности, как очевидность. Ситуация в философии тем и отличается, что философия не может принять в качестве собственного основания нечто внешнее себе, нечто предзаданное.
Это стремление философии прояснить до конца свои собственные основания выразилось, в частности, в том, что называется законом достаточного основания. Философское мышление не перестает задавать вопрос «на каком основании?» относительно любого тезиса, относительно любого утверждения. Если относительно любого утверждения, то и относительно предельного утверждения — того, которое составляет начало рассуждения. Это и означает, что философия пытается прояснить свои собственные основания.
В этом стремлении смыкаются и сливаются две характеристики, которые, на мой взгляд, неотъемлемы от философии. Я обозначу их словами «рационализм» и «универсализм».
Конечно, указание на рационализм и универсализм не дает исчерпывающего определения того, что такое философия, однако без этих характеристик говорить о философии, как мне представляется, нельзя. И вместе с тем эти характеристики
362
служат хорошим, удобным и надежным средством отличения философии от нефилософского знания.
Слова «рационализм» и «универсализм» являются пустыми и ничего не значат до тех пор, пока мы не сказали, что под ними понимаем. Мое понимание очерчено в первом приближении тем, что я говорил выше. Рационализм — это стремление ответить на, казалось бы, простой вопрос: «На каком основании?», «Почему?», то есть непринятие никакого утверждения на веру. А под универсализмом я понимаю в данном случае максимально широкое поле обсуждения, максимальную широту поля осмысления.
Эта максимальная широта поля обсуждения, или универсализм философии, вытекает из предельного характера того основания, относительно которого спрашивает философия. Если мы спрашиваем о самом фундаментальном, самом изначальном, то тем самым спрашиваем о максимально широком, обо Всем.
Предельный характер философского вопрошания является вместе с тем и парадоксальным. В данном случае парадоксальность вполне очевидна, потому что любой ответ должен, казалось бы, исходить из каких-то предпосылок, из того, что ему предпослано. Если это предпослано ответу, то тем самым то, из чего исходит ответ, не обсуждается в самом ответе. Но именно этой, казалось бы, неизбежной ситуации пытается избежать философия.
Мы говорили уже не раз, что ответ на вопрос о том, что такое философия, крайне труден, если вообще возможен. Однако сказанное выше можно рассматривать как попытку ответить на этот вопрос. С моей точки зрения, философия — это стремление задать возможности максимально широкого осмысления.
Проецируя этот вопрос на проблемное поле сравнительной философии, предметом которой служат философские традиции разных культур, в том числе и те, что именуются «восточными», конкретизируем его следующим образом. Являются ли способы задания возможностей построения максимально широкого поля осмысленности одними и теми же в разных культурах или нет?
Возможны два взаимоисключающих ответа на этот вопрос. Задавая его, мы сталкиваемся с проблемой, которую можно обозначить как проблему универсализма в его традицонном и новом понимании.
Исходя из позиций традиционного универсализма, мы должны считать философию по ее сути единой. Да, возможны различные локальные традиции философии, и они могут быть очень интересны, но значение имеют лишь постольку, поскольку способствуют развитию способа постановки и решения философских проблем. Постановка и решение философских проблем и есть то, что мы вслед за Ж. Деррида опознаем как философию — в данном случае как универсальную, общую для разных культур, общую не по истории ее создания, а по ее сути. Гегелевская историко-философская концепция служит одним из ярких примеров этой позиции. «Восточная философия» оказывается здесь не более чем неким специфическим дополнением к тому, что было сделано в западной философии, дополнением, имеющим в лучшем случае исторический интерес.
363
Основанием традиционной универсалистской позиции служит представление о единстве разума и, следовательно, принципиальном единстве того основания, на котором строится работа философа, стремящегося привести в действие закон достаточного основания. С этой точки зрения философские учения могут быть многообразными, и в западной философии за ее историю было создано множество различных, порой взаимоисключающих философских систем. Однако, несмотря на это различие и даже несовместимость, все они согласны в одном: в фундаментальном понимании того, что является разумным и что не является таковым, что служит нахождению достаточного основания, а что не может служить таковому. Вероятно, именно это согласие и обосновывает интуитивное опознавание философии, о котором говорит Ж. Деррида.
В сентябре 2007 г. в Палермо состоялся международный Конгресс по средневековой философии. Его лозунг звучал так: «Единство разума — многообразие философий». Эти слова указывают именно на то, о чем идет речь: несмотря на разнообразие философских систем, все они встраиваются в некое единое русло рациональности.
Рационализм и универсальность, как я предположил, являются двумя существенными характеристиками философии. Они служат также надежными операциональными критериями, позволяющими отличить философию от нефилософского знания. «Недалеко» от философии, «рядом» с философией функционирует религиозное знание. Оно претендует на такую же универсальность, как и философское. Религиозное знание (это, во всяком случае, касается авраамических религий — иудаизма, христианства, ислама) стремится дать исчерпывающую картину мира. Однако от философии религиозное знание отличается догматичностью, т. е. тем, что не следует до конца принципу достаточного основания. Это означает, что на каком-то этапе построения религиозного знания нам предлагают принять на веру некоторые тезисы, не задавая вопроса об их основаниях. Поэтому, скажем, теология в рамках христианства возможна только в границах, заданных догматикой — неотменяемыми положениями. Рациональное теологическое рассуждение выстраивает себя в тех пределах, которые не заняты догматически установленными и несомненными тезисами.
Таким образом, рационализм в указанном понимании отличает философию от религиозного знания. С другой стороны, рационализм роднит философию и науку, различие же между ними состоит в том, что универсализм (в том смысле, о котором я говорил) не характерен для научного мышления.
Вернемся к вопросу о том, что такое «восточная философия» и возможна ли она. Если следовать традиционно-универсалистскому способу рассуждения, то окажется, что «восточная философия» если и возможна, то лишь в качестве несущественного, незначительного дополнения к западной философии. Дело мало изменилось со времен откровенных высказываний Гегеля по этому вопросу. Подтверждением служит то, как организовано изучение «восточной мысли» в российских и западных университетах. Здесь за крайне редким исключением
364
философия как дисциплина и исследование восточных традиций мысли разделены по разным факультетам или разным кафедрам.
Но это означает только одно: западное философское мышление не опознает в восточных традициях мысли того, что оно признала бы в качестве отвечающего критериям философского. Оно не делает того, о чем говорит Ж. Деррида, оно не видит здесь родственного философского мышления.
А может быть, и в самом деле на Востоке не было никакой философии? Это утверждение встретит симпатию и поддержку очень многих философов. Даже если его не высказывают открыто, тем не менее питают в этом убежденность. И надо признать, что в логике последовательно проведенной традиционной универсалистской позиции такое утверждение скорее всего неизбежно.
Но есть и противоположная позиция, которой придерживается и автор этих строк, — позиция тех, кто считает, что «восточная философия» существует. Этот тезис, однако, нуждается в двух оговорках.
Во-первых, надо понять, по какому праву этот феномен («восточная философия») объявляется существующим; выполняет ли восточная философия ту задачу, которую мы определили как фундаментальную задачу философии, и если выполняет, то каким именно образом. Во-вторых, исходя из этого, определить, что же означает прилагательное «восточная» в этом словосочетании и по какому праву оно соединяется с существительным «философия».
Чтобы сделать это, нам необходимо занять иную, нежели универсалистская, в каком-то смысле альтернативную, но в более существенном отношении — развивающую ее позицию; ту позицию, которую я называю позицией нового универсализма.
Оттолкнемся от понятия «морфология культуры», развиваемого О. Шпенглером в «Закате Европы». С его точки зрения, каждая культура обладает целостной формой. Различные части, сегменты культуры прилажены друг к другу, образуют единое целое, как единое целое образуют части нашего организма. Возьмем различные сегменты какой-то культуры, которые не связаны один с другим генетически, т. е. не происходят один из другого. Воспользуемся примером, который приводит сам Шпенглер, и посмотрим на формы банковского оборота, формы организации промышленности, жанры литературы и формы организации науки. Одни из них не порождены другими. Поэтому их удивительная сродственность, их прилаженность друг к другу не объясняется тем, что они происходят одна от другой. В этом смысле их гомогенность не имеет генетического обоснования. Между тем все эти составляющие данную культуру сегменты удивительным образом согласованы один с другим. Одна культура может поменяться с другой такими сегментами не больше, чем любой из нас может поменяться с другими людьми частями своего тела. Вот почему каждая культура, с точки зрения, Шпенглера составляет целое, несводимое к другим культурам.
Попробуем приложить эту идею к конкретному материалу. Возьмем такой феномен, как «исламская музыка» (вместо слова «исламская» можно употребить
365
любое другое прилагательное, обозначающее какую-либо из восточных традиций: мы можем говорить об «индийской музыке» или «китайской музыке»), и зададим следующий вопрос: на что больше похож этот феномен? Исламская музыка больше похожа на исламское изобразительное искусство? На исламскую философию? На способ организации социальных отношений в исламской культуре? Или же, с другой стороны, она больше похожа на индийскую музыку, на китайскую музыку или на европейскую музыку? С чем у исламской музыки больше сродственности? С чем больше гармонии у этого феномена?
Смысл этого вопроса в следующем. Какие именно механизмы объяснения следует применить, чтобы эффективно объяснить, что такое исламская музыка? Должны ли мы обратиться к механизмам, объясняющим целостное строение исламской философии, исламской литературы, исламской социальной организации, и затем применить их к музыке? И тогда понять, как устроена исламская музыка? Это один способ объяснения. А другой способ объяснения заключается в том, чтобы взять сущностные черты музыки как таковой, музыки независимо от того, исламская она, китайская, индийская или русская. И, исходя из этих сущностных, повторяющихся, универсальных черт, объяснить, что такое исламская музыка, добавив к музыке как таковой культурную (в данном случае исламскую) специфику.
Заметим, что эти способы объяснения — альтернативные. Они исходят из несовместимых предпосылок и следуют разными, непересекающимися путями. Если взять исламскую культуру, то, на мой взгляд, правильным будет скорее первый, нежели второй ответ. Это значит, что различные сегменты исламской культуры обнаруживают между собой гораздо больше сходства, чем любой из них с одноименным сегментом западной, индийской или китайской культуры.
Таков вывод целого ряда ученых, которые работали и продолжают работать в области востоковедения. Конечно, это не единственная точка зрения. Точка зрения традиционного универсализма также представлена достаточно зримо. Однако главное, на что я хочу обратить внимание, заключается в том, что та точка зрения, которая обращает внимание на внутреннее родство различных сегментов культуры, родство того способа, которым они «сделаны», постепенно набирает все больше и больше свидетельств своей обоснованности.
Философия является частью культуры. Таково тривиальное утверждение, которое сегодня делают едва ли не все и которое вряд ли кто-то будет оспаривать. Но в чем его подлинный смысл? Ведь если есть два подхода к объяснению того, что такое любой сегмент культуры и культура в целом, то есть и два принципиально различных и несовместимых способа понимать это утверждение: «Философия является частью культуры».
Если мы следуем по пути традиционного универсализма, если мы считаем, что есть философия «вообще», некая единая по своей сути философия, то утверждение «Философия — часть культуры» будет означать следующее. Культуры в самом деле различны, и особенности той или иной из них могут способствовать (или, наоборот, препятствовать) появлению каких-то черт философии или каких-то концептов
366
(категорий, систем категорий), которые вырабатывает именно эта, а не другая культура. Но это касается только их появления. Как только речь заходит об их восприятии другими культурами, об их включении в «общефилософский дискурс», в дело вступает традиционный универсализм. Пусть какую-то идею выработала исламская философия, и пусть ее не выработала и не могла выработать ни западная, ни какая-либо другая философская традиция; пусть исламская культура имеет какие-то особенности, которые способствовали появлению подобной идеи и категории. Это совершенно не мешает западным философам включить ее в свое рассуждение, использовав как ресурс. Слово «ресурс» тут является ключевым. Мы, следуя высказыванию Ж. Деррида, остаемся в рамках собственного понимания, что такое философия, и привлекаем какие-то внешние ресурсы с целью решить свои проблемы. В этом случае тезис «Философия — часть культуры» совершенно не отменяет традиционно-универсалистского видения того, что такое единая по сути философия.
Но если верна другая точка зрения, — та, что я называю точкой зрения нового универсализма, — то этот тезис означает совсем другое. Тогда он означает, что для того, чтобы понять исламскую, индийскую, китайскую философию, необходимо понять, как устроена каждая из культур, породивших эти философские традиции. Мы должны понять внутреннее сродство любой такой культуры; говоря точнее, мы должны понять основание этого сродства. Мы должны ответить на вопрос, который поставлен Шпенглером, но фактически оставлен им без ответа. Почему различные сегменты культуры образуют такое неразъемное единство? В чем основа этого единства? С моей точки зрения, это — ключевой и одновременно самый трудный вопрос в деле понимании философских традиций других культур.
Если понимать философию как способ задания максимально широкого поля осмысления, как способ прояснения предельных оснований и, занимая позицию нового универсализма, попытаться ответить на этот вопрос, то надо будет сделать следующее. Надо будет показать, что существуют разные, несводимые друг к другу способы задания такого поля.
Но что значит «способ задать поле осмысленности»? Мы пользовались этим выражением, не проясняя его. Сделаем хотя бы шаг в этом направлении.
Только зная, где располагается предел, его можно пытаться преодолеть. Если философское предприятие — это попытка задать максимально широкое поле осмысленности, то тем самым ставится задача преодоления любого возможного предела. (Это то же, как когда мы говорим: философия есть попытка прояснить предельные основания собственного рассуждения.) Но как задается предел? Как предел является самим собой, т. е. как он удерживает, стягивает определиваемое? Как это определиваемое пределом располагается там, где предел ему позволяет расположить себя?
Предел, граница — это, с одной стороны, то, что задает Универсум. Так вопрос о пределе смыкается с принципом универсализма.
367
С другой стороны, предел — это то, что ограничивает, приводит к единству и в этом обобщающем единстве удерживает любые противоположности. Так вопрос о пределе и способе его задания смыкается с вопросом о рационализме, поскольку разум и есть способность задать противоположение и преодолеть его в обобщающем единстве.
Так две выделенные нами характерные черты философии — универсализм и рационализм — оказываются не чем-то дополнительным к понятию фундаментальной задачи философии; они суть лишь иное выражение, раскрытие и развертывание этой задачи.
Если способы задания полей осмысленности, т. е. способы очерчивания их границ и внутреннего расчерчивания пространств этих полей, различны, то тем самым различны и культуры, выстроенные как реализации таких способов задания осмысленности. Единство способа задания осмысленности в пределах культуры и объясняет то удивительное сродство различных ее сегментов, между собой генетически никак не связанных, которое до сих пор оставалось многократно замеченным, но не объясненным. Различие таких способов и их несводимость друг к другу и объясняет различие и несводимость выстроенных на их основе культур.
Каждая из крупных «восточных» культур (китайская, индийская, исламская) опирается на свой способ задания поля осмысленности. С этой точки зрения они ничем не отличаются от западной, опирающейся, как и они, на свой, отличный от прочих способ задания осмысленности. Прилагательное «восточный» может быть дано «восточным культурам» только в сопоставлении с Западом, и это прилагательное не сообщает о них как таковых ровным счетом ничего. Единственное содержание этого термина — отличие от западной культуры, т. е. неосуществление здесь того способа задания осмысленности, который характерен для западной культуры.
Однако это — исключительно негативное определение. Да, оно говорит нам, что тот способ задания осмысленности, который характерен для западной культуры, не будет найден здесь, в «восточных» культурах. Но этим ничего, совершенно ничего не сказано о том, какой именно способ задания осмысленности характерен для каждой из этих «восточных» культур, т. е. не сказано ничего положительного.
Найти положительный ответ на этот вопрос, наполнить термин «восточный» не только негативным (отличие от Запада), но и собственным, позитивным содержанием — такова подлинная задача востоковедения. Решена она может быть только как задача определения собственного, характерного для каждой из восточных культур способа задания осмысленности. Это — задача философская, и решать ее предстоит на путях сравнительной философии.
Как нет единого «Востока» (он существует разве что в негативном смысле, как «нечто, отличное от Запада»), так нет и единой «восточной философии». Как только мы пытаемся понять, что такое «восточная философия», как только мы делаем первый шаг к тому, чтобы постичь «восточную философию» в системе «восточных культур», т. е. понять ее как способ задания максимального широкого поля осмыс
368
ленности в пределах определенного способа задания осмысленности, — как только мы делаем этот шаг, мы понимаем, что «восточная философия» не существует в единственном числе. Можно говорить только о «восточных философиях».
«Восточные философии», т. е. китайская, индийская, исламская философские традиции, существуют постольку, поскольку реализуют характерный для каждой из них, и только для каждой из них вариант рационализма и универсализма. В этом смысле каждая из них самоценна и самодостаточна. Только постигая эту внутреннюю логику каждой из таких философских традиций, мы сможем избежать фатальной ошибки в предприятии, которое Ж. Деррида назвал «опознаванием» того, что мы «подразумеваем под словом “философия”». Именно в этом и заключается задача сравнительной философии — задача прояснения фундаментального основания самой философии.
 |

|
369
Перед читателем — контур рассуждения на тему, заявленную в заглавии. Я смогу лишь обозначить логику движения и выдвинуть основные понятия, которые необходимы на этом пути. Едва ли не каждый из тезисов, составляющих вехи этого рассуждения, мог бы быть детально разработан. Связь двух понятий, вынесенная в заглавие, сопровождается знаком вопроса потому, что я предлагаю это для продумывания, разработки и развития, иначе говоря, как вопрос, обращенный ко всем, кого заинтересуют темы, поднятые в моем рассуждении.
Когда мы говорим сегодня о новом гуманизме, это не означает, конечно же, что мы начинаем с нуля, отбрасывая старый, или традиционный, гуманизм. Это означает, что мы возвращаемся к классическому гуманизму (иначе зачем было бы употреблять сам этот термин?), чтобы перепродумать его, переосмыслить его основания в свете той новой ситуации, в которой мы оказываемся сегодня. Вот почему я начну свое рассуждение с вопроса о том, что составляет фундамент классического понимания гуманизма.
Классический европейский гуманизм (Возрождение и Просвещение) связан с утверждением универсализма разума в двух измерениях.
Во-первых, это универсализм объекта и предмета. Это означает, что всё: весь мир (как объект разумного познания) и все его аспекты (все возможные предметы познания) — познаваемо разумом истинно. Следовательно, нет ничего, что стояло бы выше авторитета разума: религия отходит в область частной жизни, навсегда теряя функции хранительницы истины об устройстве мира (но сохраняя свои разнообразные функции в культуре).
Во-вторых, это универсализм человека как родового существа. Это означает, что разум един для всех людей: это один и тот же разум, то есть одна и та же рациональность. Рациональность в принципе едина и противопоставляется тому, что может быть названо не-рациональным или иррациональным.
Это второе измерение тезиса об универсализме разума, лежащего в основании гуманизма, предполагает ряд важнейших следствий:
370
1. Рациональность, если она — подлинная рациональность и дает истинноезнание (вспомним пафос истины, неотъемлемый от просвещенческого по-нимания разума), не может быть разной в разных частях света или в раз-ных культурах и цивилизациях — просто потому, что истина едина. Это значит, что разные культуры находятся в разном отношении к этой подлинной истине, добываемой с помощью подлинной рациональности.
2. Именно в этом заключается глубинное эпистемологическое основание европоцентризма: ведь это Запад развил науки, наиболее полно реализовавшие идеал рациональности и научности, так что для любой другой культу-ры приближение к научности предполагает с необходимостью либо заимствование западного опыта, либо самостоятельное прохождение того же пути. Как бы мы ни замалчивали европоцентризм и ни прикрывали егонаслоениями политкорректной риторики, это основание никуда не исчезнет, поскольку оно вытекает из самой логики, а значит, будет неизбежно воспроизводиться в любых рассуждениях, явно или (что еще более опасно)скрыто.
3. В этом же — основание оценки термина «инаковость» (otherness) исклю-чительно как негативного. Инаковость, особенно после саидовской крити-ки ориентализма, стали трактовать как указание на ущербность и неполноценность. Но дело в том, что критика ориентализма, внутреннее противо-речивая, предполагает в качестве собственного основания монологичнуюшкалу (только в таком случае инаковость в отношении западного образца может расцениваться как имплицирующая ущербность), а значит, утверждает именно то, что хотела бы отрицать: исключительность западной модели, принимаемой в качестве универсальной, в том числе и как универ-сальное основание оценки (то, что я называю здесь монологичностью шкалы). Поскольку речь идет о логике, такое противоречие будет неизбеж-но воспроизводиться, какие бы новые термины взамен попавшей в опалу«инаковости» мы ни изобретали в попытке найти политкорректный вариант (например, alterity): такие решения не могут быть чем-то большим, нежели паллиативом. Подлинное решение требует пересмотра логики, а не просто слов; оно требует, иначе говоря, найти возможность использовать по-лилогичную, а не монологичную шкалу оценок.
4. Понимание разума и рациональности как единой для всех, как общечело-веческой основано в конечном счете на представлении о том, что мир един и что единому миру соответствует одна, и только одна, точно определенная истина. Это положение лежит в основе нововременных наук, и оно ничуть не утеряло своего значения сегодня: будь иначе, наука просто не могла бы быть трансформирована в технологию. Все это предполагает и единственную логику подлинного (как бы «подлинность» ни трактовалась; нопрежде всего в ее сциентистском понимании) познания мира. Упомяну лишьзакон исключенного третьего: мы готовы пересмотреть любую теорию,
371
если она не согласуется с ним, поскольку отказ от него означал бы круше-
ние нашей веры в рациональность и познаваемость мира. (Закон исклю-
ченного четвертого и другие варианты альтернативных логик альтернатив-
ны лишь по видимости, формально: они рассматривают случаи эпистемо-
логической неопределенности, а не научного знания. В принципе то же
справедливо для многообразных современных формальных логик: их онто-
логии искусственны.)
Такое понимание рациональности и истины подвергалось критике в философии в XIX и XX вв., порой весьма жесткой. Эта критика была разной и исходила из различающихся предпосылок, но велась в целом по вектору сужения всевластия разума. Конечно, здесь не место ее разбирать. Дело в другом: мне представляется, что критика традиционного представления о разуме и рациональности может вестись и так, чтобы не сузить, а, наоборот, расширить представление о рациональности и универсализме.
Такое расширение я и имел в виду, употребив в заголовке этого рассуждения термин «новый универсализм». Критика традиционного представления о разуме и рационализме, которая могла бы быть расширяющей, а не сужающей, отрицает ограниченность универсализма его традиционными формами — но тем самым предлагает новую трактовку универсализма, расширяющую его понимание. Такая новая трактовка универсализма вполне соответствует тому, что можно называть «новый гуманизм».
Что же такое этот новый универсализм; как подойти к нему?
Классическое представление о разуме и рациональности, сформированное и развитое в Европе начиная с Платона и Аристотеля, захватывая эпохи Возрождения и Просвещения (когда и формируются классические представления о разуме и универсализме) и включая наши дни, связано с субстанциальной картиной мира, неотъемлемо от нее; завязано на нее множеством интимных (внутренних, составляющих самую сердцевину и потому нерушимых) связей.
Что такое субстанциальная картина мира? Это — представление о том, что мир состоит из субстанций, наделенный свойствами и находящихся между собой в определенных отношениях. «Отношение», «свойство» — или «сила», если брать язык физики, — не могут иметься и существовать сами по себе, они непременно должны иметь носителя. Представление о том, что фундаментом качественного многообразия мира служит подобный носитель, и составляет суть субстанциальной картины мира.
Такое представление было выработано уже как платоновско-аристотелевская парадигма и в целом сохраняется в западной культуре до наших дней. Это далеко не случайно: в понятии субстанции западное мышление находит основание устойчивости и неизменности, а значит, закономерности и познаваемости мира. (Ведь изменение можно мыслить только как изменение неизменного, иначе само изменение не может быть зафиксировано как смысл. Мы будем иметь дело с двумя разными вещами, а не с одной и той же изменившейся вещью: «одно и то же» имеет
372
смысловой приоритет перед «изменением».) Этот тезис допускает очень разнообразные нюансировки, связанные с именами Уайтхеда или Витгенштейна, Киркегора, Рорти или Делёза («Логика смысла»), которые, впрочем, не в силах отрицать логическое всевластие субстанциальной картины мира.
Субстанциальный характер картины мира совсем не означает, что ее носители видят в мире только субстанции и что кроме субстанций для них ничего не существует. Конечно, это не так. Данный тезис означает совсем другое. То, что не является субстанцией в общепринятом смысле слова, будет либо 1) осмысляться так, как если бы оно было субстанцией, т. е. по той же логике, либо 2) трактоваться через фундаментальное понятие субстанции (самый ранний яркий пример — понятие «становление» у Аристотеля, которое невозможно без понятий потенциальности и актуальности, в свою очередь предполагающих субстанциальность: и здесь субстанциальность логически первична; в целом в связке «бытие-становление» в западной философии логический приоритет всегда остается на стороне бытия).
И теперь — главный вопрос: что, если фундаментом осмысления мира может быть не субстанция, а что-то другое? Что-то, что в субстанциальной картине мира занимает маргинальное положение — но может выходить на первый план, формируя иной, отличный тип рациональности? Что-то, что позволит схватить устойчивость мира (а значит, и его закономерность и познаваемость) не как субстанциальную?
Этот вопрос и представляет собой тот мостик, который позволит нам перейти к вопросу о том, как возможен «новый универсализм» (или: «расширение универсализма»).
Смысл сравнительной философии, которая составляет сферу моих профессиональных интересов, — в том, чтобы подойти к опыту других культур и цивилизаций «с чистого листа». Это означает: подойти к их исследованию так, чтобы увидеть эти культуры и цивилизации как попытку выстроить осмысленность мира, не предрешая при этом вопрос о том, на какие именно основания опирается такая осмысленность. (Конечно, такой подход философа-компаративиста предполагает достаточно сложную технику своеобразного гуссерлианского эпохе, предметом которого в данном случае послужат основания рациональности собственной культуры исследователя: необходимо воздержаться от соблазна интерпретировать другую культуру, опираясь на эти основания и проделывая очень привычные и даже представляющиеся тривиальными и безальтернативными логические ходы.)
Для меня важно обратить внимание на то, что я говорю именно об основаниях осмысленности. Ведь такие основания — возможно — окажутся иными, нежели привычные нам; может случиться, что мы откроем возможность выстраивания осмысленности и формирования картины мира не как субстанциальной.
Ф. Жюльен, французский синолог, открывает свою великолепную книгу «Путь к цели: в обход или напрямик? Стратегия смысла в Китае и Греции» ([Жюльен 2001]; оригинал: Jullien F. Le détour et l’accès: stratégies du sens en Chine, en Grèce. P.: Grasset, 1995) замечанием о том, что только глубокое исследование китайской мысли дало ему понять, насколько не-обычной является наша собственная культура и ее истоки,
373
которые мы находим в Греции; то, что воспринимается нами как само собой разумеющееся, оказывается совсем не таковым, напротив, удивительным в своей уникальности.
Ф. Жюльен не говорит об инаковости; но его утверждение, вероятно, может быть зеркально отображено, сохранив свой смысл. Может быть, ученый, принадлежащий незападной культуре, при глубоком изучении западной найдет столь же удивительно уникальными основания собственной культуры; столь же неповторимыми и несводимыми к основаниям других культур и цивилизаций?
То, о чем мы говорим чисто теоретически, пока остаемся в сфере сравнительной философии, имеет и практическое, я бы сказал — историко-практическое измерение. Я имею в виду очень сложные процессы, запущенные тем, что именуется глобализацией.
Конечно, на Земле всегда существовали разные культуры и цивилизации, однако никогда они не входили в столь тесное соприкосновение, как сейчас. Этот тезис, безусловно, нуждается в уточнении. Эпоху колониальных завоеваний также нельзя не назвать эпохой «тесного соприкосновения». Но ее отличие от того, что называют глобализацией, заключается в том, что сейчас наблюдается очень тесное взаимодействие и взаимовлияние процессов, происходящих в разных частях мира: случившееся в одной точке может почти мгновенно отозваться совсем в другой точке земного шара.
Такое тесное взаимодействие свидетельствует о том, что мы вступаем в некую новую эпоху, контуры которой еще не очень ясны; эпоху, сутью которой — если применить негативное определение — станет невозможность изолированного существования разных культур и цивилизаций.
Главный вопрос, который встает в связи с этим, можно сформулировать так: будем ли мы жить в монологичном — или полилогичном мире? В моноцивилизационном — или в многоцивилизационном мире?
Задать такой вопрос — не то же самое, что спросить о том, в каком мире мы хотели бы жить, в монополярном или многополярном. Вопрос, заданный относительно моно- или полилогичности будущего мироустройства, предполагает гораздо большее, нежели просто политический аспект.
Глобализация, которой мы все свидетели, имеет прежде всего экономическое измерение. Я имею в виду, что глобализация как унификация, как монологичность наблюдается прежде всего в экономической сфере (и в тех областях, которые непосредственно производны от нее). Но в культурно-цивилизационной сфере происходит скорее обратное.
Рассмотрю только один пример, который непосредственно соприкасается со сферой моих профессиональных интересов как арабиста. Я имею в виду нынешний подъем в арабском мире, пресловутую «арабскую весну», которая вызывает столь противоречивую реакцию. С одной стороны, разговорами о ней полны арабские телеканалы, о ней говорят взахлеб как о том локусе, той точке, где сегодня делается история, — и по поводу которой, с другой стороны, за пределами арабского мира выражают столько скепсиса, имея в виду ее уже состоявшиеся результаты.
374
Мне кажется, что события «арабской весны» нельзя рассматривать с позиций того, насколько они соответствуют западным представлениям о правильном (наилучшем как наиболее успешном, конкурентоспособном; соответствующем человеческой природе; соответствующем общечеловеческим ценностям, и т. д.: много синонимичных способов выразить эту мысль) устройстве общества и жизни (а именно рассмотрением с этой позиции вызван горький скепсис тех, кто не готов восхищаться этими событиями). И дело вовсе не в политкорректности или иных соображениях политического толка. Дело скорее в сущности этих событий и в том, что непосредственно связано с этим: в возможности применить монологичную модель их оценки (модель, которая построена на представлении о единственности подлинной рациональности, точно отражающей устройство мира или устройство человека и общества, — так мы возвращаемся к началу нашего разговора о гуманизме как универсализме разума), модель, которая однозначно оценивает предмет с точки зрения того, насколько близко он приближается к задаваемому этой линейной шкалой максимуму.
С моей точки зрения, эти события — выражение новой цивилизационной реальности. Суть ее в том, что исламский мир ищет свое цивилизационное устройство после периода колониальной зависимости (XIX—XX вв.) и попыток применить западные модели (капитализм или социализм, вестернизация или социалистическая ориентация — вторая половина XX в.).
Вот почему эти события, которые в политической плоскости демонстрируют усиление позиций исламистов, нельзя рассматривать только как реакционные — в историческом смысле этого слова, т. е. как возвращение назад, как движение вспять от тех моделей политического, экономического и т. п. устройства общества, которые были найдены и апробированы западной цивилизацией. Такая оценка возможна только при применении монологичной шкалы; она в принципе невозможна, если мы ищем полилогичную шкалу оценок.
Вот почему я бы рассматривал эти события и эти явления с точки зрения их обращенности в будущее. Ведь то, что происходит сейчас, хотя и производит впечатление взрыва, готовилось и назревало очень долго. Внимательный взгляд легко рассмотрит постепенные изменения, которые происходили в арабском (и исламском) мире на протяжении последних 30—40 лет. Эти изменения носят вовсе не политический или не только политический характер (последний скорее производен от них, от своей подлинной и глубинной причины). Они имеют культурный, цивилизационный характер.
Именно к этому мы должны быть готовы — к тому, чтобы иметь ответ на вопрос: в чем причина цивилизационного (а не политического, экономического или какого еще) трения того мироустройства, которое предлагается господствующей глобализационной моделью, — и его массового, культурно-цивилизационного восприятия в арабском (а вероятно, и шире — исламском) мире?
Ведь глобализация, пусть она и имеет прежде всего экономическое измерение, тем не менее неотъемлема от подразумеваемого, но от этого не менее властного
375
цивилизационного измерения. Невозможно принять только западную экономическую модель, отбросив все остальное: экономика — часть культуры, и она предполагает свое культурное обеспечение; тем более это относится к политическому устройству, социальным институтам и т. д.: все это требует прежде всего и как минимум (если, конечно, здесь годится слово «минимум») определенного представления о человеке и его соотношении с миром и другим человеком.
Мне представляется, что несовпадение, вызывающее трение (а подчас и искрение), о котором сказано выше, — это несовпадение способов смыслополагания. Несовпадение, вызванное тем, что мы сталкиваемся с иной картиной мира, построенной на иных основаниях, нежели привычная нам по опыту западной культуры субстанциальная картина мира с присущей ей логикой, мировидением, т. д. Вот почему нам нужна полилогичная система оценок — не единая шкала, ранжирующая оцениваемое как лучшее-худшее, но многовекторный взгляд, позволяющий схватить то, что не сводится к единому основанию и не умещается на единой шкале.
Возможно ли это? На мой взгляд, да. Этот краткий ответ нуждается хотя бы в некотором прояснении.
Мое утверждение построено на опыте исследования арабской культуры, прежде всего ее классического периода, но также и современности. Насколько результаты, полученные для арабской культуры, переносимы на исламскую культуру в целом — это, вообще говоря, вопрос; но до определенной степени переносимы, как основные черты греческой переносимы на западную вообще (конечно, не все; но именно те, что задают фундаментальную логику культуры).
Мне представляется, что применительно к арабской культуре мы можем говорить о процессуальной картине мира: она хорошо прослеживается на уровне как языкового, так и теоретического мышления.
Процессуальность картины мира, основанная на процессуальном типе смыслополагания, порождает и свою рациональность, которая сохраняет все признаки «настоящей» (скажем лучше: подлинной, полной, полноценной) рациональности — но не является рациональностью, производной от субстанциальной картины мира, где устойчивость и закономерность требует — для своего обнаружения — возведения к субстанции как к неизменному.
Процессуальность проявляет себя во всех областях арабской культуры. Это право, вероучение, филология, философия, если брать основные сегменты теоретического мышления. Этим конституированы понимание человека и его отношения к другому человеку, этика, исламская антропология — то есть базовые моменты, определяющие мировоззрение человека. Наконец, принцип процессуальности очень ярко и зримо проявляется в исламском искусстве.
Таким образом, процессуальность прослеживается в вербальной и невербальной сферах и задает общие смысловые контуры того, что можно называть арабо-мусульманской культурой и — с оговорками, приведенными выше, — исламской цивилизацией.
376
Это не означает унификации этой культуры и цивилизации, ее зауживания до жестких рамок. Процессуальность — только ведущий вектор, но не исключительная характеристика: и в прошлом, и сейчас исламская цивилизация демонстрирует феномены, привязанные к иному типу смыслополагания (наиболее известный пример — фальсафа, развивавшая греческую традицию). Тип смыслополагания задает лишь основные контуры, но не исключительную форму.
Если основания смыслополагания — т. е. тех процедур, благодаря которым достигается осмысленность мира, благодаря которым строится смысловое тело культуры, — различны и несводимы, если и в самом деле нам стоит говорить о многологичности, а не монологичности, иметь многовекторную возможность оценки, а не единую (моновекторную) шкалу, — если (подчеркиваю, если) все это верно, то не стоит ли поставить вопрос о продумывании понятия «цивилизационное равенство»?
Идея цивилизационного равенства выдвинута и прорабатывается для России и российской ситуации, где мусульмане — не иммигранты, а коренное население страны, так что понятие цивилизационного равенства для России, на мой взгляд, естественно. Но не только: оно составляет одно из важнейших условий безопасности страны — его цивилизационного измерения. Насколько эти представления и идеи распространимы за пределы России — это можно обсуждать.
Цивилизационное равенство требует говорить как о равном о том, что изначально не равно и не может быть равным (в силу несводимости), в отличие от юридического равенства, где изначально неравные субъекты права берутся как равные в определенном отношении, и именно это отношение разрабатывается, тогда как неравенство остается за пределами такой разработки. В отличие от этого, для того, чтобы обсуждать цивилизационное равенство, необходимо научиться говорить о неравном, находя его равенство не как сведение к чему-то единому, не как вышелушивание некоего единого для всех общего содержания, не как определение некой общей рамки, в границах которой мы должны располагаться (все эти подходы не выводят нас за пределы монологичности и единой шкалы оценок).
Но как же тогда можно говорить о равенстве неравного, не применяя эти отточенные веками стратегии?
Мне кажется, что регистр разговора об универсализме как универсальной рациональности стоит сменить на регистр разговора об универсализме как универсальной способности смыслополагания.
В самом деле, давайте задумаемся: правильно ли мы поступаем, зауживая в определении человека слово sapiens «знающий» до понятия «разумный», говоря о человеке как о «разумном живом существе»? Зауживая греческий логос до разума в его определенной трактовке, а затем объявляя эту трактовку универсальной и единственной?
Не следует ли нам говорить, что подлинно человеческой чертой является способность осмысления, способность создавать структуры осмысленности?
Тогда мы будем говорить об универсализме смыслополагания, а не об универсализме рациональности. Универсальной является сама способность смыслополагания,
377
способность к осмыслению мира. Именно она делает нас людьми и отличает от существ, лишенных этой способности.
Интересно, что гуманизм в его расхожем понимании обычно сводится к тезису о том, что «все мы люди, несмотря на все наши различия»; но что значит «быть человеком»? Трудности в поиске ответа на этот вопрос очевидны: 1) невозможно дать ясное определение того, что есть человек (XX век похоронил попытки однозначно определить «человеческую природу»), и 2) непонятно, что останется, если убрать «все наши различия»: найдем ли мы что-либо в сухом остатке, кроме чисто биологического субстрата, не отличающего нас от животных, если отвлечемся не только от культурных, исторических, расово-этнических, географических и иных различий, но также и от рациональности?
Думаю, что найдем — и найдем нечто весьма существенное. В качестве ответа на этот вопрос (что значит, что «все мы люди»?) я бы предложил продумать такой: независимо от любых различий нас объединяет способность смыслополагания.
Если способность смыслополагания едина как способность и именно она составляет универсальное в человеке, то модусы ее реализации различны: единство и универсальность закрепляются в сфере чистой способности, тогда как вариативность и несводимость располагаются в области реализации этой способности. Здесь до определенной степени верна аналогия с понятием языковой способности. Для всех людей она одинакова, универсальна в том смысле, что до определенного возраста все люди могут овладеть любым языком как своим родным, а значит, универсальны в языковом измерении. Однако после того, как это случилось (способность осуществилась, из чистой способности перешла в область осуществления), только один язык становится родным для человека: осуществив свою универсальную языковую способность, мы вместе с тем утрачиваем и языковую универсальность.
Вот почему возможны разные типы рациональности, как таковые несводимые один к другому, но находящие свое единство как вариативные типы чего-то одного, а именно — смыслополагания.
Этот тезис, составляющий теоретический базис всего этого рассуждения, основан на теоретической разработке вопроса о смыслополагании и детальных исследованиях различных феноменов арабо-мусульманской культуры.
Я хотел бы завершить это рассуждение следующим тезисом. Приняв взгляд, который предложен здесь, мы не потеряем ничего из того, что предлагает нам европейский рационализм, составляющий фундамент той цивилизации, в которой мы сегодня живем. Напротив, мы будем готовы встретить другие способы осмысления мира и построения осмысленности (а значит, и рациональности) не как лишь альтернативные западной рациональности (а значит, враждебные ей и потому маргинализируемые — или же такие, которые должны быть маргинализированы), а как вырастающие из другого корня, но на той же почве. Это и будет, мне кажется, подлинно гуманное отношение ко всем тем способам смыслополагания, которые в своем историческом развитии породил человек в разнообразии культур и цивилизаций; то, что заслуживало бы названия «новый гуманизм».
 |

|
378
Я выскажу здесь несколько тезисов, призванных очертить контур рассуждения на заявленную тему.
Тезис 1. Работа востоковеда — это всегда работа с другой культурой. Этим востоковед еще не отличается от тех, кто изучает Англию, Францию или Германию, поскольку во всех этих странах мы тоже встречаемся с «другой культурой». Но востоковед отличается от германистов, американистов и так далее тем, что он изучает культуру, к которой ни в каком смысле не принадлежит. Это — очень важный момент, показывающий разный смысл прилагательного «другой» в словосочетании «другая культура». Мы, конечно, не принадлежим английской культуре, но все-таки имеем с ней некий общий корень, представленный в каких-то аспектах античностью, в каких-то — христианством, и так далее. Иначе говоря, здесь есть некие общие основания, к которым мы можем возвести себя. Но если мы возьмем китайскую культуру, мы не найдем такого общего корня, который бы роднил синолога, выросшего в нашей культуре, и изучаемую им культуру. То же самое по большому счету касается арабо-мусульманской культуры: абстракции типа «авраамические религии» в данном случае не годятся и не могут играть роль контраргумента, поскольку «авраамические религии» не являются элементом моей, да и вовсе никакой культуры, они не задают смысловой горизонт, не присутствуют в смысловом теле культуры; место этой абстракции будет реально занято или иудаизмом, или христианством, или исламом. Это же касается «средиземноморской культуры» и тому подобных конструктов.
Вот почему востоковед находится в особом положении: в собственном опыте он не может найти никакой интуитивной подсказки относительно изучаемой культуры. Именно никакой. Более того, он должен быть очень внимателен к тому, чтобы не получать такие интуитивные подсказки — те, которые мы не можем не вычитывать из нашего собственного сознания: представления о том, что очевидно, а что не очевидно, что может быть, а чего не может быть, что оправдано, а что не оправдано, и т. п. От этих подсказок востоковеду приходится абстрагироваться до тех пор, пока он не убедится в их оправданности, потому что они вполне могут оказаться сбивающими с толку.
379
Тезис 2. Вот почему мы обречены на сравнение. Хотим или не хотим, если мы востоковеды, мы обязаны сравнивать, потому что не можем не сравнивать. Любое изучение культуры, к которой исследователь не принадлежит, непременно будет предполагать сравнение изучаемой культуры с собственной, поскольку оно не может протекать иначе, нежели как попытка «уложить» востоковедный материал в смысловые матрицы, сформированные собственной культурой, с последующей проверкой успешности этих операций. Даже если сравнение не тематизировано (как оно тематизировано в жанре сравнительных исследований, например в жанре историко-философской востоковедной компаративистики), оно не может не присутствовать имплицитно в востоковедном исследовании.
Тезис 3. А что такое «сравнение»? О сравнении можно говорить и в обыденном, и в понятийном смысле. Вообще-то сравнение происходит всегда, оно имеет место постоянно: мы все время сравниваем. На конференции мы слушаем доклады — сравниваем. Мы идем по улице — сравниваем прохожих и автомобили. Заходим в магазин — сравниваем разные платья, или сыры, или колбасы и так далее. Но что это такое — сравнение?
С точки зрения языка «сравнение» — это как будто сравнивание. Такой смысл, безусловно, присутствует в слове «сравнение»: это как будто приравнивание, когда мы что-то делаем ровным или равным. Что значит «я сравниваю»? Это может означать «я ровняю»: так сравнивают неровности на участке земли. Но «я сравниваю» значит также: я провожу сравнение. Этимологическая подсказка, которую мы только что услышали, в данном случае скорее всего неправильна, потому что сравнение не предполагает сравнивания в смысле уравнивания.
«Сравнение» в понятийном смысле, мне кажется, — это совсем другое. Сравнение — это нахождение основания для различения. Иначе говоря, когда мы сравниваем, мы на самом деле пытаемся найти то основание, отталкиваясь от которого мы сможем различать. Это значит, что мы будем иметь право считать что-то одно различным, а не иметь дело с двумя разными вещами.
Например, метры и килограммы — их нельзя сравнивать, они разные в том смысле, что у них нет общего основания, которое позволило бы их различать как изменившуюся вещь, как два разных состояния одной и той же вещи. Как их можно сравнивать? Можно сказать только, что это — две разные вещи. Но ровно тот же вопрос можно задать и относительно, скажем, западной и китайской культур. Можно их сравнивать? Это метры и килограммы — или это все-таки что-то, у чего есть общие основания, отталкиваясь от которых их можно осмысленно различать? Или это две абсолютно разные вещи? Можно ли сравнивать людей и ангелов? Можно, если мы скажем, что это живые существа, одни смертные, другие бессмертные, то есть если найдено общее основание для сравнения, исходя из которого мы различаем людей и ангелов как смертную и бессмертную «модификации» одного и того же — живого разумного существа. Так вот, методология компаративистики — это как раз способ найти такое основание.
380
Тезис 4. Каким может быть такое основание? С моей точки зрения, его можно разыскивать на двух разных путях: его можно пытаться обнаружить, подходя к тексту культуры как к данному, то есть как к чему-то уже имеющемуся, как к субстанциально данному, в общем, данному как нечто фиксированное и представленное нам. А можно искать его, беря текст культуры как за-даваемый и со-здаваемый, то есть не как данный, не как то, чем мы можем обладать, что можем взять в руки и взглянуть на это, но — как то, что должно со-здаваться и пере-со-здаваться, как то, в чем линии этого со-здания никогда не стерты.
В первом случае мы смотрим на культуру так же, как смотрим на законченное архитектурное сооружение, любуясь им или обдумывая вопрос о стиле, в котором оно выполнено, его авторе, эстетических принципах и т. д. Во втором случае мы видим то же самое архитектурное сооружение, но процесс его создания не отброшен, а присутствует перед нашим взором, мы прослеживаем любую деталь на каждом шаге ее «изготовления» вплоть до ее оснований. Чуть ниже я это поясню более подробно, что это значит, и в дальнейшем буду сравнивать эти два способа понимания текста культуры: как данность и как создаваемость.
Тезис 5. Если мы занимаемся арабской культурой, то, хотим мы этого или не хотим, мы проводим процедуру сравнения с другой культурой: она предстает для нас как иная. Понятие инаковости культуры — следующее очень важное понятие. Но что такое «иное» — то, с чем мы сравниваем?
Инаковость культуры может пониматься двумя разными способами, в соответствии с намеченным выше различением заданности и создаваемости. Первый — это содержательная инаковость, когда мы понимаем культуру как содержательно другую: в ней есть другое содержание, которое мы видим и вычитываем. Например, католическая церковь устроена иначе, чем православная, — вот пример содержательной инаковости. Или английская литература — другая содержательно, чем русская. И так далее. В арабской стране я вижу совершенно иное содержание, чем в своей, — это вновь содержательная инаковость. Пожалуй, любые две культуры, как бы мы ни понимали культуру, от самого поверхностного определения до самого глубокого, всегда будут содержательно разными: содержательное различие, содержательная инаковость имеет место всегда.
Второй тип инаковости — логико-смысловой. Это тот тип инаковости, когда различие имеет место благодаря другой смысловой логике, благодаря другой логике выстраивания смыслов в этой культуре. В таком случае мы тоже можем заметить содержательную инаковость, поскольку она имеет место всегда; но здесь ее будет трудно объяснить без учета другой смысловой логики. Иначе говоря, она будет не просто дана нам; чтобы ее понять, ее нужно брать не как данность, а как то, что создается, то есть непременно проникать в ту смысловую логику, которая стоит за этой данностью.
Тезис 6. Как мне представляется, именно это делает неизбежным для востоковеда вопрос о методологии. Востоковед может, конечно, сказать: да бог с ней, с этой методологией, какое нам до нее дело, мы не станем об этом говорить, а будем
381
«просто» работать с текстом, или «просто» описывать культуру. От разных людей можно услышать подобное мнение: для чего нам все эти построения? Будем «просто работать с текстом — и всё». Ведь самое интересное, в конце концов, — это именно материал, а не все эти рассуждения о методологии!
Но что происходит в таком случае? Пусть мы «просто» описываем культуру; мы заняты вроде бы самой простой операцией — операцией дескрипции. Но ведь язык описания будет необходимо нашим, а не каким-то другим. И тогда мы совершенно не застрахованы от того, что язык описания будет не совпадать с тем, как устроен описываемый материал. Не с самим материалом, не с его содержанием, а именно с его устройством, то есть с его логикой. Когда мы имеем дело только с содержательной инаковостью, нам нужно лишь придумать новые термины, ввести какие-то слова, которых нет в нашем языке. Скажем, в нашем языке есть слово «право», есть слово «юриспруденция». Но то, что называется по-арабски термином фикх, — это и не право в полном смысле, и не юриспруденция в полном смысле, это нечто другое. Мы можем «просто» ввести это арабское слово в русский язык (как это фактически и сделано), сказать «фикх» — и всё. Мы ввели новое слово, и язык описания как будто бы стал соответствовать реалиям. С точки зрения содержательной — да, и если бы речь шла только о данном содержании, если бы дело ограничивалось только данностью этих предметов, тогда — да. Но если речь идет о логике выстраивания этих реалий, тогда нам недостаточно просто придумать слово, нам нужно непременно дать понять читателю, что это слово значит. А для этого нужно отослать к логике выстраивания его содержания.
Тезис 7. Сравнительно-культурное исследование — это всегда открывание Другого как иного-себя, где в качестве Другого выступает другая культура. В сравнительном исследовании я открываю Другого как инобытие самого себя. Почему? Да просто потому, что ничем другим, кроме собственного сознания, собственного опыта, собственного восприятия (и так далее), мы не владеем. Мы не можем выскочить из своего сознания, своего языка. Обсуждая методологию востоковедного исследования, об этом часто говорят так, как будто это — решение проблемы. Мы не можем выйти из своего сознания, своего языка, — значит, мы будем описывать другую культуру этим языком; конечно, постепенно совершенствуя его, приближаясь к истине методом проб и ошибок, и так далее. Но опять-таки: это бы хорошо работало, если бы мы имели дело только с содержательной инаковостью. Но когда мы имеем дело с культурой, которая основана на другой внутренней логике, такой метод работы не будет успешным.
Поэтому в сравнении, понятом как нахождение Другого в качестве инобытия самого себя, инобытия исследователя, я бы тоже видел два методологически различных пути, которые соответствуют двум пониманиям инаковости: как содержательной и как логико-смысловой.
Тезис 8. Когда мы понимаем другую культуру (в качестве Другого, напомню, выступает другая культура) как содержательно инаковую, мы как-то перегруппировываем элементы мозаики, которые составляют нашу собственную культуру,
382
может быть, добавляем какие-то новые элементы, но так или иначе строим картину другой культуры через изменение элементов собственной. Такое изменение может быть разным; в самом крайнем случае это — зеркальное отражение собственной культуры, когда Другой понимается как то же самое, что я, но с противоположным знаком. Это не обязательно будет минус, такая зеркальность не обязательно будет пониматься как отрицательная характеристика, хотя подобная импликация и не исключена.
Свежий пример в арабистике — книга А. А. Игнатенко «Зеркало ислама», большая, насыщенная материалом, где образ арабской культуры строится фактически как зеркальный образ европейской культуры. Если европейская культура проективная, дискурсивно-имагинативная, то исламская культура, наоборот, имагинативно-дискурсивная — даже в этих главных понятиях автора видна эта зеркальность. Или возьмем Л. Масиньона, великолепного исследователя, который очень интересно писал об исламской культуре, — в его рассуждениях об атомарном стиле мышления исламской культуры проглядывает та же методология. Он обнаруживает в качестве сущностной характеристики исламской культуры то же, что в собственной, но — со знаком минус: там нет того, что должно быть, если судить по опыту своей культуры (для Масиньона это — устойчивость формы, обеспечивающая имманентную законосообразность вещи и ее независимость от воли внешнего действователя). Таким образом, и здесь выделенная первоосновная черта арабо-мусульманской культуры оказалась лишь зеркальной проекцией собственной культуры исследователя на исследуемый материал.
Итак, если мы понимаем инаковость как содержательную, то мы описываем другую культуру, всего лишь меняя или перегруппировая элементы собственной.
А если мы понимаем инаковость как логико-смысловую, что мы должны сделать? Тогда нужна более серьезная и сложная операция. Я бы сказал так: мы должны раз-монтировать собственную культуру до ее последних логических оснований, а потом, сменив логико-смысловое основание, воссоздать — исходя из него — образ чужой культуры. Не перегруппировывать содержательные элементы, а редуцировать свою логику и выстроить заново логику чужой культуры.
Тезис 9. Что это значит? Это значит, что в таком случае востоковедное исследование, в частности сравнительно-философское востоковедное исследование, хотя и имеет дело с вещами, как будто очень далекими от средоточия современной философской проблематики, на самом деле именно в это средоточие прямехонько и попадает, поскольку фактически оно оказывается исследованием архитектоники сознания. Оно неожиданно обнаруживает близость к философии сознания — не с точки зрения содержания современной философии сознания, конечно же, а с точки зрения ее предмета.
Тезис 10. Почему? Да потому, что если Другой — это иной я, но иной логически, то это означает, что логика другой культуры — это то, что я могу найти в своем собственном сознании, но не как центральное, а как, может быть, маргинальное, вытесненное на периферию моего сознания. Это становится центральным в другой
383
культуре, где на периферию, напротив, может быть вытеснено то, что для моей культуры является центральным. Вот что я имею в виду под раз-биранием и со-биранием, размонтированием и монтажом заново.
Поясню очень бегло; подробные разъяснения легко найти в моих работах. Бесспорной характеристикой западной культуры является ее субстанциальная ориентированность. Это культура и, соответственно, сознание, которые ориентированы на работу с субстанциями. Европейская логика начиная с Аристотеля и до настоящего времени, при всей дистанцированности современной логики от традиционной, работает с классами вещей, которые группируются в соответствии с признаками, которыми обладают. А понятие субстанции и есть не что иное, как способ сгруппировать качественное многообразие мира по признаку принадлежности этих качеств их носителям-субстанциям. Конечно, это не единственная функция данной категории: субстанция обеспечивает устойчивость вещи, ее внутреннюю законосообразность, делает возможным определенный тип научного познания мира, и т. д.
Что касается арабской культуры, то для нее характерен другой взгляд на мир. Это взгляд, который идет от действователя (или, если угодно, действия): это действенный, или процессуальный взгляд, когда многообразие мира упорядочивается как многообразие аспектов действователя, соотнесенных с претерпевающими это действие вещами. Устойчивость здесь достигается как устойчивость завязывания взаимо-действий, а закономерность видится как обязательность внутренней структуры действия, предполагающей непременную взаимо-связанность действенного аспекта действователя и претерпевающего аспекта вещей-объектов действия. Это целиком, в своих основаниях — другой взгляд.
Тезис 11. Он не хуже и не лучше, чем субстанциальный. Субстанциально-ориентированный и процессуально-ориентированный взгляды логически альтернативны, но онтологически взаимно дополнительны. Каждый из них улавливает то, что не под силу уловить другому. При этом субстанциальный и процессуально-действенный аспекты необходимо присутствуют в мире, поэтому каждая из перспектив дает нам незаменимо-истинное знание о мире.
Тезис 12. Субстанциально-ориентированный и процессуально-ориентированный взгляды выстраивают для нас миры вещей. Из вещей, т. е. субъект-предикатных комплексов, составлены картины мира для соответствующих типов сознания. Но за миром-вещей всегда стоит мир-событий. Мир-событий, текучесть, отраженная в нашей речи глаголами, одинаков для любой логики смысла. Преобразования «Г → ИС» и «Г → ИП», которые позволены языком и которые может произвести наше мышление, превращают этот одинаковый мир-событий в альтернативные миры-вещей. Разобрать свой мир-вещей, редуцировать привычную логику смысла — значит провести обратное преобразовние «ИС → Г» или «ИП→ Г», перейти от мира-вещей к миру событий. Собрать затем заново мир инологичной культуры, опираясь на ее логику смысла, — значит выстроить на привычных для нее логико-смысловых основаниях мир-вещей, отправляясь от мира-событий. Этот путь будет отражен в формулах «ИС → Г → ИП » и «ИП→ Г → ИС », смотря
384
по тому, от какой логики, субстанциально-ориентированной или процессуально-ориентированной, мы отправляемся и к какой — соответственно — направляемся.
Итак, когда я хочу понять, как устроена другая культура, характеризующаяся логико-смысловой инаковостью относительно моей, я должен абстрагироваться от центрального для моего сознания, для мышления моей культуры способа работы с миром (в нашем случае — субстанциально-ориентированного), способа упорядочивания мира, приведения всего смыслового многообразия к какому-то единственному корню; я должен от этого абстрагироваться, редуцировав так воспринятое и упорядоченное содержание к его последнему основанию — к миру-событий, а дальше — выстроить другую картину мира-вещей, опираясь на другую логику смысла. И тогда найти другую культуру как другого себя.
Это значит, что я найду в ней то, что для меня не является вовсе закрытым, скорее лишь вытесненным на периферию. Смена логико-смыслового основания будет означать другую логику, другой способ работы с понятиями и так далее. На этом пути открывания собственной инаковости как другой культуры, на пути исследования логико-смысловой архитектоники культуры как архитектоники сознания я должен постоянно воздерживаться от того, чтобы следовать интуитивным подсказкам собственной культуры как (якобы) очевидным и бесспорным, ради того, чтобы выстроить целостную картину мироосмысления на другом логико-смысловом основании.
 |

|
385
Я попробую осмыслить то, чем занимаюсь я и ряд моих коллег, взглянув на это в более широком контексте — в контексте арабистических и исламоведческих исследований. Отсюда и название: я буду говорить о своей трактовке понятия «философское исламоведение». Это своего рода предварительный набросок типологии арабистики: я не претендую на окончательный или исчерпывающий характер той классификации арабистических исследований, которую хочу предложить. Это именно набросок, и я буду рад любым замечания или дополнениям.
Арабистические (и, шире, исламоведческие) исследования можно разделить на две большие группы. Они различаются по тому, как исследователь подходит к своему предмету.
К первому типу относятся конкретные исследования — то, что именуется case studies. Ко второму — попытки осмыслить предмет исследования в более широком контексте (попытки вписать его в более широкий контекст; такое вписывание — не обязательно обобщение). Ограничимся пока этим расплывчатым выражением; оно будет уточнено ниже.
Конкретные исследования, когда ученый занимается тем или иным мыслителем, тем или иным текстом, тем или иным периодом истории и т. п., не нуждаются в оправдании. Нет никакого сомнения в том, что такие исследования составляют базис арабистики и исламоведения. На сегодняшний день, я думаю, ими представлена бóльшая часть исследовательской литературы. И это правильно, поскольку белых пятен на карте исламоведения и арабистики слишком много, чтобы подобные исследования могли исчерпать себя. Замечательные результаты этого типа исследований говорят сами за себя — достаточно упомянуть фундаментальную «Энциклопедию ислама», ставшую титаническим достижением мирового (прежде всего, конечно же, западного) исламоведения.
Вместе с тем, наряду с естественностью таких узко-конкретных исследований, мы встречаем и определенное идейное их оправдание. Это связано в значительной мере с влиянием, а иногда и с господством постмодернистских идей на Западе, воспринимаемых за пределами философии подчас поверхностно, без присущей им
386
глубины. Мы часто слышим, что обобщения могут оказаться слишком поспешными и от них непременно следует воздерживаться, что не нужно вообще переходить ни к каким генерализациям. Ведь белых пятен в арабистике еще слишком много, а уже накопленный материал слишком разнообразен, чтобы позволить себе обоснованные обобщения. Например, можно услышать, что есть разные суфизмы, но вряд ли существует некий единый суфизм, так что едва ли оправдан разговор о «суфизме вообще». И так далее.
Таким образом, конкретные исследования, с одной стороны, составляют естественный базис арабистики. С другой, они бывают связаны с определенным взглядом на предмет и попыткой идейного обоснования не просто оправданности такого подхода, но исключительно его оправданности.
Конечно, такой взгляд вряд ли можно считать по праву обоснованным: говорить о разных суфизмах, к примеру, можно, только имея понятие суфизма вообще, иначе такой разговор превращается в простую уловку. Это довольно очевидно, но дело даже не в этом, а во внутренней логике узкоспециальных исследований, выражающей их совершенно определенную, естественную потребность.
Она заключается в том, что авторы таких исследований не могут не вписывать свой предмет в некий более широкий контекст. Пусть ученый занимается Ибн ‘Арабӣ, и только им. Но он не сможет избежать разговора о том, что Величайший шейх — один из представителей суфизма, а может быть, и самый выдающийся представитель суфийской мысли (или, как скажут другие, мыслитель, превративший живой мистицизм в сухой дискурс и подорвавший творческое развитие суфизма), а значит, будет вынужден делать какие-то общие выводы о суфизме.
Вот почему переход от узкоспециальных, конкретных исследований, то есть первого типа арабистических штудий, к исследованиям второго типа, вписывающим свой предмет в более широкий контекст, представляется совершенно оправданным, более того, неизбежным. В этом смысле исследования второго типа также не нуждаются в особом оправдании, поскольку служат естественным продолжением первого типа исследований.
Теперь пришло время уточнить наше расплывчатое выражение «вписать в более общий контекст». Как происходит такое «вписывание», какова его технология?
Сегодня в арабистике (и исламоведении, да и востоковедении в целом) доминируют два подхода, которые не просто связаны, но являются прямыми продолжениями соответствующих позиций в философии истории и в понимании путей развития человеческого общества, человеческой культуры. Я имею в виду традиционно-универсалистский подход, традиционное универсалистское прочтение, с одной стороны, и то, что называется цивилизационным подходом — с другой.
Традиционный универсалистский подход имеет солидную родословную: в европейской мысли он ведет отсчет своей истории по меньшей мере с периода классической греческой философии и отчетливо связан с платоновско-аристотелевским пониманием универсальности человеческой природы, коренящейся в универсальности разума. Что касается цивилизационного подхода, то, как правило, его ясное
387
возникновение связывают с именами Шпенглера, Тойнби и других, чьи построения объединяют общим названием «цивилизационный подход»11. Я кратко остановлюсь на основных характеристиках этих двух подходов, которые проявляются и в том, как арабисты и исламоведы подходят к предмету своего исследования.
Традиционный универсалистский подход исходит из существенного единства человечества и рассматривает культуры и цивилизации как формы единой линии развития, относя их различия за счет специфики. Специфика никогда не может соперничать с общим, которое обладает в отношении нее приоритетом; специфика, иначе говоря, вторична в отношении универсального, общечеловеческого. Эта позиция имеет очень серьезное, существенное философское обоснование, она фундирована опытом развития западной цивилизации, у нее есть масса практических применений и приложений. Но для меня сейчас важно не это; для меня важно рассмотреть те следствия, которые вытекают для арабиста или исламоведа, когда они занимают такую позицию в отношении предмета своего исследования.
Таких следствий два. Первое заключается в том, что инокультурный исследователь, в данном случае — западный или российский ученый, исследующий арабскую культуру, имеет приоритетный доступ к некой универсальной науке. Ведь универсалистский подход, само собой разумеется, предполагает универсальную науку, например лингвистику, если мы изучаем арабский язык, или поэтику, если исследуем исламскую поэзию, или историческую науку, если заняты изучением исламской истории, и так далее. А универсальная наука — это именно та, которая возникла и получила развитие на Западе. Исследователь, представляющий западную культуру, имеет приоритетный доступ именно к этой универсальной науке, которая и прилажена к своему предмету, постулируемому как универсальный.
Из этого вытекает, что, сколько бы мы ни критиковали европоцентризм или сколько бы мы его ни замалчивали из соображений политкорректности или еще какой угодно идеологии, именно в традиционно понятом универсализме кроется неустранимое гносеологическое основание того, что европоцентризм, изгнанный в дверь, все равно вернется в окно.
А второе следствие традиционно-универсалистской позиции заключается в следующем. Инокультурный исследователь — в данном случае представитель западной или российской науки, арабист или исламовед — имеет в своем распоряжении единственный язык, язык европейской науки. Очень часто об этом говорят так, как если бы это было решением проблемы, а не самой проблемой. Но ведь из этого неизбежно вытекает, что исследуемые феномены культуры, в данном случае арабо-мусульманской, должны подгоняться под категориальную сетку языка европейской науки.
388
За примерами далеко ходить не надо, любой может набрать их десятками. Возьмем один весьма характерный. С конца XIX в. и до настоящего времени в арабистических и исламоведческих исследованиях можно встретить известную триаду: теология, философия, мистицизм, — которая используется для классификации феноменов исламской культуры. Понятно, что эта триада взята из опыта западной культуры1. Она поэтому производит впечатление самоочевидности и самооправданности. Но достаточно задать несколько самых простых вопросов, чтобы эта иллюзия самооправданности развеялась как дым. Что такое «философия» в арабо-мусульманской культуре? Только фальсафа? А теоретические построения ранних (доашаритских) мутазилитов? Это уже «теология»? А как быть с мистической составляющей самого яркого (по оценке самой арабо-мусульманской культуры) представителя фальсафы — Ибн Сӣны? Это просто ошибка и аберрация, и Ибн Сӣна̄ — чистый философ-рационалист без грана уступок мистицизму, как не устает доказывать, например, Д. Гутас? А Ибн ‘Арабӣ — уж никак не «философ», его приходится квалифицировать как «теософа»?
Сбои этих попыток раскроить ткань арабо-мусульманской культуры по лекалу западной, список которых можно продолжать почти бесконечно, легко преодолевают тот порог, за которым их количество перерастает в качество и они уже попросту обессмысливают свой предмет. Но по-прежнему чуть ли не всякий, кто пишет о мутазилитах, квалифицирует их как теологов, а об Ибн ‘Арабӣ как о теософе говорит по меньшей мере каждый второй исследователь суфизма… В этой настойчивой приверженности неудачным классификационным сеткам надо видеть нечто большее, чем простой традиционализм: это — неустранимое следствие старого универсалистского подхода, в самой этой неустранимости парадоксальным образом находящее собственное оправдание.
Что касается цивилизационного подхода, то он исходит из содержательно выраженных отличительных черт отдельных цивилизаций, которые делают каждую из них уникальной и несводимой ни к какой другой. Цивилизационный подход существует в разных вариантах, но первичный, изначальный акцент
389
на содержательно оформленной целостности каждой цивилизации принципиален для него. С этой точки зрения «единое человечество» и «общечеловеческие Х» (где вместо Х могут стоять «ценности», «нормы», «закономерности» и т. д.) — пустая абстракция, которая не имеет никакого отношения к действительности.
В пределе эту уникальность противники цивилизационного подхода превращают в непроницаемость: с их точки зрения, цивилизации, будучи уникальными целостными образованиями, своего рода монадами, оказываются целиком инаковыми в отношении друг друга, якобы непостижимыми и не имеющими смысла друг для друга, поскольку «внутрь» герметичной целостности цивилизации невозможно попасть, оставаясь в пределах другой цивилизации (точно такой же герметичной, замкнутой на себя целостности). Понятно, что это — не более чем полемическое заострение и доведение до абсурда тезисов сторонников цивилизационного подхода, оснований которому нет в самой логике цивилизационно-ориентированных теорий.
Эти два подхода, традиционно-универсалистский и цивилизационный, противостоят друг другу и в общей философии истории, и в арабистике и исламоведении.
В качестве примера традиционно-универсалистского подхода упомяну книгу выдающейся А. Шиммель «Расшифровать знаки Бога», о которой У. Читтик сказал, что это ее главная книга. Как она построена? Автор основывается на общей религиоведческой схеме, предложенной Фридрихом Гейлером в его работе «Форма и сущность религии», и применяет ее как универсальную, следовательно, как априори приложимую к исламу11. Собственно, А. Шиммель так и пишет: «Модель, использованная Фридрихом Гейлером, показалась мне наиболее убедительной в моей попытке дать единый срез различных феноменов ислама» [Шиммель 1994: xiv]. Религиозный опыт здесь трактуется как постепенное продвижение от периферии к центру, как система концентрических кругов, где начальный опыт захватывает внешние, далекие от центра круги и постепенно, по мере своего созревания и углубления, приближается к центру. В таком углубляющемся движении к центру—Богу и состоит смысл «расшифровки знаков Бога».
Всякий знает, что книги А. Шиммель — это очень интересные книги. Но в общем и целом в них применен тот же подход: они построены таким образом, что идут от некой универсалистской схемы к иллюстрации. Получается, что априорная универсалистская схема имеет приоритет в отношении того материала, ради упорядочивания которого она привлечена, — во всяком случае, логический приоритет. Если логика движения — от общей, универсальной схемы к материалу, то естественно, что материал исламской культуры привлекается постольку, поскольку
390
он подходит для иллюстрации этой схемы, поскольку укладывается в нее. Не материал имеет приоритет в отношении схемы, а, напротив, общая логика схемы — приоритет в отношении материала; эта логика не извлекается из материала, а предпосылается ему как априорная, как схваченная в опыте западной культуры и затем наделенная универсальной значимостью. Неизбежным следствием этого оказывается тот факт, что необыкновенно богатый материал, которым виртуозно владеет А. Шиммель, предстает в ее книгах как очень пестрое полотно, где фрагменты, взятые из совершенно разных областей культуры, привлекаются как примеры для иллюстрации этой схемы.
Традиционный универсалистский подход в арабистике количественно преобладает, он комфортен для западного исследователя — но не может объяснить факт, из которого исходил О. Шпенглер, о котором говорили Л. Масиньон, С. Х. Наср и многие другие: внутреннее сродство разных сегментов культуры. Это пытается схватить цивилизационный подход, примеров которого гораздо меньше. (На Западе он последнее время часто пасует перед натиском антиориенталистской идеологии.)
Что касается цивилизационного подхода в отечественной арабистике, то здесь я бы в качестве примера назвал книгу А. А. Игнатенко «Зеркало ислама» [Игнатенко 2004]. Это очень интересное исследование — и по тому материалу, который в нем рассмотрен, и по выводам. Выводы позволяют квалифицировать эту книгу как типичный образец цивилизационного подхода, поскольку в ней даются характеристики западной и арабо-мусульманской культур как неких содержательно-выстроенных целостностей. С точки зрения А. А. Игнатенко, европейская культура — это культура дискурсивно-имагинативного типа: она идет от дискурса, от речи, от теории — к воображению. Двигаясь от теоретического осмысления к воображению, то есть к созданию образов, эта культура оказывается про-спективной: она прокидывает себя вперед, она обращена в будущее, она создает его образ, исходя из теории, а затем строит его, воплощает проективный образ в действительность. А арабо-мусульманскую культуру он характеризует, наоборот, как имагинативно-дискурсивный тип: эта культура идет от воображения к его теоретическому осмыслению в дискурсе; она превращает действительность в образ, в литературный сюжет и далее живет в этой сфере образности, а не в реальной действительности. Таким образом, арабо-мусульманская культура предстает как зеркальная противоположность западной. Интересно в свете этого вернуться к названию книги: ведь получается, что она дает отражение ислама в зеркале западной культуры, поскольку строит образ изучаемой культуры как зеркальное отражение собственной.
Таковы два подхода, которые характерны сегодня для большинства работ в области арабистики и исламоведения, когда исследователь пытается осмыслить свой предмет в более широком контексте.
Но есть и третий подход, который мы развиваем вместе с моими коллегами и который называем логико-смысловым. Это подход, который предлагает новое прочтение универсализма, свободное от ошибок и ограничений как традиционно-универсалистского, так и цивилизационного подхода. Он имеет свою, достаточно
391
подробно разработанную и методику исследования, и аппарат, и примеры применения. При желании со всем этим можно подробно познакомиться; однако, если говорить кратко, то его суть состоит в следующем.
Логико-смысловой подход определяет культуру как способ смыслополагания. Культура рассматривается здесь как смыслофиксирующий феномен, как осмысленность. Иначе говоря, мы подходим к культуре, задавая вопрос: «Что это значит? каков смысл этого? как этот смысл сделан? по какой методике он изготовлен?» Это, если угодно, попытка увидеть технологию осмысления, вскрыть те механизмы, которые отвечают за создание осмысленности. Мы пытаемся ответить на вопрос: каковы механизмы, благодаря которым смысл вкладывается в текст и изымается из него? Под текстом понимается, конечно, не только вербальный текст, но любой смыслофиксирующий феномен культуры, включая искусство. Существуют такие механизмы или нет? Это первый вопрос. И если они существуют, то как их схватить, как их описать? Одинаковы они или различаются в разных культурах? Таков второй принципиальный вопрос, который решает логико-смысловое исследование.
Попробую кратко изложить суть логико-смыслового подхода. Если культура — это способ смыслополагания, то «тело» культуры (то, что «наработано» культурой) может быть рассмотрено как осмысленность. Осмысленность понимается как целостность, раскрывающая и фиксирующая себя в определенных «застывших» феноменах11. Способов, или «механизмов» раскрытия целостности два: противоположение-и-объединение и соотнесение целого-и-части. Одинаковые в этой формулировке, номинально, они различаются, когда мы отвечаем на вопрос, как именно они работают, как именно осуществляются. Оказывается, что в арабской мысли эти механизмы действуют иначе, чем в западной: то же выполнено иначе. Отсюда формула логико-смыслового подхода то же иначе, проблематизирующая как тожесть, так и инаковость.
И традиционно-универсалистский, и цивилизационный подходы имеют неизбывные ограничения и недостатки, преодолеваемые логико-смысловым подходом, или новым универсализмом.
Традиционно-универсалистский и цивилизационный подходы всегда могут проинтерпретировать отдельные факты, отдельные моменты в изучаемой культуре (возможность такой интерпретации очевидна и теоретически, и практически). Но есть и лакмусовая бумажка: возможность сплошной интерпретации.
Традиционно-универсалистский подход (что хорошо видно на примере упомянутой А. Шиммель, но также и других его приверженцев) всегда предлагает выборочную интерпретацию, либо не оправдывая ее, как если бы она была самоочевидна, либо давая эпистемологические обоснования (интервальная концепция истины; асимптотическое приближение к объекту; язык как конструкт, накладываемый
392
на объект, и т. п.). Проблема с такого рода обоснованиями в том, что мы должны уже владеть объектом для того, чтобы применить ради его познания подобные теории (как иначе мы определим интервал, как узнаем, что приближаемся к объекту, а не удаляемся от него, и т. д.): телега здесь прочно поставлена впереди лошади. То же касается и цивилизационного подхода: как правило, найденная характерная особенность культуры, определяющая ее «особое лицо», не может объяснить существенные черты других ее сегментов. У А. А. Игнатенко, например, остается непонятным, как найденную (и претендующую на фундаментальность) характеристику применить за пределами того материала, на котором построена книга; как «имагинативно-дискурсивный характер» арабо-мусульманской культуры объясняет, к примеру, особенности исламского права, вероучения, искусства и т. д.?
В отличие от этого, логико-смысловой подход настаивает на возможности, более того, необходимости сплошной, а не выборочной, интерпретации культуры, поскольку всегда идет от ее материала и логики. Вот почему здесь так важен критерий больших отрезков текстов культуры, которые интерпретируются.
Итак, логико-смысловой подход — это не цивилизационный подход и не традиционно-универсалистский подход.
Те, кто практикуют цивилизационный подход, всегда берут нечто содержательно-определённое для того, чтобы охарактеризовать культуру или цивилизацию, и делают такую характеристику отличительным свойством культуры. Когда Н. Я. Данилевский в своем труде «Россия и Европа» говорил о том, чтó создает особое лицо культуры древних греков, он указывал на изобразительное искусство, в котором они достигли высот, которых не достиг и уже не достигнет никто; для других культур их особое лицо зафиксировано как другое, но также содержательно-фиксированное, максимальное достижение человеческого духа. Именно эта черта теории Данилевского была фактически развита и положена в основу мыслителями, создавшими цивилизационные теории, хотя взгляды Данилевского не сводятся к этой черте и по сути не могут быть квалифицированы как цивилизационный подход11. Для О. Шпенглера такое содержательно-выраженное лицо культуры схватывается понятием «морфология культуры». Но в любом случае, о чем бы мы ни говорили, какой бы пример цивилизационного подхода ни взяли, это всегда будет содержательно зафиксированные характеристики культуры.
В отличие от этого, логико-смысловой подход говорит о принципе построения содержания, но никогда не о самом содержании как об определяющем культуру. Его поэтому нельзя рассматривать как теорию эссенциалистского типа или как теорию, реифицирующую культурные различия. Конкретный тип смыслополагания,
393
который определяет лицо культуры, — это не конкретная форма, не конкретное содержание, вообще не то, что могло бы пониматься как сущность, как вещь. Это — способ создания, порождения содержания, но не само содержание. В контексте логико-смыслового подхода речь в принципе не может идти о какой-либо фиксированной, «примордиальной» (как любят сейчас говорить) сущности культуры, понятой как пред-заданная и навсегда-заданная, вечно существующая и потому сковывающая культуру и ее носителя.
Поскольку логико-смысловой подход говорит о принципе («механизме») создания содержания, но не о самом содержании, он неуязвим для критики, обычно направляемой в адрес цивилизационного подхода, суть которой хорошо схватывается вопросом: меняясь и сбрасывая свои формы, остается ли культура сама собой или она обречена, цепляясь за свою самость, навсегда остаться в прошлом, фиксируя саму себя как некогда осуществленную уникальную целостную форму? Цивилизационный подход, привязанный к конкретному содержанию (а не к способу продуцирования содержания), обречен на то, чтобы смотреть всегда назад, в прошлое, и выталкивать культуру туда, поскольку именно там располагается схватываемая им сущность культуры. Можно сказать, что цивилизационный подход хорошо улавливает статику культуры, но не ее динамику.
В отличие от этого, логико-смысловой подход одинаково успешно справляется и с тем и с другим, поскольку, с одной стороны, дает ясный ответ на вопрос: «Где тот предел, за которым культура перестает быть самой собой?» (это границы того конкретного варианта, или типа, смыслополагания, который конституирует культуру), а с другой — никогда не ограничивает себя конкретным содержательно-зафиксированным временным срезом культуры (любой такой срез возводится к продуцирующим его механизмам смыслополагания, но не наоборот).
В чем отличие логико-смыслового подхода от традиционного универсалистского?
С точки зрения логико-смыслового подхода культуры различаются как различные типы смыслополагания, то есть как различные реализации одних и тех же механизмов, которые делают смысл. (Замечу, что механизмы смыслополагания, о которых было сказано выше, отражены в их конкретной реализации в арабской культуре в фундаментальной для арабского теоретического дискурса терминологии: это пара з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое», фиксирующая определенный тип противополагания, и пара ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь», фиксирующая определенное понимание соотношения части и целого.) Эти разные типы формирования смысла присутствуют в сознании любого человека.
Это — принципиальное для логико-смыслового подхода положение, которое фиксирует его понимание универсальности. Универсальность заключена не только в номинальной общности механизмов смыслополагания (противоположение-и-объединение и целое-часть), — ведь любая конкретная реализация этих механизмов выводит нас в план вариативности, а не общности и совпадения. Универсальность заключена также и в том, что конкретные реализации этих механизмов (как таковые
394
не просто различные, но несовместимые и несводимые друг к другу) присутствуют в сознании любого человека.
Но если мы говорим о культуре как целостности, то на первый план выходит тот или иной, определенный тип смыслополагания, тогда как остальные вытесняются на периферию, хотя и не исчезают совсем. Но при этом все они как чистые типы могут быть обнаружены во внутреннем опыте любого человека.
Вот почему логико-смысловой подход вовсе не отрицает универсализм как таковой; он отрицает его ограниченность определенной формой (о чем скажу чуть позже). Речь здесь никак не идет о том, что культуры — это некие закрытые, непроницаемые друг для друга образования; речь идет о том, что они дают преимущественное развитие тому или иному типу смыслополагания, любой из которых все мы можем обнаружить в своем внутреннем опыте.
Таким образом, разные типы смыслополагания обнаруживаются как архитектоника человеческого сознания, как то, что присутствует в голове любого человека. Культуры различаются тем, что те или иные типы смыслополагания выходят на первый план; но от этого другие не исчезают. Значит, мы несем в себе, в своем сознании «в зародыше» любую культуру; она не чужда нам. Чуждость и инаковость надо различать. Чужое, если показана его инаковость, перестает быть чуждым, но становится тем же — иначе.
Значит, логико-смысловой подход не является антиуниверсалистским; это универсализм другого типа, нежели традиционный. Это — расширение универсализма за счет снятия ограниченности классического универсализма определенной его формой — универсализмом рациональности, рассматриваемой как главная конституирующая характеристика человека и взятая к тому же в только одном, фиксированном варианте своего осуществления. Универсалистская позиция в рамках логико-смыслового подхода строится сложнее, чем традиционный универсализм, который берет один из типов смыслополагания с присущей именно ему рациональностью — и объявляет его «общечеловеческим». В рамках логико-смыслового подхода речь идет об универсализме не конкретно-понимаемого разума, а об универсализме смыслополагания как человеческой способности.
Термин «инаковость» употребляется здесь как абстракция от одной из двух, равно необходимых, частей формулы то же иначе: смена логико-смыслового базиса позволяет делать целиком иначе, но то же самое, что делает другая культура на своем логико-смысловом базисе. Поэтому инаковость в пространстве логико-смыслового подхода — совсем не то же самое, что «инаковость» в пространстве дискурса, попадающего под антиориенталистскую критику.
Еще одно отличие логико-смыслового подхода от традиционного-универсалистского и цивилизационного заключается в том, что оба этих подхода являются генерализациями, хотя и выполнены с разных позиций; логико-смысловой подход не является генерализацией ни в каком смысле.
Провести логико-смысловое исследование — значит понять, какой механизм смыслополагания релевантен для данной культуры, а затем показать, каким образом
395
смыслофиксирующие конструкции в ней могут быть проинтерпретированы как результат действия таких механизмов.
Этим снимаются возражения против генерализаций, которые выдвинуты и в рамках конкретных исследований. Более того, конкретное исследование только выигрывает, если учитывает действие механизмов смыслополагания в данной культуре, поскольку это не накладывает никаких «генерализирующих» обязательств.
Далее, логико-смысловой подход — это самостоятельная позиция, которая не подпадает под критику традиционного универсализма в адрес цивилизационного подхода или критику с позиций антиориенталистской идеологии.
Возражение универсалистов традиционного толка против цивилизационного подхода неприменимо к логико-смысловому: прозрачность механизмов смыслогенерации не позволяет говорить ни о какой «герметичности» культуры. Напротив, то, что предстает герметичным при традиционном содержательно-ориентированном цивилизационном подходе (к примеру, у А. А. Игнатенко: как нам постичь зеркально-противоположную ориентацию арабской культуры?), в пространстве логико-смыслового подхода оказывается открываемым в собственном внутреннем опыте, а значит, своим, ясным и понятным как механизм.
Антиориенталистская критика также неприменима к логико-смысловому подходу, причем по двум причинам. Во-первых, как уже говорилось, в логико-смысловой перспективе речь не идет и в принципе не может идти ни о каком эссенциализме или реификации культурных различий. Во-вторых, тожесть культур здесь не менее значима, чем их инаковость (я имею в виду неразъемность двух составляющих формулы то же иначе): логико-смысловой подход позволяет показать необходимую связь этих двух сторон, считавшихся ранее взаимоисключающими.
В своей традиционной интерпретации универсалистский подход, как это ни парадоксально, в конечном счете оказывается замаскированным цивилизационным: он берет нечто конкретное, характерное именно для западной культуры, — и возводит это в ранг универсального, общечеловеческого. В свою очередь, цивилизационный подход оказывается в конечном счете замаскированным универсалистским: он строит образ чужой культуры всегда из материала собственной и всегда как некое отображение собственной (в самом простом случае — как зеркальное отображение). Следовательно, и содержательно, и логически цивилизационный подход не выходит за рамки собственной культуры исследователя, даже если по видимости говорит о несводимых различиях и непостижимости других культур.
Таким образом, и традиционно-универсалистский, и цивилизационный подходы не делают того, что обещают: они не показывают на самом деле ни подлинной универсальности, ни подлинной самости культуры.
Обеих этих целей достигает логико-смысловой подход.
С одной стороны, культура здесь показана как целостность, исключающая герметичность, как самостоятельное, имеющее собственное «я» образование. В этой метафоре есть смысл: целостность человека ведь также предстает как целостность
396
его личности, т. е. его Я, сохраняющегося, несмотря на пестроту феноменальных «я» (распад Я равносилен душевной болезни). Целостность — это не герметичная замкнутость, а системность. Человек — целостен, и это верно и для человека как родового существа, и для любого индивидуального человека; но это не значит, что человек герметичен. Напротив, он всегда открыт и в отношении окружающего, и в отношении будущего (проективен). И тем не менее целостен: меняясь едва ли не целиком (если брать отдельные составляющие) с момента рождения до смерти, человек сохраняет свою целостность в том смысле, что остается собой, сохраняет свое Я. Не какие-то конкретные свои черты, а именно Я, — и даже если Я проявляется в каких-то конкретных, содержательно выраженных чертах, все же целостность человека зависит именно от Я, но не от этих конкретных содержательных моментов. Так и культура: у нее также есть свое «я», и она остается собой, пока не утеряет его. Не какое-то конкретное содержание — пусть «я» культуры и проявляется или проявлялось в нем; и все же «я» культуры — не это конкретное содержание, а тот определенный вариант, или тип смыслополагания, который создает и это, и любое другое содержательное наполнение данной культуры. Логико-смысловой подход и принцип то же иначе дают возможность ввести понятие «цивилизационное равенство», понимаемое как равенство несводимых «я» культур, исключающее подгонку под любой конкретный шаблон, объявляемый общечеловеческим.
С другой стороны, логико-смысловой подход дает возможность понять универсальность не как общечеловеческое (что на поверку оказывается конкретно-цивилизационным), а как всечеловеческое. Всечеловеческое не исключает никакой конкретный логико-смысловой тип культуры, а, напротив, включает его как одну из возможных реализаций смыслополагания. И в то же время ни один конкретный логико-смысловой тип культуры не имеет приоритета перед другим: все они, вырастая из одного и того же основания (механизмы смыслополагания), являются равноправными, но различными и несводимыми его реализациями. Из этого вытекает безусловная ценность любого логико-смыслового типа культуры — а вовсе не только того, который возведен в ранг общечеловеческого.
В завершение есть смысл вернуться к началу — к тому вопросу, который вынесен в заглавие этой статьи. Философское исламоведение — это самостоятельная область исследований, складывающаяся уже давно и нуждающаяся в том, чтобы обрести свое ясное лицо, дабы не раствориться на общем фоне Islamic studies. Здесь я изложил свое видение повестки дня философского исламоведения и предложил обоснование того, почему это направление является сегодня плодотворным и на какую методологию оно может опереться.
 |
6.6 Общечеловеческое и всечеловеческое, или чему сегодня нас может научить Н. Я. Данилевский* |

|
397
Случается, что наблюдения ученого, философа, мыслителя оказываются востребованными спустя много лет. Случается и так, что мысли, востребованные самим ходом современных дискуссий, не вовлекаются в обсуждение. Именно такой оказалась сегодня судьба Николая Яковлевича Данилевского (1822—1885). Родившийся почти два века назад, он как нельзя более современен, — но не отдельными проблесками идей, которые могут быть интерпретированы в угоду нынешней интеллектуальной моде. Данилевский современен своей целостной концепцией, всем ходом рассуждений. Им сформулированы положения, которые с тех пор мало продумывались и остались в тени.
О Данилевском говорят мало и упоминают его почти исключительно в связи с идеей создания панславянской цивилизации. Во взглядах любого серьезного мыслителя есть существенное и есть преходящее. Существенное связано с общетеоретическими положениями, преходящее — с меняющимися особенностями исторической ситуации. Это разные вещи, и если панславянский проект никто сегодня не станет обсуждать всерьез, то совсем другого отношения требуют теоретические взгляды Данилевского.
Они предлагают сегодня, по моему глубокому убеждению, нестандартный и очень перспективный ответ на вопрос о том, какой могла бы быть альтернатива осуществляющемуся сценарию глобализации. Альтернатива не глобализации как таковой, — и это крайне существенно,— а именно тому ее варианту, который сегодня многим (говоря по правде, чуть ли не всем) представляется единственно возможным и прямо-таки неизбежным, вызванным самим «ходом истории». Двигаясь в направлении, предложенном Данилевским, мы обнаруживаем совершенно новую перспективу, где нас ждут неожиданные открытия и свежие решения.
Одной из главных проблем нашего времени является поиск ответа на вопрос: как соотносится идея глобализации и реальный процесс глобализации, с одной стороны, и, с другой стороны, идея национальной культуры и реальные национальные культуры, существующие в разных странах?
Господствующую в настоящее время парадигму осмысления глобального и национального можно представить следующим образом.
398
Глобальное и национальное соотносятся как универсальное и партикулярное. Такой подход предполагает, что имеются общечеловеческие ценности и идеалы, общечеловеческая культура, которая выражает сущность человека и человеческого общества. Именно в силу этого она является общечеловеческой, общей для всех. Наряду с этим мы можем говорить о национальной специфике, т. е. о партикулярном. Эта специфика дополняет общечеловеческое, но никогда не отменяет и не противоречит ему.
Осмысление процесса глобализации, как правило, предлагают строить в этой парадигме. Процессы глобализации ведут к построению общечеловеческой глобальной культуры, где общие для всех принципы будут сочетаться с национальной спецификой. Образно говоря, все мы будем пользоваться одинаковыми банковскими системами и компьютерами, у нас будет общий для всех интернет, но в застолье каждый будет петь свои национальные песни и по праздникам надевать свой национальный костюм. Именно в этом и будет заключаться демократическое равенство всего человечества.
Н. Я. Данилевский предлагает альтернативную парадигму осмысления этой проблемы. Его главное сочинение, «Россия и Европа», было впервые опубликовано отдельной книгой в 1871 г. Попытаемся понять, что составляет логический стержень рассуждений автора этой книги.
Начнем с идеи прогресса. Во времена Данилевского она была не менее значительной, не менее популярной и не менее влиятельной, чем сейчас. Даже более влиятельной, поскольку очевидность необходимости прогресса еще не была поставлена под сомнение критикой постмодерна.
Однако что такое тот «прогресс», к которому все призывают и от которого как будто нельзя отказаться? Данилевский указывает, что под прогрессом обычно понимают «общечеловеческий» прогресс, то есть такой, который представляет собой единую линию развития для всего человечества. От некоего примитивного, исходного состояния линия прогресса уходит в будущее, туда, куда наш взгляд, вообще говоря, не способен проникнуть. Пусть в разных социальных и политических теориях предложены разные представления о конечной точке этого прогресса, главным остается сама идея единой линии от начала, от некой исходной точки — вперед в бесконечность. (Небезосновательно наблюдение тех, кто утверждает, что такая трактовка прогресса имеет своим базисом понимание истории, выработанное в авраамических религиях.) При этом предполагается, что именно на Западе впервые в истории были достигнуты те формы прогрессивной организации общественной жизни, которые являются универсальными, а потому все человечество должно к этим формам постепенно подключиться.
Данилевский предлагает посмотреть на подлинную историю человеческого общества и задать вопрос: наблюдался ли на деле когда-нибудь такой прогресс; действительно ли одни народы усваивают достижения других и добавляют к ним нечто свое? И отвечает отрицательно: нет, такого кумулятивного прогресса никогда не было. Если взять греческую цивилизацию, мы увидим, что в определенный
399
момент своей истории она достигла пика развития, реализовав высшие достижения художественной культуры, но не пошла дальше. Римляне, наследовавшие в определенном смысле грекам, развили другие стороны человеческой деятельности: политическую организацию и право, — но не превзошли их в области искусства и наук. Достигнув пика, римская цивилизация также остановилась в своем развитии. Сравните с этим, говорит Данилевский, развитие китайской культуры. Китай, который не был в контакте с Европой, во многих областях технического и научного развития обогнал ее. Это изобретение пороха, бумаги, письма. Это мануфактуры, которые в его время во многом превосходили европейское производство. И так далее.
Разбирая конкретные примеры, Данилевский указывает на следующее. Каждая культура имеет собственную историю развития. Она зарождается, в течение длительного времени накапливает силы, — а затем переживает период бурного развития, когда строится цивилизация. Это цивилизационное развитие требует от нации такого напряжения, что исчерпывает ее силы. После этого, как считает Данилевский, культура останавливается в своем развитии.
Эти идеи Данилевского в дальнейшем были использованы многими, кто развивал цивилизационный подход. Главное здесь то, что каждая культура рассматривается как самостоятельный, в определенном смысле самодостаточный организм.
Данилевский не был ни славянофилом, ни западником. Верно, что многие страницы его книги заполнены критикой в адрес Запада и западников. Более того, основной болезнью русской интеллигенции он считает «европейничанье». Под этим словом Данилевский понимает бездумное и механическое усвоение любых достижений западной культуры, за которым следует вывод о том, что только и исключительно Запад является источником всего хорошего, всего «прогрессивного», а потому любая культура только тогда чего-нибудь стоит, когда уподобляет себя Западу.
Однако означает ли эта критика в адрес западников, что Данилевский был славянофилом? Вовсе нет. С его точки зрения, славянофильство является таким же заблуждением, каким является западничество.
Почему? Дело в том, что славянофильство основано на той же идее общечеловеческого единого прогресса, из которой исходят и западники. Разница лишь в том, что, с точки зрения славянофилов, этот прогресс находит свое воплощение в культуре, которую строят славяне. Но именно идею общечеловеческого единого прогресса отвергает Данилевский, и именно поэтому он не был ни славянофилом, ни западником.
Означает ли это, что Данилевский вовсе не признает действие законов истории? Ведь именно к понятию закона истории часто апеллируют те, кто стремится обосновать идею «общечеловеческого прогресса».
Данилевский признает наличие законов истории, и ниже я буду говорить об этом. Однако это не означает предопределенности исторического процесса ни в каком смысле. Такие законы предопределяют лишь процесс рождения результатов свободной деятельности субъектов исторического процесса, однако они не предопределяют саму свободную деятельность этих субъектов.
400
Это — еще одна очень важная мысль Данилевского. Ее можно сформулировать так: законы истории не предопределяют ее ход, однако их знание помогает нам понять, что случится в результате свободной деятельности субъектов истории. Возьмем для примера законы Ньютона, которые описывают движение твердых тел, например бильярдных шаров или мячей. Это абсолютные законы, из которых нет исключений. Когда играют в бильярд, гольф или футбол, они во всех деталях определяют движение шаров или мячей после каждого удара. Однако эти физические законы ничего не говорят о том, кто выйдет победителем в состязании.
Но дело даже не только в этом. Физические законы никогда не могут предопределить, будет ли матч интересен и важен для нас. Футболисты могут играть более или менее искусно, но это различие никак не вытекает из физических законов, управляющих полетом мяча.
То же самое и в истории человечества. Верно, что там действуют одни и те же законы истории. Однако свободное творчество субъектов истории никак не предопределено ими.
И главное. Если какой-то из субъектов человеческой истории оказывается способен к тому, чтобы в максимальной степени развить, довести до полного совершенства ту или иную сторону человеческого духа, то другие субъекты истории не в силах превзойти такой результат: он остается абсолютным достижением, чем-то, что достигнуто этим, и только этим субъектом человеческой истории.
Субъектами истории человечества, согласно Данилевскому, являются «культурно-исторические типы», то есть народы, которые создают крупные культурные образования, достигающие уровня цивилизации. Если какой-то из субъектов истории не реализует полностью данные ему возможности, от этого потеряет все человечество. Ведь в силу неповторимости творческих потенциалов культур никакая другая культура, то есть никакой другой субъект истории человечества не способен сделать то, на что была способна и чего не сделала данная культура.
Каждая человеческая культура должна внести свой вклад в складывание всечеловеческой цивилизации. «Всечеловеческая» цивилизация — совсем не то же самое, что «общечеловеческая». Всечеловеческая цивилизация суммирует уникальные достижения всех культур, а не нивелирует каждую из них до уровня абстрактного общего, которое на самом деле выражает сущность только одной культуры — европейской. Во всечеловеческой цивилизации абсолютные достижения культур являются таковыми и обладают ценностью сами по себе, а вовсе не потому, что перенимаются другими и ложатся в «общечеловеческую копилку».
Различение всечеловеческого и общечеловеческого — безусловная заслуга Данилевского.
Всечеловечность никак не равна ни просто отзывчивости, ни восприимчивости к чужому, ни тем более терпимости (модно переименованной ныне в «толерантность», — как тут не вспомнить «европейничанье» по Данилевскому?) или, наконец, политкорректности (разговоры о которой начинают понемногу уходить в прошлое).
401
Все это ориентирует нас на общечеловеческое, но никак не на всечеловеческое. Разница видна из сказанного Данилевским: всечеловечность — это способность оправдать явление (найти его правду, оправданность и осмысленность), вписав его в целостность абсолютного и найдя его абсолютное место там. Прочие подходы, не исключая и разговор об «общечеловеческом», оправдывают явление лишь в пределах моего универсума (неважно, моего личного или универсума моей культуры). Различие центрированности здесь очевидно: полицентричность всечеловеческого неизмеримо богаче моноцентричности общечеловеческого.
К сожалению, этой разницы не заметил наш выдающийся современник:
То, что Достоевский приписывал в своей знаменитой речи на Пушкинских торжествах только русскому человеку, — «всечеловечность», восприимчивость к чужим культурам, на самом деле является общей основой всей европейской культуры в целом. Европеец способен изучать, включать в свою орбиту все культурные явления, все «камни», все могилы. Все они «родные». Он воспринимает все ценное не только умом, но и сердцем [Лихачев 2006: 194].
В том-то и дело, что «воспринимать» (конечно же, «ценное» именно для себя) и «включать в свою орбиту» значит задавать горизонт общечеловеческого, но никак не всечеловеческого.
Итак, каждый культурно-исторический тип предназначен к тому, чтобы развить свою уникальную, неповторимую цивилизацию. Но только от самого народа, который строит такую цивилизацию, от его свободного творчества зависит, случится это или нет.
Такова еще одна фундаментальная идея в системе взглядов Данилевского: свободное творчество субъектов истории человечества, то есть народов, строящих свою цивилизацию, и неповторимость такого творчества.
Среди прочего это означает, что созданная в результате свободного творчества каждого культурно-исторического типа цивилизация имеет абсолютное, неотменяемое значение. Оно вытекает из того, что цивилизации не сводимы одна к другой (и потому не сводимы к «общечеловеческому»). И, с точки зрения Данилевского, прогресс человечества состоит вовсе не в движении наперегонки вдоль одной линии, то есть не в строительстве одной-единственной цивилизации. Прогресс человечества в том, чтобы каждый из народов—субъектов истории построил свою, несводимую к другим, цивилизацию. Под «несводимой к другим» Данилевский понимает цивилизацию, реализующую те стороны человеческого духа, довести которые до максимального развития способен именно этот, и никакой другой народ.
Сделаю небольшое отступление. С моей точки зрения, всечеловечность может интерпретироваться не как некая аморфная «отзывчивость», но как готовность перешагнуть границы смысловой логики своей культуры и увидеть оправданность логик других культур. Именно в этой точке видна принципиальная разница между правдой, оправданностью — и истиной. Истина задается в рамках одной, и только одной логики смысла, тогда как правда и оправданность находит место для разных
402
(несовместимых как таковые — каждая со своей истиной) логик смысла. С этой точки зрения категории «правда» и «оправданность» стоят уровнем выше, чем категория истины, снимая несовместимость и взаимную инаковость разных логико-смысловых перспектив, и прежде всего — задаваемых ими критериев истины. Правда и оправданность — это возможность применить принцип то же иначе, чтобы увидеть осмысленность каждой из таких взаимоисключающих — пока мы говорим об истине — перспектив.
Осуществить всечеловеческое — значит не свести все многообразие культур к единственному логико-смысловому варианту, выкорчевав все прочие под лозунгом «единства общечеловеческого», а найти оправданность каждого как его осмысленность — как его право на свое логико-смысловое основание, на свою логику смысла, позволяющую развернуть культуру так, как это не может сделать другая культура, стоящая на другом логико-смысловом основании. Мы не умеем пока понимать другие культуры, видя их оправданность. Такой путь и был бы работающей альтернативой действующему сценарию глобализации, столь же беспощадному, сколь и эффективному в деле пострижения всего человечества под одну логико-смысловую гребенку.
Итак, каждый народ, если он к этому способен, строит собственную, имеющую абсолютное значение цивилизацию. Означает ли это, что народы и культуры изолированы, что они никак не влияют друг на друга? Ответив на этот вопрос положительно, мы получим вариант культурного солипсизма: нам придется рассматривать каждую культуру как монаду, закрытую от других культур и не сообщающуюся с ними. С точки зрения Данилевского, это не так: культуры общаются и влияют друг на друга.
Имеются три типа взаимодействия культур.
Первый — «колонизация». Под этим понимается распространение культуры путем образования колоний, своеобразное клонирование культуры. Путем колонизации распространялась древнегреческая культура, так шло распространение культур и в последующие времена в человеческой истории. В принципе нет ничего невозможного в том, чтобы одна культура распространилась таким образом по всему земному шару и образовала бы одну, глобальную культуру. Единственным препятствием к этому, иронично замечает Данилевский, служат другие народы. Чтобы такая колонизация действительно произошла, им следует просто уйти с исторической арены, уступив свое место более успешным игрокам.
Другая, более сложная форма взаимодействия — «прививка». Привив, к примеру, грушу к дикой яблоне, мы получим от той плоды груши. Однако они будут расти лишь на одной ветке дерева, ибо прививка не меняет само дерево. Оно остается прежним — яблоней. Плоды привитой груши питаются соками яблони, но ничего не дают самой яблоне.
Такая прививка чужой, более развитой культуры, обычно дает свои плоды. Это очень вкусные плоды, но они не меняют материнское тело культуры. С моей точки зрения, стоит прислушаться к этому предостережению Данилевского. Питаясь
403
спелыми и сочными плодами с привитой ветки, не следует забывать о материнском дереве культуры. Необходимо понимать, что такие плоды высасывают соки тела материнской культуры, не давая тому естественно развиваться.
Таковы первые два типа взаимодействия — колонизация и прививка. Можно сказать, что они проходят со знаком «минус» для воспринимающей культуры. Но есть, согласно Данилевскому, еще и третий тип взаимодействия, и он проходит для воспринимающей культуры со знаком «плюс».
Это — такое восприятие, когда дерево культуры питается соками, получаемыми из почвы и идущими на пользу всему дереву. В таком случае достижения чужой культуры превращаются в «удобрения», которые перерабатываются почвой и впитываются всем деревом. Только при таком взаимодействии культура способна реализовать те внутренние потенции, что в ней заложены, и выстроить свою собственную цивилизацию.
Как различить второй и третий типы взаимодействия? Как определить, что происходит сегодня в наших национальных культурах? Получаем ли мы прививку западной культуры, или же достижения западной цивилизации становятся почвой и питательной средой для выращивания нашей собственной культуры? Или, может быть, где-то не происходит ни того, ни другого, а имеет место лишь колонизация — первый тип взаимодействия?
Таковы вопросы, которые мы слышим из прошлого. Они были заданы русским мыслителем полтора века назад, однако звучат сегодня более чем актуально. И отвечать на эти вопросы предстоит нам, реализуя именно тот творческий потенциал наших культур, о котором говорил Н. Я. Данилевский. Если, конечно, мы не согласны просто уйти с исторической сцены и освободить место более успешной, более напористой и беспощадной культуре.
404
 |

|
 |

|
407
Словосочетание «диалог культур», которое еще три-четыре десятилетия назад было необычным, сегодня превратилось в штамп. О диалоге культур говорят, как если бы его принципиальная возможность была несомненной и все дело заключалось в том, чтобы устранить разного рода досадные препятствия, в основном субъективного плана (нежелание сторон вступить в диалог и вести его конструктивно), на пути его осуществления.
Задача этого рассуждения — проблематизировать данное понятие и очертить подход к разрешению задач в этой области. Нумерация отдельных шагов рассуждения позволять более объемно представить его ход и логику.
1. «Диалог культур» как понятие предполагает наличие культур и их различие. Эта констатация была бы тривиальной, если бы не был так труден ответ на два вопроса: 1) что такое культура? 2) как различаются культуры?
Если трудность ответа на первый вопрос очевидна, то не так обстоит дело со вторым из них. Обычно решение полагают само собой разумеющимся: культуры различаются в силу содержательных расхождений. Сравнивая две культуры по линии тех или иных элементов, структур или подструктур, мы указываем на различия содержательного плана между ними.
Мне представляется, что такое решение недостаточно. Поэтому именно второй вопрос вынесен мною в заглавие.
Однако дело в том, что найти удовлетворительный ответ на второй вопрос («как различаются культуры?») можно, только ответив на первый из них («что такое культура?»).
2. Нет двух похожих культур, как нет двух похожих людей. Но само это утверждение означает, что культуры принципиально схожи, иначе не было бы смысла их различать: мы же не говорим, к примеру, что люди и камни различны (такое утверждение истинно, но имеет мало смысла).
Коротко говоря, различие культур предполагает их существенное совпадение как культур. Нам не обойтись без того, чтобы обратиться к вопросу, что такое культура «как таковая».
3. Можно говорить о двух стратегиях выстраивания ответа на этот вопрос. Обозначим их как универсалистскую и партикуляристскую.
408
С одной стороны, культура — это попросту всё в том мире, который создает и в котором живет человек. Поэтому культуру трактуют как совокупность результатов материального и духовного производства.
Вместе с тем культуру понимают как только часть целостности, составляющей человеческий социум. Такое понимание связано с аксиологически нагруженным противопоставлением культурного-бескультурного (или высоко- и низкокультурного) внутри социума или между социумами.
Таким образом, любое явление в человеческом социуме принадлежит культуре (в том смысле, что оно «затронуто» культурой, культурно обусловлено) — и вместе с тем мы не можем всё в человеческом мире отождествить с культурой.
4. Интересным представляется решение этой проблемы, которое разрабатывает акад. В. С. Стёпин. Он предлагает считать культуру своеобразным «генетическим кодом» социального организма. Эта биологическая метафора удачна: она показывает, что все культуры — именно культуры (как и люди — люди благодаря общности генома), но вместе с тем различны (ведь один и тот же геном может быть «реализован» по-разному).
Вот почему всё в человеческом мире принадлежит культуре, как и в организме человека всё в конечном счете определяется генами, и в этом смысле культура — весь наш мир. Вместе с тем гены — только микроскопическая часть организма, и в этом смысле культура — лишь часть человеческого мира.
Добавлю, что эта метафора удачно истолковывает и органичную целостность культуры. Я имею в виду то, что было уловлено еще О. Шпенглером: очень тесная, удивительная связь и взаимная согласованность, «пригнанность» различных сегментов культуры, не объединяемых генетически и каузально. Эта идея была подтверждена и многочисленными исследованиями на материале так называемых «восточных» культур. Востоковедение достигло в прошедшем веке огромного прогресса, и немало его представителей присоединилось, явно или молчаливо, к названному выводу.
5. Итак, теоретические построения, основанные на понятии категорий культуры (А. Я. Гуревич), универсалий культуры (В. С. Стёпин), схватывают нечто существенное. Зададим теперь следующий вопрос: насколько эта интуиция (и соответствующая ей метафора) хорошо работает не в тех случаях, когда мы говорим об одной культуре (или, как мы считаем, о культуре «как таковой»), а тогда, когда перед нами стоит задача сравнительного исследования культур?
Мы, таким образом, попробуем примерить ответ, найденный для нашего первого вопроса («что такое культура?»), ко второму вопросу («как различаются культуры?»).
6. Может ли очерченная идея найти плодотворное применение в сравнительных исследованиях культур?
Основное соображение, не позволяющее безоговорочно дать положительный ответ на этот вопрос, заключается в следующем.
409
Как свидетельствуют такие исследования, набор фундаментальных категорий, ключевых понятий в каждой культуре свой. Мы не можем a priori, заранее номинально задать такой список (неважно, закрытый или открытый) и с ним подходить к изучению культуры, наполняя его каждый раз, для каждой культуры особым содержанием.
Между тем такая стратегия сравнительно-культурных исследований настолько распространена, что представляется многим едва ли не самоочевидной. В самом деле, какие могут быть возражения против программы номинально-содержательного сравнения культур? Повторю, она сводится к априорному заданию номинального списка сравниваемых категорий или их сочетаний и выяснению содержательных различий между их «реализациями» в двух сравниваемых культурах. При этом непременно предполагается, даже если это не проговаривается явно, что такое сравнение выясняет существенные черты и существенные различия или совпадения сравниваемых культур.
7. Конкретизируем высказанное соображение.
Объектом сравнительных исследований выступают культуры, различающиеся между собой в большей или меньшей степени. Понятие «степень различия» будет более подробно оговорено в конце, а сейчас для нас достаточно одного едва ли оспариваемого наблюдения. Суть его такова: с наиболее кардинальными различиями мы столкнемся, сравнивая либо (1) какую-либо из «восточных» культур с «западной», либо (2) одну из «восточных» культур с другой. (Заметим в скобках, что из этого вытекает принципиальное и до сих пор сполна не осознанное значение востоковедения для выяснения вопроса о том, что такое культура и как культуры могут различаться.) Поскольку второй тип сравнительных исследований до сих пор не развернут, обратимся к опыту и результатам первого.
Суммирую их в следующих пунктах.
Первое. Изучая другую культуру, мы будем встречать в ней такую трактовку понятий, номинально как будто совпадающих с привычными нам, которая заставит признать за номинальным совпадением полное смысловое расхождение — такое, которое поставит под вопрос саму возможность номинального их отождествления.
Второе. Мы будем встречать в изучаемых культурах непереводимые (а значит, не попавшие в наш список универсалий культур: такой список ведь всегда черпается из «фоновой» культуры, т. е. той, к которой принадлежит исследователь и с которой сравнивается «чужая» культура) и вместе с тем ключевые понятия. Это означает, что лежащий в основании сравнения и априорно пред-посылаемый ему номинальный список ключевых категорий культур принципиально неполон, и неизвестно, является ли такая неполнота лишь «шероховатостью» исследовательского процесса, которой можно пренебречь, или представляет собой его фатальный сбой.
Наконец, третье. Мы никогда не можем исключить опасность незамечания категорий, которые для исследуемой культуры существенны или даже фундамен
410
тальны, но «не видны» нам как представителям другой культуры и не каталогизируются нами, не попадают в нашу сетку категорий и потому в принципе не могут содержаться в нашем априорном списке.
Контрастное расхождение содержания ключевых понятий сравниваемых культур, их непереводимость и незамечание их терминологического статуса в изучаемой культуре — три главных подводных камня на пути исследований, опирающихся на безоглядно-оптимистическое утверждение о сравнимости культур.
8. Таковы принципиальные проблемы, свидетельствующие, что биологическая метафора культуры как «генома» социума работает лишь до определенной степени.
Дело в том, что мы не можем положить социум под микроскоп и найти там искомый «объект» — его геном, культуру. Вопрос о его выделении (каталогизации) и интерпретации встает потому, что инструмент такого анализа (наш разум, наша аналитическая способность), играющий в данном случае роль микроскопа, не нейтрален в отношении рассматриваемого «объекта».
Микроскоп, с помощью которого мы открываем гены (в прямом, биологическом смысле этого слова), не является частью живого организма и не создан исследуемыми с его помощью генами. В отличие от этого, инструмент изучения культуры и проведения сравнительно-культурного исследования принадлежит нашей (т. е. одной из сравниваемых) культуре и определен ее «генами». Это кладет существенную границу применимости биологической метафоры.
9. Таково первое обстоятельство, побуждающее к дальнейшему продумыванию идеи культуры как «генома», то есть идеи заданности культуры набором ее более или менее фундаментальных категорий. Оно связано с невозможностью задать список таких категорий в общем случае, для культуры «как таковой».
Но есть и другое обстоятельство. Набор универсалий, или категорий, «генов» культуры должен быть определенным образом структурирован. Универсалии не просто рядоположены, они не просто каталогизированы или заданы списком, а культура — не просто разъяснение этих отдельных, рядоположенных категорий (так толковый словарь разъясняет термины словника). Вовсе нет: такие категории завязаны в «узел», и узел этот выстроен по определенным законам взаимодействия.
Именно незнание законов взаимодействия категорий, незнание строения этого «узла» в другой культуре (в своей помогает интуитивное узнавание, поскольку здесь мы сами — часть ткани изучаемой культуры) и является основным источником трудностей в познании чужой культуры. Вот почему познание своей культуры и культуры чужой — вещи принципиально разные: во втором случае мы не имеем подсказки интуиции, остающейся незаметной для нас самих.
10. Зададим вопрос: что именно и как именно выстраивает этот узел?
Иначе говоря, что превращает набор универсалий (категорий) культуры в смыслопорождающий механизм; что заставляет этот набор двигаться по законам
411
внутреннего взаимодействия? Что вдыхает жизнь в инертный набор (список) универсалий и делает его текстом (в семиотическом смысле)?
11. Я понимаю культуру как способ смыслополагания. Иначе говоря, культура — это способ сделать мир осмысленным. Слово «осмысленность» не указывает здесь на ценностное отношение. Отнюдь: культура — это способ сделать мир осмысленным в отношении самом фундаментальном, как предложение должно быть осмысленным прежде, чем стать истинным или ложным.
Впрочем, это понимание осмысленности распространяется не только на сферу вербального. Осмысленность — вообще все, с чем любой человек может иметь дело. Осмысленность — это тот мир, в котором мы живем, это для нас такая же среда, как вода для рыб. Именно в этом смысле культура — способ смыслополагания. Культура — не продукт и не сумма продуктов, неважно, духовных или материальных; культура — это способ, благодаря которому создается осмысленность.
12. Осмысленность означает различение.
Различенному противостоит без-различное. Без-различное — это даже не ничто. Без-различное — это слепое пятно; это то, чего не видно и что не способно не только существовать, но и не существовать. Несуществование уже предполагает различение и тем самым входит в сферу различенного, т. е. осмысленного. Без-различное — это даже не иррациональное; это бессмысленное, т. е. то, что в принципе выведено за сферу доступного нам.
Различая, мы находим «нечто». Само это высказывание уже парадоксально: чтобы различить, мы должны найти «нечто различенное», а не просто «нечто». Точнее, всякое находимое нами нечто будет уже чем-то различенным, а не без-различным. Мы говорим, что находим «нечто», не указывая, что такое «нечто» непременно еще и «различенное», лишь для того, чтобы обратить внимание именно на этот момент. Полагание «нечто» является первым шагом осмысления.
Я говорю «полагание нечто» потому, что мы не находим нечто как готовое и данное. Нахождение чего-то различенного — это наше усилие, наша активность. В мире, который не различен без нас, нет ничего готового и предзаданного, что мы могли бы просто найти, обнаружить и подобрать.
Полагание «нечто» — это полагание субъекта. Здесь имеется в виду субъектность в средневековом смысле этого слова, но также и в том, какой принят в логике. Говоря о субъекте и предикате, логика схватывает начальный момент смыслополагания. Мир дан нам как осмысленность; это значит, что он дан как различенность; следовательно, как субъект-предикатные образования.
13. В том, что сказано до сих пор, нет ничего принципиально нового, за исключением настойчивого стремления трактовать мир как осмысленность. Впрочем, и в этом едва ли заключается подлинная новизна. Мы различаем мир как субъект-
412
предикатные образования, мы осмысляем мир как различные «нечто», обладающие такими-то «качествами» и за счет этого качественного своеобразия отличенные от других «нечто», которые, в свою очередь, должны быть так же отличены от всех остальных «нечто». У нас нет другого способа создать среду осмысленности, нежели этот.
«Нечто», понимаемое в логике как субъект, мы называем словом «вещь». Я имею в виду «вещь» в самом общем, не специфицированном смысле этого слова; «вещь» как синоним «нечто». Поскольку «нечто» всегда различено, поскольку субъект — это всегда субъект-и-предикат, то и вещь всегда выступает для нас в своей качественной определенности. Неразличенное нечто — бессмыслица, поэтому понятие вещи вне ее качественной определенности пусто.
14. Сказанное до сих пор относится к любой культуре. Это очерчивает область универсального — того, что присуще человеку как существу, живущему в сфере осмысленности. Различенность как качественная определенность вещи, понимаемая логически как субъект-предикатное образование, — вот что такое осмысленность. Культура определяет, как достигается осмысленность. Культура, понимаемая как способ смыслополагания, неотделима от самой основы человеческого существования и сменяема не больше, чем день рождения или родной язык.
15. Как можно достичь осмысленности, понимаемой как различенность, притом что различение осуществляется посредством придания качественной определенности вещам, путем образования субъект-предикатных конструкций?
Мы не можем понять такое различение как отличение. Отличение данной вещи от всех остальных является результатом различенности, но не способом ее достижения. Различенное отличено, это верно; однако отличение не служит различению.
Отличение является простым отрицанием. Отличая эту вещь от другой вещи, мы отрицаем, что она является другой вещью. Но чтобы такое отрицание могло иметь место, «другая вещь» уже должна быть чем-то различенным. Отличение как простое отрицание «просто» не потому, что является базовым, первоосновным шагом осмысления. Напротив, такое «простое» отрицание предполагает прежде проведенное различение.
16. Различение отличается от отличения тем, что оно задает предел.
Различая, мы не идем путем отделения (отличения) данной вещи от любой другой вещи, которая тем самым уже должна быть различена, что уводило бы в дурную бесконечность обоснования; и не идем путем отличения данной вещи от всего остального (ведь отличить можно либо от чего-то, либо от всего остального), поскольку «все остальное» (оставшаяся часть Универсума) не является для нас более различенной и более осмысленной, чем данная вещь, которую мы стремимся осмыслить. Различение, таким образом, не может опираться на какие-то предшествующие шаги, оно не может воспользоваться плодами чужого труда. Различение — это первый шаг к осмысленности, и он должен быть понят из себя самого.
413
17. Различение задает предел. Задать предел значит задать границу. Но не только. Задать границу и указать, что значит быть о-граниченным и от-граниченным. Ведь граница располагает ограниченное определенным образом, и именно в такой определенности смысл задания границы. Благодаря такому располаганию граница полагает определенность.
18. Задать границу и расположить ограниченное можно по меньшей мере двумя принципиально различными способами. Граница может задавать предел, охватывая ограничиваемое и замыкая его внутри себя. Так проводится граница государства на политической карте мира, так поверхность тела задает его границу. Аристотелевское определение границы фиксирует именно это понимание.
Хорошей метафорой для такого понимания границы служит понятие горизонта: оно апеллирует к наглядному образу предельной черты, отделяющей доступное от недоступного и помещающей доступное, т. е. о-граниченное и определенное, ближе к наблюдателю, нежели предельная черта, от-граничивающая все доступное нашему взору от недоступного ему.
Такое ограничение служит целям определения благодаря тому, что ограниченное замыкается внутри границы и тем самым отличается от того, что находится вне ее и что, таким образом, не ограничено и не определено. Такое интериоризирующее ограничение задает предел между тем-что-внутри и тем-что-снаружи.
Такая граница — именно черта, геометрическая линия. Эта линия должна быть очень, очень тонкой, а лучше бы и совсем незамечаемой. Ведь такая замыкающая граница, делящая все на то-что-внутри и то-что-снаружи, сама должна быть либо здесь, либо там, подчиняясь императиву разделения, который ею же и задан. Но граница, поскольку она именно граница, не может оказаться ни по ту, ни по эту сторону себя самой, и из этого вытекают парадоксы такого понимания границы как линии (для плоскости) или поверхности (для трехмерного тела).
19. Другой способ задать границу не опирается на идею линейного очерчивания внешнего, опоясывающего предела. Здесь иначе: мы определяем, задавая возможность перехода. Что это значит?
Черта, задающая горизонт, охватывает определенную область пространства и отделяет ее от прочего. Говоря об определении как о задании возможности перехода, мы ведем речь о протекании. Протекание предполагает длительность и вводит временнýю, а не пространственную образность.
Переход, или протекание, предполагает «от» и «к», предполагает исток и приемлющее. Задавая возможность перехода, т. е. определяя протекание, мы задаем и определяем также и то, что инициирует протекание и что оконечивает, замыкает его. Эти две стороны не охвачены границей-линией, как в первом случае, и тем не менее они ясно заданы и определены благодаря тому, что определен переход. Переход, разделяющий эти две стороны — исходную и результирующую стороны протекания, тем самым определяет и соединяет их.
414
Чтобы понять, как задается граница в этом случае, мы должны отвлечься от стремления мыслить ее по аналогии с пространственным пределом. Здесь граница задается как возможность протекания, и эта возможность определяет и протекание, и обе его стороны, исходную и результирующую, отличные от самого протекания. Эта граница отличает то, что участвует в таком протекании, от того, что не включено и что не может быть включено в него. Граница выполняет ту же функцию, что в первом случае, отличая различенную область от того, что не различено, — но выполняет ее иначе.
20. Предел отделяет область, подлежащую различению, от области без-различного. Задание предела и есть начало различения.
Пусть предел задается как линия горизонта, охватывающая некоторую область. Внутри этой единой области мы можем провести еще одну линию. Она будет линией внутреннего горизонта, которая разделит исходную единую область на две части. Первый, внешний предел отделил различенную область от всего остального; линия внутреннего горизонта также служит пределом, который отделяет одну часть различенной области от другой. Эти две части противоположны, поскольку отделены друг от друга границей, и вкупе составляют единую изначальную область.
Если же предел задается как возможность перехода, то этим определены две противоположные стороны перехода — исходная и результирующая. Область перехода служит для них областью единства, стягивая эти противоположности и тем самым приравнивая их друг к другу.
Задание предела, таким образом, кладет начало различению. Различение осуществляется как комплексная процедура определения противоположения и его единства. Этим подготовлена почва для того, чтобы осуществить предикацию.
21. Предел отграничивает различенное от без-различного и, далее, служит внутреннему различению так определенной области. Предел может быть задан по меньшей мере двумя различными способами. Если сама по себе необходимость задать предел является универсальной потребностью на пути создания осмысленности, то тот способ, каким задается предел, перемещает нас из сферы универсального в сферу вариативного.
Является ли вариативность чисто логической возможностью? На этот вопрос следует дать отрицательный ответ. Мир состоит из различенных вещей, однако эти вещи онтологически неоднородны. Бывают вещи-субстанции, и бывают вещи-процессы. Они требуют не просто различных, но именно вариативных подходов к своему осмыслению.
Вариативность путей создания осмысленности задана самим миром. Субстанциальная и процессуальная картины мира реализуют эту вариативность.
22. Субстанциальная картина мира характерна для западной мысли. Это значит, что для этого мышления мир состоит из вещей-субстанций. Вещи-субстанции обладают качествами и связаны между собой отношениями.
415
Разыскивая устойчивость мира и осознавая такую устойчивость как истинность, греческое мышление находит ее в понятии эйдоса. Эйдос открывает нам истину вещи. Эйдос схватывает сумму качеств, всегда присущих данной вещи-субстанции. Это и есть ее сущность, то, что она есть.
Однако вещи-субстанции не могут быть сведены только к своим сущностным характеристикам. В текучем потоке времени, связанные с другими вещами, они действуют и взаимодействуют. В этом проявляются, наряду с сущностными, и иные их качества. Помимо сущностного и устойчивого, есть случайное и привходящее.
Как устойчивое и сущностное, так и случайное и привходящее могут быть выражены в языке прилагательным: лист дерева бывает зеленым, желтым, красным и даже белым. Они могут быть выражены глаголом: дерево цветет и плодоносит, листья дерева облетают осенью и распускаются весной. Они могут получать и другие языковые оформления. Это различие языковых обличий не меняет главного, что выхватывает мысль: как действия вещи, так и ее качества являются предикатами — тем, что приписывается вещи-субстанции.
Приписывая вещи предикаты, мы схватываем ее сущность, открывая так истину и устойчивость вещи-субстанции. Приписывая вещи предикаты, мы также указываем на ее изменчивость в потоке случайных событий. Но не только. Приписывая вещи предикаты, мы отличаем ее от других вещей.
Отличение одной вещи от другой является самой важной функцией предикации. Мы отличаем вещи одну от другой не потому, что даем им разные имена; мы даем им разные имена потому, что отличили их друг от друга благодаря предикации.
Предицируя, мы приписываем вещи нечто. Возьмем самый простой случай. Я говорю, что эта вещь В — белая. Я не интересуюсь пока, является ли белизна сущностным или случайным признаком, я могу даже не знать о таком различении признаков или не признавать его. Я должен сперва понять, что значит для вещи «быть белой».
Говоря, что вещь «белая», мы отличаем ее от других вещей. Но отличение будет действительным, а не номинальным, только если мы поймем, что такое «белое». Иначе говоря, если предикат «белое» будет для нас осмысленным.
Мы можем отличить «белое» от всего остального, и мы можем поместить «белое» в среду различенности. Это — две принципиально разные стратегии, и лишь вторая из них ведет к созданию осмысленности.
Мы можем сказать, что «белое» — это не «камень», не «речь», не «небо», отрицая таким же образом совпадение «белого» с огромным количеством вещей. Мы можем сказать также, что «белое» — это не «красное», не «синее» и не «зеленое».
Эти два типа отрицания как будто похожи, более того, формально мы едва ли сможем разделить их. И тем не менее между ними есть глубокое различие.
Мы предицируем вещи В признак «белое», чтобы отличить ее от других вещей. Говоря, что «В — белая», мы делаем шаг к этой цели, но только с тем условием,
416
что понимаем, что такое «белое». Чтобы понять это, т. е. чтобы сделать предикат «белое» осмысленным, мы отрицаем в первом случае его совпадение с любой другой вещью мира: «белое» — не «камень», не «речь» и т. д. Однако такое отрицание совпадения с любой вещью мира ничем не отличается от другого отрицания. А именно, от отрицания «В — не камень», «не речь» и т. д. Если предикат «белое» осмыслен только в отличении от любой другой вещи мира, он никак не помогает осмыслить свой субъект, В, поскольку вещь В точно так же отлична от любой другой вещи мира.
Во втором случае, говоря, что «белое» — это не «красное», не «синее» и т. д., мы отличаем предикат «белое» от множества других, отрицая их совпадение и противополагая «белое» всему этому ряду. Рассматривая такое противоположение, Аристотель говорит, что оно может быть большим или меньшим. Черное дальше от белого, чем синее, и более противоположно ему.
Но такое возможно, лишь если задан «масштаб расстояния», если, иначе говоря, для противоположностей имеется общее пространство и определена его граница. Без этого бессмысленно говорить о большем или меньшем противоположении, как нельзя отличить контрарное от контрадикторного. Прочерчивание границы, намечающей единое пространство, помещает предикат «белое» в понятную, ограниченную область, делает его уютным и осмысленным для нас.
Благодаря такому прочерчиванию границы, т. е. заданию предела, «белое» помещается в различенное пространство «цвета», и его отличие от «черного», «синего» и т. п. становится различенностью цвета.
Родовая общность делает понятным, определяет (задает пределы) понятие, осмысленность которого мы разыскиваем, поскольку позволяет точно ограничить его, отграничивая ото всего остального в рамках заданного родового единства. Правильным, то есть задающим осмысленность, отрицанием является в данном случае дихотомическое «не-». Говоря, что «белое» не есть «синее», мы не достигаем искомого результата, поскольку «синее» не более осмыслено для нас, чем «белое»; и даже если мы понимаем, что такое «цвет», высказывание «Белое не есть синее» не определяет для нас «белое». Правильность дихотомического отрицания в рамках рода определяется именно тем, что так достигается осмысленность всех трех составляющих — рода и его двух видов, взаимно-исключающих в рамках рода и вместе исчерпывающих смысловое пространство рода. Осмысленность достигается как целостная, то есть такая, отдельные составляющие которой обусловливают друг друга. Мы знаем, что такое «цвет», поскольку знаем, что он бывает «белым» или «не-белым». Мы знаем, что «белое» — это такой цвет, который не есть «не-белое». Наконец, мы знаем, что «не-белое» — это любой цвет, кроме «белого». В этой родовидовой конфигурации — основа трех законов Аристотелевой логики.
23. Нам предстоит познакомиться с другой картиной мира, которую я называю процессуальной. Она развита классической арабской культурой и характерна для классического арабского мышления. Возможно, не только для него; вопрос о том,
417
насколько эта картина мира распространена в культурах, в основе которых лежат другие семитские языки, подлежит отдельному исследованию.
Процесс представляет собой длительность. Мы не можем понять длительность иначе, чем временнýю протяженность. Однако дело в том, что процесс, представляющий собой временнýю протяженность, никак не указывает на время. Мы не можем сказать, в каком времени — настоящем, прошедшем или будущем — совершаются (совершались, будут совершаться) процессы «хождение», «говорение» или «мышление». Процессуальная протяженность лишена темпоральной семантики.
Это — вряд ли случайное обстоятельство, поскольку процесс предполагает неизменность, фиксированность. Если в субстанциальной картине мира устойчивость и истинность связываются с вневременным состоянием вещи-субстанции, тогда как время приносит изменчивость и случайность, то в процессуальной картине мира длящийся процесс представляет собой устойчивость и фиксирует истинность. С точки зрения языка процесс — не действие, поскольку действие, в отличие от процесса, указывает на время, и эта подсказка языка существенна.
Процесс предполагает две стороны, между которыми он располагается. Для «говорения» это «говорящий» и «проговариваемое», для «мышления» — «мыслящий» и «мыслимое». Эти две стороны соединены процессом, и процесс, их соединяющий, представляет собой их единство. Но это — не родовое единство, которое охватывает объединяемые виды и включает их в себя.
Эти две стороны, действующее и претерпевающее, противоположены друг другу и в силу этого противоположны. Однако эта противоположность имеет иную природу, нежели та, что рассмотрена выше (п. 22).
Процесс разграничивает противоположности и тем самым ограничивает их. Располагаясь между ними (а не включая их в себя), процесс, составляющий единство двух противоположных сторон, задает и их границу. Эта граница, определяя противоположности, тем не менее не включает их внутрь себя. В самом деле, мы не скажем, что «говорение» включает в себя (как род включает виды) «говорящего» и «проговариваемое». Скорее «говорение» служит связкой между «говорящим» и «проговариваемым», мостиком, соединяющим их; будучи процессом, оно является процессуальным переходом между объединяемыми им противоположностями.
Процессуальное единство противоположностей не служит для них родом, а противоположение является правильным (в том понимании правильности, которое было введено в п. 22: правильность как задание осмысленности) не потому, что дихотомично. Здесь другое требование к правильности. Действующее и претерпевающее равно необходимы для того, чтобы процесс состоялся. Это очевидное наблюдение подсказывает, что в процессуальной картине мира противоположение будет правильным, если противоположности предполагают друг друга как необходимые и если между ними возможен переход.
Процесс и две его стороны составляют целостную конфигурацию процессуального единства противоположностей. Как и родовидовая конфигурация, она задает осмысленность, только если взята целиком. И там и здесь осмысленность задается
418
как различение единой области. Однако и общность этой области, и ее различение задано в двух случаях по-разному. Следует говорить о том, что способы задания осмысленности в двух картинах мира — субстанциальной и процессуальной, не просто различны, но вариативны и несводимы один к другому.
24. Понимая вещь как процесс, мы понимаем ее как единство двух сторон процесса; это значит, что мы понимаем ее как процессуальный переход между этими сторонами. Иллюстрации такого подхода к пониманию вещи предоставляет нам в изобилии классическая арабская мысль, начиная с момента ее зарождения в дискуссиях мутазилитов.
Это отдельная тема, разработка которой даст интереснейшие результаты. Классическая арабская теоретическая мысль с момента своего возникновения вырабатывает процессуальную картину мира, соответствующее ей понимание вещи и организацию мышления. Это происходит во всех ее областях, основными из которых являются филология (во всем ее многообразии, от лексикографии до поэтики), фикх, доктринальная мысль и философия. Вместе с тем во всех этих сферах арабо-мусульманская культура встречается с мощным влиянием иной, субстанциальной картины мира и соответствующего ей мышления. Очень важно понимать, что это влияние осуществлялось не извне, не из-за пределов арабо-мусульманского мира, а изнутри — в прямом, ощутимом, физическом смысле этого слова, поскольку античные философско-научные и медицинские школы существовали на протяжении веков на тех землях, которые вошли в состав арабского государства. История арабо-мусульманской культуры, таким образом, стала историей конкуренции этих двух картин мира и соответствующих им стилей мышления.
Этот своеобразный и грандиозный эксперимент по слиянию двух картин мира, поставленный самой арабо-мусульманской культурой, показал невозможность их «гибридизации», что, впрочем, мало удивительно в свете тех фундаментальных различий в их основаниях, которые были рассмотрены нами. Важно отметить, что не только теоретическая, но и в целом вербальная, а также невербальная сферы арабо-мусульманской культуры несут на себе отпечаток процессуальной картины мира, характерной для нее, и соответствующего ей способа смыслополагания.
25. Подведем итог этому краткому обзору. Мы сказали, что культура — это способ смыслополагания. Осмысленность мы определили как различенность, понимая различенность как субъект-предикатное образование. Мы, далее, показали, что такая различенность предполагает задание предела, благодаря чему осуществляется «разметка» областей противоположения и единства и подготавливается почва для того, чтобы предикация как отличение данной вещи от других вещей оказалась осмысленной.
Таково универсальное понимание культуры как способа задания осмысленности. Однако конкретизация этого понимания, т. е. любая конкретная реализация механизма смыслополагания уже переводит нас в сферу вариативного. Это связано с возможностью вариативных, несводимых друг к другу способов задания предела.
419
Универсальность вариативности, т. е. отсутствие и невозможность «воплощенного» инварианта, обосновывает необходимость нового понимания универсализма. Если традиционный универсализм объявлял универсальным, «общечеловеческим» тот способ смыслополагания, который создал только одну культуру — западную, то новое понимание универсализма требует подняться до уровня всечеловеческого — того, что обосновывает разные, несводимые способы смыслополагания, что находит оправданность разнологичных культур и запрещает их нивелировку и сведение до «общечеловеческого» (которое всегда оказывается всего лишь культурно-специфическим).
26. Интересно, что вариативность способов смыслополагания находит свой коррелят в опять-таки универсальном, по-видимому, представлении о «сегментации» мира, т. е. о его разбиении на различные смысловые классы. Эти сегменты несводимы один к другому, как несводимы друг к другу вещь и процесс.
Такая сегментация очевидна. Она, конечно же, не ограничивается классами вещей и процессов, но включает наряду с ними и другие. Аристотелевская система логических категорий, этих «родов бытия», служит наилучшим примером такой сегментации.
Существенным, однако, является не это. Принципиально важно, что последовательную и связную, несегментированную картину мира можно строить не одним (как то молчаливо полагал Аристотель, разрабатывавший субстанциальную картину мира, в которой изначальная сегментация преодолевается за счет превращения всех категорий, кроме субстанции, в различающие ее признаки, акциденции), а по меньшей мере двумя разными способами. Как именно, и было показано выше, и смысл сравнительного исследования арабо-мусульманской и западной культур заключается в выявлении такого рода фундаментальной вариативности и, далее, прослеживании ее проявлений в вербальном и невербальном «теле» культуры. Следует иметь в виду, что все выводы, сформулированные здесь, ограничены опытом сравнения этих двух культур и не могут учитывать результаты аналогичного сравнения других восточных культур между собой или с западной.
27. Определение «Культура — это способ смыслополагания» дает ответ на первый из двух вопросов, поставленных в начале. Из этого определения вытекает ответ на второй вопрос, который по преимуществу и занимал нас здесь.
Культуры могут совпадать как один и тот же вариант реализации механизма смыслополагания, а могут различаться как разные варианты реализации механизма смыслополагания.
В первом случае различия между культурами могут быть сведены к различиям в содержательном наполнении одного и того же набора универсалий (категорий) культуры. Такое различие я называю содержательным.
Во втором случае различия между культурами вызваны вариативностью механизма смыслополагания, т. е. различием в его функционировании. Это более глубокий и интересный тип различия. Я называю его логико-смысловым. Это различие является
420
более глубоким потому, что логико-смысловые механизмы «отвечают» за целостное функционирование смыслового тела культуры, они завязывают набор категорий культуры в особый «узел» и заставляют его работать как смыслопорождающую «машину».
Понятие «степень различия культур», о котором шла речь выше (п. 7), в первом приближении может быть задано следующим образом. Логико-смысловое различие означает всегда бóльшую степень различия, чем различие содержательное.
28. Сказанное разъясняет причину отмеченных выше трудностей в сравнительном изучении культур (пп. 6—7).
Логико-смысловое различие между культурами влечет и различие содержательное, но не наоборот.
Логико-смысловое различие разделяет далеко не все культуры. Именно там, где речь идет о действительном контрасте (сравнение восточных культур между собой или их сравнение с западной культурой), мы имеем наибольшие шансы встретить именно этот тип различия.
Если между двумя сравниваемыми культурами имеется логико-смысловое различие, его влияние скажется в содержательном наполнении любых категорий, понятий и терминов.
Если две сравниваемые культуры различаются не только в содержательном, но и в логико-смысловом плане, их сравнение не может быть корректным без учета логико-смысловых различий.
 |

|
421
Построение любой типологии основывается на нехитрой мысли о том, что объект типологизации обнаруживает как сходства, так и различия. Объяснить, как строится типология культур, можно, объяснив, что такое культура и как культуры различаются.
Слово «культура» можно понимать в очень и очень разных смыслах, и вряд ли кто-то станет утверждать, будто обладает единственно верным и точным пониманием этого термина. Ученый или философ принимает то или иное определение культуры, исходя из потребностей своего поиска и исходных интуиций. Я понимаю культуру как способ смыслополагания.
Смыслополагание переводит смысл в осмысленность. Смысл — без-различная различенность, то же иначе, континуальность, снимающая от-личие одной вещи от другой. Осмысленность — след смысла. Это то, что создает для нас мир-вещей, мир субъект-предикатных комплексов, мир от-личений, созданный на основе и благодаря раз-личению. Способ смыслополагания — это способ превратить смысл в осмысленность: способ задать предел, определить тип субъекта (вещи) и тип его различения (тип предикации).
Что такое «картина мира» и какое отношение это понятие имеет к типологии культур? Если понимать под «миром» универсум, все то, с чем может иметь дело наше сознание, то картина мира — это полотно осмысленности, в пределах которого оно движется. Из этого определения вытекает отношение понятия «картина мира», как оно понимается здесь, к принятому в философии и лингвистике его употреблению.
Как правило, говорят о языковой картине мира и о научной картине мира. Под первой понимают то структурирование мира, которое предзадано сознанию человека его родным языком, прежде всего — арсеналом формальных средств данного языка. В этом, наиболее принятом толковании понятие «языковая картина мира» восходит к идеям Гумбольдта и гипотезе Сепира-Уорфа. Под научной картиной мира понимают совокупность научных теорий, взятых в их мировоззренческом аспекте и определяющих в массовом сознании наиболее общие представления об устройстве мира. Научная картина мира — это не сама наука, а лишь то представление о выводах науки, которое сложилось в сознании людей и носит более или менее популярный характер.
422
Различие между языковой и научной картинами мира, лежащее на поверхности и бросающееся в глаза, заключается в том, что первая стихийна, тогда как вторая отрефлектирована. Ведь родной язык невозможно выбрать и невозможно сменить: языковая картина мира, формируемая в сознании носителя языка, предзадана ему. Современная лингвистика подходит к языку как к естественному феномену, подчиняющемуся естественным (а значит, объективным, не зависящим от наших волевых усилий) законам, и в данном отношении это представление оправданно. В отличие от этого, наука как источник научной картины мира не предзадана ни обществу, ни индивиду; ни как таковая, ни в ее конкретном варианте. Если владение языком служит критерием принадлежности к человеческому роду, то наличие науки в обществе или причастность к ней индивида не играет такой роли. Далее, научная картина мира, если она вообще имеется, может коренным образом измениться на протяжении одного поколения; языковая картина мира, хотя и модифицируется с развитием языка, не претерпевает столь радикальных трансформаций при жизни одного человека. В отличие от языковой, научная картина мира формируется в конечном счете благодаря сознательным усилиям и общества в целом, которое решает, что наука нужна для него, и научного сообщества, которое производит научные знания, и сообщества популяризаторов, ответственных за «растекание» этих знаний по стратам общества, и каждого отдельного индивида, который с большей или меньшей готовностью впитывает их и тем самым формирует собственную научную картину мира.
То, о чем я буду говорить здесь, близко к такому пониманию термина «картина мира», хотя и не совпадает с ним полностью. Основное отличие заключается в том, что разделение и соотношение двух уровней (стихийно-языкового и теоретически-отрефлектированного), а также сами эти уровни будут интересовать меня в аспекте смыслополагания. Главным станет вопрос о том, каким образом фундаментальное (обще)человеческое стремление к осмысленности реализуется на этих двух уровнях построения целостного полотна осмысленности — стихийном, пред-заданном человеку и отрефлектированном, созданном благодаря его сознательному и целенаправленному усилию и подчиненном логическому упорядочиванию. Первый уровень будем называть языковым, второй — логико-философским, поскольку философское понимание целостности мира и фундаментальных принципов его устройства лежит в основе отрефлектированной картины мира.
Осмысленность означает связность. Это положение — ключевое для нашего дальнейшего движения. Связность непосредственно связана с единством. Конечно, «единство» — очень неопределенное и потому богатое понятие: единство можно мыслить совершенно по-разному, и нам еще предстоит столкнуться с этим. Понятия связности и единства вкупе, как мне представляется, хорошо передают исходное, интуитивное представление человека о мире. Я бы сказал, что для человека характерно стремление к формированию полотна осмысленности мира как связного и единого. В глубине души, в глубине нашего существа мы стремимся представить мир как монистичный.
423
В каком смысле? Не в том, конечно, что каждое утро, вставая с постели и нащупывая тапочки, формулируем для себя эту идею как задание на сегодня. Дело в другом. Мы ощущаем, что не можем представить мир расколотым на несообщающиеся части, на никак не связанные одна с другой области. Это верно и для временного, и для пространственного аспектов. Не может быть, что зеленое сегодня станет красным завтра (я имею в виду гусеницу на зреющем на ветке моего сада яблоке, а не само яблоко), как не может быть, что в другой части мира вещи будут падать вверх, а не вниз. Я намеренно привожу наивные примеры; читатель легко может выстроить более сложные. Но именно наивные, наименее обдуманные представления показывают фундаментальность пред-чувствования осмысленности как связности и единства мира.
И открыв для себя однажды, что уличное движение бывает не только правосторонним, но и левосторонним, то есть столкнувшись с существенными различиями в устройстве законов, управляющих поведением мира, мы поспешим интерпретировать такие различия не как принципиально несводимые и раскалывающие мир на изначально разным образом устроенные части, а напротив, как варианты некоего инварианта, не противоречащие, невзирая на все различия между ними, глубинному единству мира. Даже говоря об эволюции Вселенной и, соответственно, физических законов, ею управляющих, мы представляем этот процесс как закономерный, устанавливая для себя единство и связность его частей. Иначе — бессмыслица кафкианского типа, где может происходить всё; иначе — «зона» Стругацких-Тарковского, которую, в самом деле, и представить-то невозможно, поскольку она отрицает всякую связность и всякое единство.
Итак, при всем своем разно- и многообразии мир ведет себя неким устойчивым образом, и эта устойчивость пред-чувствуется нами как связность и единство полотна осмысленности мира, которое мы и называем «картиной мира». Такова интенция. Каков же результат, достигаемый на двух уровнях ее осуществления, предзаданном нам и складывающемся стихийно — и целенаправленно создаваемом, логически упорядоченном и отрефлектированном, то есть на языковом и логико-философском уровнях, примерно соотносимых с тем, что называют языковой и научной картинами мира?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, определим объект исследования. Я буду говорить о двух крупных культурных ареалах — о Западе и арабском мире. Насколько выводы, сделанные на основе арабского материала, приложимы к родственным семитским языкам и основанным на них культурам, прежде всего к ивриту и еврейской культуре, остается открытым вопросом. Распространима ли сама методология рассуждения (а не просто его выводы) на другие языки и культуры за пределами названных двух, составляет куда больший вопрос. Я не буду далее специально оговаривать это ограничение: формулируя общие утверждения, я делаю их только для указанных двух языково-культурных ареалов.
Начнем с языкового уровня. Язык предлагает нам не монистичную (построенную по принципу единого начала), а сегментированную картину мира. Я имею
424
в виду тот фундаментальной важности факт, что язык осуществляет категориальное структурирование мира. В нашем распоряжении имеются категории имени (существительного, прилагательного), глагола, наречия, числительного и др.
Mutatis mutandis это справедливо для арабского или иврита, как и для русского, английского, греческого и прочих европейских языков. Верно, что система категорий не во всех языках одинакова, однако она, во-первых, приблизительно совпадает, а во-вторых, непременно присутствует. Это значит, что язык сегментирует мир, разрезая его на несообщающиеся части. Имя существительное ни при каких условиях не может превратиться в глагол. Иначе говоря, имя не может занять то место, которое в высказывании занимает глагол, тогда как оно может занять место другого имени. При замене одного имени на другое мы получаем осмысленную, хотя, может быть, ложную фразу; при замене имени на глагол или наоборот мы получаем не ложную и не истинную, а бессмысленную фразу. I walk up the drive и I walk up the lane равно осмысленны, хотя могут быть не равно истинны; но из двух фраз I drive a car и I lane a car только первая осмысленна. Это фундаментальной важности свойство языка отражает тот факт, что вещи-субстанции действуют, но сами не являются действиями; и, напротив, действия, наблюдаемые в мире, не являются вещами-субстанциями. То же относится и к прочим категориям.
Обратим внимание на Аристотелеву систему десяти логических категорий. Их смысл в том, что они устанавливают, во-первых, субъект-предикатное разделение. Во-вторых, разделение между девятью категориями, которые могут служить предикатами, то есть сказываться о субъекте. И, наконец, третье: эти категории не сводятся, говорит Аристотель, в единое понятие, они не имеют рода, сами будучи родами бытия.
Первое и третье обстоятельства заинтересуют нас чуть позже, а сейчас обратим внимание на второе. Категориальное деление, подчеркнутое Аристотелем, фиксирует сегментированность мира, его разрезанность на дольки, разделенные перегородками, которые непроницаемы для того, что находится внутри такого сегмента. Представитель каждой категории принадлежит исключительно ей, без всякой надежды найти прямой контакт с представителем другой категории, поскольку смысл категориального деления — именно в том, чтобы обнаружить нередуцируемые различия между классами слов. Вот почему какое-либо прямое приравнивание категорий невозможно по самой их сути. Нет возможности приравнять разные категории и через что-то общее для всех них: категории — высшие роды, над ними нет никакого объединяющего их рода.
Итак, категориальное деление является фактом. И в данном случае не имеет значения, насколько конкретный вид категориальной системы привязан к конкретному языку; важно лишь, что категориальное членение в принципе имеет место.
Взятый изолированно, этот факт должен свидетельствовать, что на языковом уровне мы не достигаем искомой цели создать связное полотно осмысленности мира. Язык лишь по-видимости служит инструментом связного описания мира;
425
на деле он описывает мир, выделяя в нем несводимые один к другому аспекты: аспект действия; аспект субстанциальности; аспект числа и т. п.
Обратим теперь внимание на третье обстоятельство. Все категории, сегментирующие мир, являются родами бытия, а значит, говорят о чем-то едином. В самом деле, единство бытия служит настолько глубоким философским убеждением, что оно редко проговаривается. Представление о единстве бытия отражает наше фундаментальное стремление к связному осмыслению мира, эту интенцию нашего сознания. Но, как видим, такое стремление не может быть реализовано — постольку, поскольку категории не сводимы в нечто единое, а различия между ними нередуцируемы.
Это обстоятельство, открытое Аристотелем, сохраняет свою значимость и за пределами западной мыслительной традиции. Арабский язык предполагает несколько иную систему категорий, нежели созданная Стагиритом, — но он ее тем не менее предполагает, с теми же последствиями для построения связной картины мира, что были выяснены, и это самое главное. Для рассматриваемых культурно-языковых ареалов категориальная сегментация мира и вытекающая из нее бес-связность полотна языкового осмысления мира служат несомненным фактом.
Язык — теоретический конструкт; в реальности мы всегда имеем дело не с языком, а с речью. Связная речь — это речь сказывающая; а сказывание — это формирование субъект-предикатных конструкций. Иначе говоря, связная речь — это последовательность связных предложений, а связное предложение — такое, в котором есть подлежащее и сказуемое, или, если использовать логические термины, субъект и предикат. Я не говорю, что связная речь исчерпывается этим; я говорю, что без этого нет связной речи.
Вот где решение проблемы сегментированности мира, которую мы замечаем в языке: речь связывает сами по себе бессвязные сегменты-категории, и такое связывание — это построение субъект-предикатных конструкций. Предикация — узловой пункт; предикация служит установлению монизма картины мира.
Каким же образом? Пришло время обратить внимание на первое из обстоятельств, отмеченных при рассмотрении Аристотелевой системы категорий.
Оказывается, десять категорий неравноправны; они имеют разный вес. Лишь одна из них — то, о чем сказывается; остальные — то, что сказывается. Так разрешается затруднение: монизм мира — это монизм субъекта, подлежащего. То, о чем мы говорим, едино. Едино не в том, конечно, смысле, что это нечто одно; едино не арифметически. Едино именно в том смысле, какой подсказан Аристотелевой категориальной системой: едино потому, что всё, о чем мы можем говорить и что служит подлежащим в предложениях нашей связной речи, принадлежит одной категории — той, что мы называем «субстанция».
Высказанное утверждение о разрешении проблемы монизма мира благодаря открытию предикационного механизма, преодолевающего категориальную множественность и сегментированность, — это утверждение слишком оптимистично, чтобы быть верным. Так предполагается, так должно быть; и традиционная логика,
426
созданная Аристотелем, основывается на этом предположении. Сделаем вид, будто и мы согласны с этим, оставив в стороне очевидный вопрос, заданный еще в античности: как может быть, что в субъекте собираются предикаты, разнородные по отношению друг к другу и инородные по отношению к самому субъекту? Как получается, что разнородность и инородность, зафиксированные и настойчиво подчеркнутые категориальным делением, вдруг становятся неважными, коль скоро мы решаем, что девять категорий-акциденций — лишь характеристики единственной категории, составляющей «что» мира, категории, в которой вся эта разнородность как будто преодолевается, становясь не более чем аспектом, описанием субстанции? Я подчеркиваю, что затруднение это — принципиальное; однако мы не будем здесь развивать эту мысль.
Вместо этого обратим внимание вот на что. Язык дает возможность построить высказывания, в которых подлежащим будет вовсе не вещь-субстанция, а процесс. Например, я могу сказать: «Прибытие поезда откладывается», «Введение конвертируемости рубля невозможно по причине кризиса». «Прибытие», «введение» и тому подобные слова, обозначающие процессы, являются, с точки зрения языка, настоящими подлежащими и играют эту роль ничуть не хуже, чем ее сыграли бы «поезд» или «рубль». Но, в отличие от «поезда» и «рубля», «прибытие» и «введение» — не субстанции. С точки зрения Аристотелевой логики это означает, что они не могут быть настоящими подлежащими, то есть не могут выполнять функцию субъекта—носителя предикатов. На эту роль подходит только субстанция, и никакая другая категория, говорит нам Аристотель.
Налицо конфликт между возможностями, предоставляемыми языком, и их реализацией в той картине мира, которую мы, следуя за аристотелевской мыслью, принялись выстраивать, стремясь к ее монизации. Логически верная, подчиненная рефлексии и претендующая на научную точность картина мира беднее, нежели та, которой мы обладаем на языковом уровне, причем беднее не в каком-нибудь второстепенном аспекте, а именно логически. Как раз на логическую точность претендует научная картина мира — но эта точность достигается только за счет урезания логических возможностей, предоставленных на уровне языковой картины мира.
Я подчеркиваю слово «логический», и цель дальнейшего рассуждения — продемонстрировать его оправданность. Верно, что оно употреблено сейчас, так сказать, авансом; но это важно сделать, чтобы показать, насколько не совпадает выстраиваемая здесь позиция с общепринятой. Ведь логик или философ языка, да что там — любой студент скажет: языковые формы выражения избыточны в сравнении с логически правильными. Сказать «вечерняя звезда» и «утренняя звезда» — значит указать на один и тот же объект, но выразить это разными словами; смысл различен, значение — одно и то же. Сказать «Прибытие поезда откладывается» и «Поезд прибудет позже» — значит указать на одно и то же событие. Естественный язык просто-напросто слишком богат, скажет логик. Пестрящее обилие языковых форм предстает как досадная помеха, мешающая выбрать единственно правильную форму — ту, что соответствует подлинному устройству мира. А мир устроен как собрание вещей-
427
субстанций, обладающих качествами и распределенных в пространстве и времени. Именно поэтому логически правильным будет субъект-предикатное высказывание, в котором подлежащее представлено именем существительным, указывающим на субстанцию («поезд»), а вовсе не на процесс («прибытие»). Мы можем придумать много фраз, синонимичных высказыванию «Прибытие поезда откладывается», и их количество будет ограничено лишь нашей фантазией и богатством языка. Более того, мы можем высказать эти фразы не на одном, а на разных языках. И все это многообразие языковых представлений избыточно в том смысле, что подлинность мира представлена одной-единственной фразой («Поезд прибудет позже»). Множество языковых вариантов фраз — и единственная пропозиция. Логически правильная форма сводит к единству не только разнообразие выражений одного языка, но и межъязыковое многообразие, а значит, служит основанием для межъязыкового перевода. Остается лишь нащупать эту глубинную структуру, чтобы понять, к чему сводить многообразие поверхностных структур.
Этот стремительный бросок от Аристотеля к Н. Хомскому спрямил многие изгибы, но не исказил главного: для западной мысли характерна субстанциальная картина мира. Мир предстает здесь как совокупность вещей-субстанций. Именно так понятые вещи составляют «что» мира и обосновывают его единство, тогда как разнообразие и многоцветие мира, его «как» представлено свойствами, качествами, отношениями между этими вещами. На этой основе выстроена аристотелевская физика, объяснявшая в античности и средневековье строение мироздания; от этой основы не отказалась и нововременная наука.
Конечно, мы не можем не видеть, что вещи, понятые как субстанции, действуют или описываются числовыми параметрами; но мы замечаем это после того, как установили примат субстанциальности. Я хочу сказать, что многое в мире не будет укладываться — либо вовсе, либо без существенных искажений — в субстанциальную картину мира, однако это не заставит нас отказаться от нее и от соответствующей ей логики. Математика, изобретенная греками и развитая западной традицией, не стоит на фундаменте логики. Это служит помехой ее логическому осмыслению, не дает схватить ее единство (хотя совершенно не мешает ей развиваться), — но не приводит к отказу от оснований субстанциальной картины мира и к созданию полноценной логики, которая могла бы стать фундаментом математики.
Другой пример. Камнем преткновения для западной философии всегда служило осмысление процесса. Процессуальность не укладывается в субстанциальную картину мира, поскольку не может быть адекватно схвачена в ней. Дело в том, что истинность в субстанциальной картине мира связывается с вневременным состоянием вещи, с ее абсолютной вынесенностью из потока изменений. Западная философия потому и остается, как сказал Уайтхед, лишь рядом примечаний на полях сочинений Платона, что им выражено это понимание, составившее фундамент всего гигантского здания не только философии, но и, шире, мыслительной традиции Запада. Погруженное в поток времени изменяется, а значит, не тождественно самому себе, то есть неистинно, следовательно, не может служить субъектом в субъект-предикатных
428
конструкциях, описывающих подлинность мира (вспомним закон тождества), а значит, исключено из связной научной речи. Это — аксиома, задающая дихотомию временного-вневременного как изменчивого-постоянного, неистинного-истинного, чувственно-разумнопостигаемого. Раз так, процесс, протекающий во времени, просто не может быть причастен истинности, он не может быть схвачен через такое понимание истины. А потому мы либо вслед за Аристотелем сведем процесс к фиксации отдельных состояний вещи, не меняя субстанциальную картину мира, где становление превратится в загадочный перескок от потенциальности, представляющей собой одно состояние вещи-субстанции, к актуальности, являющейся другим ее состоянием; либо вслед за Делёзом, толкующим в своей «Логике смысла» стоиков, признаем иррациональность процесса и намеренно пойдем по пути его бессвязного описания.
Подведем итог сказанному. Язык не дает возможности построить связную картину мира, поскольку, во-первых, фактом категориального деления фиксирует сегментированность мира, а во-вторых, закрепляет эту сегментированность тем, что позволяет использовать в речи едва ли не любую из категорий в качестве подлежащего. Решительный шаг к связности совершается в философской логике, которая пробивается к монистическому видению мира через утверждение о том, что лишь одна из категорий представляет «что» мира и служит подлинным субъектом субъект-предикатных конструкций.
Различение двух способов построения картины мира, стихийно-языкового и отрефлектированного, — это различение плюрально-сегментированного и монистического видения мира. Но вот что важно заметить: переход от плюральности к монизму происходит за счет ужимания много- и разнообразия возможностей, предоставленных нам на языковом уровне, и отсечения всех вариантов построения осмысленной картины мира в пользу единственного, избираемого в качестве истинного. А истина едина, как един мир, поэтому такое ужимание трактуется как благотворное избавление от размытости языковой стихии в пользу твердости и четкости научного познания, руководствующегося только интересами истины.
Здесь — поворотный пункт нашего рассуждения. Это связано вот с чем: ужимание языкового многообразия в пользу субстанциально-логического монизма следует расценивать не как переход от неопределенно-размытого состояния к ясно-фиксированному. Напротив, его приходится трактовать как урезание возможностей осмысления, представленных на уровне языка и исчезающих на уровне логически-выстроенной монистической картины мира.
Этот момент очень важен, поэтому хочу остановиться на нем. Речь идет об урезании логических возможностей. Это значит, что построить логически-связную монистическую картину мира можно разными способами, а отнюдь не единственным, представленным опытом создания субстанциальной картины мира. Собственно, это должно было бы быть довольно очевидным, поскольку, во-первых, на такую возможность недвусмысленно намекает язык, а во-вторых, субстанциальная картина
429
мира неспособна исчерпать мир и оставляет за своими границами то, что не может быть в ней осмыслено (примеры были приведены выше). Альтернативная картина мира, таким образом, не просто возможна (подсказка языка), но и необходима (неисчерпанность мира в субстанциальной картине мира).
Помимо логических возможности и необходимости, отметим и настойчивые попытки западной мысли отказаться от субстанциализма и выстроить альтернативное видение мира. Учения такого типа называют по-разному, в том числе и «философия процесса». Я имею в виду прежде всего построения А. Бергсона и А. Н. Уайтхеда. Обратим, однако, внимание вот на что: несмотря на как будто радикальный разрыв этих мыслителей со всей предшествующей западной традицией, он остается скорее декларацией, поскольку не меняет наиболее фундаментального факта: дихотомии «бытие-становление» как задающей различение вневременного и временного, а значит, неизменного и меняющегося. «Философия процесса» переустанавливает акценты, не вторгаясь в эту схему по существу, и, по большому счету, пытается лишь убедить нас в том, что истину надо связывать с временным, а не вневременным. Не столь уж значительный успех в философии (отсутствие сильной школы и существенной разработки этих идей) — и серьезный отклик в научной мысли двадцатого века: популярность идей эволюции и коэволюции, историчности, процессуальности. Наблюдается разрыв между очевидной потребностью в новой, не-субстанциальной картине мира и ее явно недостаточной выстроенностью. Трудность здесь в том, что необходимо сменить самый глубинный фундамент, — а сделать это сложнее всего. Прибавим к этому наблюдавшееся до сих пор отсутствие сведений о реальном опыте построения иной, не-субстанциальной картины мира. Смысл моего рассуждения — в том, чтобы эту лакуну восполнить.
Прежде чем приступить к этому, отмечу одно обстоятельство. Целенаправленно построенная на началах философской логики, созданная для того, чтобы соткать единое полотно осмысленности, субстанциальная картина мира в принципе не справляется с этой задачей. Вероятно, того же можно ожидать и от альтернативной картины мира: она также будет упускать определенные аспекты мира, в том числе и те, что удачно схвачены субстанциальной картиной мира. В этом смысле язык более универсален, чем логико-философская картина мира: он содержит в себе намек на разные варианты построения монистических картин, ни одна из которых не может вместить все аспекты мира. Такие логико-философские картины альтернативны и именно поэтому множественны. Оказывается, что логико-философская картина мира культурно-зависима, тогда как языковая картина мира более универсальна, — вывод, который покажется парадоксальным сознанию, привыкшему связывать универсальность с наукой, а культурную специфику — с языком.
Картина мира, альтернативная субстанциальной, развита классическим арабским мышлением. Она построена на интуиции процесса, поэтому я называю ее процессуальной картиной мира. Рассмотрим ее на стихийно-языковом и логико-философском (отрефлектированном) уровнях.
430
Арабский язык предлагает своему носителю категориальное членение мира и в этом смысле не отличается от русского и других индоевропейских языков. Система категорий имеет свои особенности, но они для нас в данном случае не важны. Отметим только, что в арабском есть категория, называемая мас̣дар — букв. «исток». В русском ей приблизительно соответствует отглагольное существительное (например, «хождение», «сидение», «говорение»), в английском — герундий. Рассмотренный в составе формальных средств арабского языка, масдар не обнаруживает существенных особенностей, разительно отличающих эту категорию от тех, что встречаются в европейских языках. Мне важно подчеркнуть это, поскольку масдар как раз и выражает процесс — то, что лежит в основании арабской языковой и логико-философской картин мира.
Связь языка и мышления — один из излюбленных вопросов прошедшего века. Мы говорим о соотношении языковой и научно-отрефлектированной, целенаправленно выстроенной логически упорядоченным мышлением картин мира, что имеет прямое отношение к этому вопросу. Вот почему я хочу еще раз отметить, что арабский язык как таковой, то есть как именно язык, не обнаруживает в себе ничего, что с необходимостью предполагало бы процессуальную, а не субстанциальную картину мира. Более того, с точки зрения своих формальных средств этот язык не обнаруживает даже сколько-нибудь заметной склонности к формированию процессуальной картины мира.
Такая склонность обнаруживается не в арабском языке, а в речи на арабском языке. Это вещи, конечно, связанные, но вместе с тем совершенно различные, и различие это имеет прямое отношение к мышлению. Обычная речь спонтанна: мы ведь не можем сказать, что имеется некий сознательно применяемый нами механизм по формированию нашей речи, который был бы отличен от самой речи, каким служит, к примеру, перо для письма. И тем не менее некий «механизм», несомненно, действует, поскольку «на выходе» мы имеем то, чего не имеем «на входе»: в речи на арабском языке обнаруживается ярко выраженная склонность к процессуальному осмыслению мира, отсутствующая в арабском языке.
В самом общем виде это выражается в том, что отглагольная лексика в хорошем арабском тексте (то есть тексте, созданном носителем этого языка) составляет неизмеримо более значительную долю, чем в тексте на русском, английском или французском языках. Под отглагольной лексикой подразумевается мас̣дар «исток» (≈ отглагольное существительное), ’исм фа̄‘ил «имя действователя» (≈ действительное причастие) и ’исм маф‘ӯл «имя претерпевающего» (≈ страдательное причастие), как эти категории именуются арабской грамматикой. Я указываю в скобках условное соответствие терминам русской грамматики только для ориентира, вовсе не предполагая их эквивалентность; как увидим, эквивалентность-то как раз отсутствует.
Наблюдение о преобладании отглагольной лексики в арабском тексте принадлежит не мне, а моему учителю и другу, выдающемуся арабисту В. С. Сегалю. В ходе обучения арабскому, а затем в процессе устной и письменной переводческой работы мне не раз приходилось убеждаться в точности этого наблюдения и, более
431
того, в его практической пользе (оно помогает правильно понимать текст). Арабисты, с которыми я обсуждал этот вопрос, не выдвигали возражений, и я думаю, что статистическая обработка текстов на арабском и каком-либо из европейских языков выявит уверенные числовые закономерности, подтверждающие это. Рискну предположить, что львиная доля стандартных «корявостей» русско-арабского перевода, стабильно наблюдаемых у студентов и начинающих (или плохих) переводчиков, объясняется простой вещью: носитель русского языка неосознанно пытается воссоздать на арабском языке естественную для него субстанциальную картину мира, используя пласт неотглагольной лексики и строя фразы соответствующим образом. Корявость таких переводов — это не неправильность (они могут быть абсолютно правильными с точки зрения грамматики и, следовательно, понятными), а их несоответствие процессуальной картине мира, предполагаемой арабской языковой привычкой (то есть привычкой к построению речи). Более того, я думаю (да простят меня иранисты), что в классические времена великолепно писавшие по-арабски иранцы, не просто включенные в традицию классической арабоязычной науки, но и в значительной мере создавшие ее, строили свои тексты не так, как их строили арабы, и это «не так» объясняется контрастом субстанциальной и процессуальной картин мира, характерных для носителей персидского и арабского языков. Эта особенность текстов, созданных иранцами, безошибочно чувствуется при арабско-русском переводе: как бы ни были они сложны, эти тексты обычно гладко укладываются в естественный строй русского языка, в отличие от арабских, требующих либо отказа от гладкости русского языка ради адекватной передачи их строя (я имею в виду процессуальность), либо отказа от попытки отразить процессуальность ради гладкости русского перевода.
Итак, отглагольная лексика преобладает в арабском тексте. Но это означает не только ее изобилие, то есть не просто перераспределение пропорций в ее пользу за счет снижения частотности лексики других категорий. Это было бы слишком просто. Говоря о преобладании отглагольной лексики, я подразумеваю также и то, что она замещает лексику других категорий. Это замещение представляет собой куда более значительное явление, нежели простое количественное вытеснение других категорий.
Повторюсь: ни замещение, ни вытеснение не означают, что замещаемые и вытесняемые категории исчезают из языка. Вовсе нет. Я говорю только о речи, но не о языке. Рассматривая арабский язык, мы не смогли бы заметить обе эти крайне важные закономерности, замещение и вытеснение. Дело не в языке и его формальных средствах, а в том «механизме», который формирует речь. Эта область ускользает из виду в рассуждениях вроде тех, на которых построена гипотеза Сепира-Уорфа. Отсюда и неустранимая шаткость утверждений о зависимости мышления от языка, равно как и неубедительность противоположной позиции. А дело в том, что напрямую язык и мышление соотносить нельзя, несмотря на многочисленные свидетельства их взаимной согласованности; можно и нужно говорить о соотношении речи и мышления. А речь — это не язык; речь — это язык + механизм порождения связной речи. Слово
432
«связность» здесь — ключевое; именно связностью речь отличается от языка. Можно было бы сказать, перефразируя известное выражение, что в речи нет ничего, чего не было бы в языке, кроме связности. В том-то и вопрос, как возникает связность и откуда она берется; но прежде того — что такое связность. Лингвистика не отвечает на этот вопрос; она изучает в лучшем случае следы связности, которые обнаруживает как синтаксис предложений. Не отвечает на него и философия, погруженная в рассмотрение языка, а не речи; речь если и становится предметом анализа, то скорее в своих маргинальных проявлениях, а не в этом узловом, центральном пункте — в вопросе о связности.
Вернемся к замещению. В арабской речи два из трех представителей отглагольной лексики — имя действователя и масдар — могут замещать глагол. Не буду утверждать, что этот список полон; однако об этих двух типах замещения можно говорить уверенно.
Первый тип замещения заключается в том, что ’исм фа̄‘ил «имя действователя» употребляется вместо фи‘л «глагола». Это замещение встречается повсеместно в устной и письменной речи, оно характерно и для классического арабского языка, и для современных разговорных диалектов. Сохраняя свою устойчивость на протяжении почти полутора тысяч лет и пережив естественную эволюцию языка (я имею в виду современные диалекты, далеко отошедшие от классического арабского), этот тип замещения доказал свою неслучайность. Он, конечно, указывает на механизм завязывания речи, обеспечивающий ее связность, и мы попытаемся ниже высветить эти следствия. Но прежде надо сказать, в чем он заключается. Его суть проста: там, где мы употребили бы глагол, арабоязычный оратор употребит имя действователя. Например, уходя утром на работу и прощаясь с домашними, мы говорим по-русски: «Я ушел», — а по-арабски: ’ана̄ з̱а̄хиб. Когда нас кто-то настойчиво зовет, мы отвечаем: «Иду!», — а по-арабски скажем: джа̄’ӣ (или в полной литературной форме: ’ана̄ джа̄’ин). И так далее: арабист легко умножит подобные примеры.
В чем же разница между русскими и арабскими фразами? На первый взгляд, она невелика: вместо глагола в арабской фразе употреблено то, что арабская грамматика называет «имя действователя». Этот факт будет расценен лингвистом в большинстве случаев (если не всегда) как свидетельство склонности носителей арабского языка выбирать одну из языковых форм вместо другой. Ведь все дело в том, что по-арабски можно употребить и глагол. Мы могли бы перевести эти фразы на арабский слово в слово, использовав словарные эквиваленты для местоимения и двух глаголов. Грамматика это позволяет, и такие фразы не являются неправильными. Арабский язык, таким образом, позволяет сказать ровно то же, что сказано по-русски, и если в арабской речи эта форма замещается другой (не глагольной), то это свидетельствует лишь о случайных с точки зрения лингвистики предпочтениях носителей языка.
Но давайте приглядимся повнимательнее к тому, что сказано по-арабски. Мы так и не перевели эти две фразы на русский; попробуем же понять, что сказано в этих арабских фразах буквально.
433
Что может быть проще буквального перевода? Вопрос риторический: открой словарь да подставь эквиваленты. Однако я утверждаю, что фразы ’ана̄ з̱а̄хиб и ’ана̄ джа̄’ин и им подобные непереводимы на русский язык.
Почему? Это вытекает из простого наблюдения: з̱а̄хиб и джа̄’ин являются именами действователя для глаголов з̱ахаба «уходить» и джа̄’а «приходить», а в арабском имя действователя, равно как и имя претерпевающего, не указывают на время ни прямо, ни косвенно, поскольку не указывают на совершенность или несовершенность действия. Словарь скажет нам, что арабскому имени действователя соответствует в русском действительное причастие, — но это не так. «Уходящий» альтернативно «ушедший»: одно указывает на настоящее, другое — на прошедшее, и это верно для любого причастия, действительного или страдательного. Именно указания на время, ни прямого, ни по импликации, нет в арабских именах действователя и претерпевающего. Причастия в русском языке «принадлежат» глаголу, а в арабском — масдару, и разница здесь все та же: масдар, в отличие от глагола, не указывает на время.
Непереводимость этих (и им подобных) фраз заключается, следовательно, вот в чем: эти арабские фразы не указывают на время. В русском языке мы не можем построить «эквивалентную» фразу, которая не указывала бы на время. В английском указание на время будет встроено в связку; так же и во французском.
Подчеркну еще раз: арабский язык позволяет (то есть обладает для этого достаточными формальными средствами) выстроить речь так, чтобы указание на время имелось. В самом деле, если арабоязычному оратору надо указать на время, он без труда построит естественную фразу на арабском языке, в которой такое указание будет содержаться. Но если такой специально выраженной потребности нет, указание на время исчезнет, — и это позволяется арабским языком, хотя не допускается русским, английским или французским.
Мы можем теперь дополнить наши наблюдения о соотношении языка, речи и мышления. Арабский язык не предопределяет использования в арабской речи связных фраз (типа рассмотренных), не указывающих на время, но лишь предоставляет такую возможность. Русский, английский, французский не предоставляют своему носителю такую возможность вовсе. На русском и арабском можно было бы высказываться эквивалентно, поскольку и там и здесь можно строить речь с указанием на время. Оказывается, однако, что речь носителей арабского языка устроена так, что эквивалентность отсутствует, если носитель языка не испытывает необходимости в специальном указании на время.
Почему же это так важно? Вот почему: процесс для арабского языкового мышления не связан с временным изменением. Впрочем, это — свойство не только арабского языка: мы легко поймем, о чем идет речь, вспомнив слова вроде «хождение» или «говорение». Но роль таких слов в русской речи — совсем не такая, как в арабской. В субстанциальной картине мира неизменность и истинность связаны вовсе не с процессами, а с вневременным состоянием вещи-субстанции, которое исключает любую длительность, вынесено за ее пределы. В отличие
434
от этого, процесс — это длительность; но такая длительность, которая не предполагает изменения.
Вот почему арабская речь избегает, где только возможно, указания на время: для завязывания этой речи важно сохранить процессуальность. Связывание субъекта и предиката в арабском совершается не благодаря глагольной связке «быть», а в силу синтаксической связи, именуемой исна̄д (букв. «опирание»): предикат, сказуемое предложения, «опирается» на его подлежащее, и благодаря такому «опиранию» (процессу, надо заметить) завязывается смысл фразы — особый смысл, не сводящийся к смыслу отдельных составляющих ее слов; так возникает связность. Поскольку эта связность возникает не на глагольной основе, она также не передает значения времени.
Процесс устойчив во времени; протекая во времени, он не изменяется. В этом его отличие от действия: действие, совершаясь, предполагает постоянное изменение. Процесс в арабском выражается масдаром, действие — глаголом. Вот почему отглагольная лексика — масдар и два его «подопечных», имя действователя и имя претерпевающего, — вытесняет лексику других категорий и замещает глаголы: на уровне речевой практики процессуальность доминирует. Процесс — это своего рода устойчивая «стяжка» между действующим и претерпевающим, располагающаяся «между» ними и фиксирующая их связанность.
Рассмотрим замещение второго типа: масдар вместо глагола. Я имею в виду обороты вроде д̣арбу-ха̄ ’иййа̄-ху. Обычно их переводят, используя глагол: «Тот факт, что она ударила его…». Мы могли бы передать арабскую фразу и буквально: «ударяние его ею». «Ударяние» — процесс, в отличие от действия «ударил». В арабском мы не знаем, сколько длился (или все еще длится) процесс «ударяния» и сколько, следовательно, действий «ударяния» было совершено, то есть сколько ударов было нанесено: может быть, один, а можем быть, много. В этом смысле русское «ударяние» точно передает то, что сказано по-арабски, — но мы так не говорим. А по-английски можно передать то же вполне естественно для этого языка: Her beating him…, продолжив и получив нормальное предложение. Для этого типа замещения контраст между арабским и европейскими языками не абсолютен, он может быть более или менее заметен. Это подтверждает высказанную выше мысль: язык более универсален, чем логико-философская монистическая картина мира, поскольку содержит в себе возможности, избыточные для построения того или иного варианта монистической картины мира и потому урезаемые в ней.
Процессуальность, склонность к которой обнаруживает арабская речь и удобные средства выражения которой предоставляет арабский язык (именно в этом может быть замечен его контраст с европейскими языками), проявляется и на уровне теоретического мышления. Здесь придется сказать об этом очень кратко, пунктиром обозначив только некоторые яркие моменты.
Если для мышления, движущегося в рамках субстанциальной картины мира, мир состоит из вещей-субстанций, то для мышления, видящего мир процессуально, он складывается из вещей-процессов. Под словом «вещь» я понимаю нечто
435
устойчивое, то, о чем можно говорить как о равном себе и истинном. Именно процесс обладает такими характеристиками для классического арабского теоретического мышления. Внимание сосредоточено на исследовании процессуального перехода между двумя сторонами процесса — исходной (инициализирующей) и результирующей; эти две стороны и представлены в языке категориями имени действующего и имени претерпевающего. Так устроено практически все здание ранней, еще не подвергшейся тотальному влиянию греков и потому автохтонной мутазилитской мысли, прежде всего в области философии. Интереснейшие построения, приведшие к созданию атомистической теории времени и пространства, имеют эту архитектонику и только в силу этого оказываются в ней абсолютно логичными — и потому несовместимыми с построениями на аналогичные темы, выполненными в античности в рамках субстанциальной картины мира (я имею в виду аристотелевскую концепцию времени и пространства). На этом же основании стоит физика мутазилитов и их этика. Примеры можно продолжить, выходя за пределы философии и проникая в другие сферы классической арабской культуры. Определяющее влияние процессуальной картины мира обнаруживается во всех ее областях, включая невербальные.
Субстанциальная картина мира плохо справляется с осмыслением процессуальности. Для процессуальной картины мира должно быть верно обратное: в ней должно плохо удаваться отражение субстанций. Я приведу лишь один, но очень яркий пример, подтверждающий это.
Общим местом историко-философской арабистики служит утверждение о том, что арабы, имея в своем распоряжении тексты Платона, по существу, не восприняли платоновский идеализм и не сделали его фундаментом описания мира. В этом смысле они прошли мимо него, как если бы его не было. Пока в науке были позволительны неполиткорректные высказывания, это объясняли философской невосприимчивостью арабов; позже перестали как-либо объяснять, поскольку другой причины просто не видели. Отдельные исключения и здесь подтверждают правило, а не опровергают его: именно Аристотель с его вниманием к движению и к актуальности (т. е. — прислушаемся — к действенности) стал основой объяснения мира в тех школах арабо-мусульманской философии, которые строились на основе греческого наследия. Между тем платоновский идеализм — это самый фундамент субстанциальной картины мира, выражение того типа трансцендирования, который составляет его основу. В своей знаменитой статье [Масиньон 1978] французский ученый красочно описывает отличие арабского (точнее, он говорит вообще о «мусульманском») мировосприятия от греческого, полагая его прежде всего в отсутствии какого-либо представления об устойчивости вещей и мира в целом. И Масиньон прав — постольку, поскольку сам он, вслед за греками, ищет и находит устойчивость только как субстанциальную, а такая устойчивость для «автохтонных исламских философов» (выражение Масиньона) и в самом деле не представляла интереса. Но Масиньон совершенно неправ — постольку, поскольку не видит, что арабское мышление процессуально
436
и обнаруживает устойчивость не в субстанции, а в процессе. Мир устойчив для него как процесс, а не как субстанция.
Пришло время подвести итог. Понимание культуры как способа смыслополагания позволяет дотянуться до наиболее фундаментального пласта — того «механизма», который отвечает за формирование осмысленности, понимаемой прежде всего как связность и единство. Культуры различны во многих отношениях, едва ли не бессчетных; однако наиболее фундаментальное различие — в работе этого «механизма». Оно разделяет далеко не все культуры. Мы не испытываем существенных неудобств в том, чтобы говорить о «западной культуре» или «западной мысли». При всех гигантских различиях во времени и пространстве между тем, что относят к «Западу», единство этого культурного ареала невозможно отрицать. Думается, его основание — тот фундаментальный механизм смыслополагания, который приводит к формированию субстанциальной картины мира. Точно так же для арабского (возможно, шире: семитского) культурного ареала его глубинное, фундаментальное единство обеспечивается функционированием механизма смыслополагания, результатом которого становится процессуальная картина мира.
 |

|
437
Вопрос о «культурной специфике» поднимается в самых разных контекстах. Такая специфика более чем охотно признается, к ней как будто уважительно и всерьез относятся и архитекторы глобального мироустройства, и идеологи политкорректности, и теоретики мультикультурности, и многие, многие другие. Вопрос, однако, не в том, чтобы утверждать наличие культурной специфики, которую практически никто и не отрицает; вопрос в том, чтобы понять, что означает такое признание.
1. Общее и особенное
Очевидно, что понятие «культурная специфика» не может не имплицировать наличие чего-то общего, единого для разных культур, устойчиво-повторяющегося в них. В этом общем и едином воплощается нечто существенное, к чему может прибавляться какая угодно специфика, но что не отменяется никакой спецификой.
Такова едва ли не всеобщая парадигматика рассуждений об объединении, взаимодействии или диалоге культур, неважно, в рамках ли одной страны, одного региона или всего мира. Эта парадигматика не зависит от критики или принятия историцизма, поскольку «существенное» и «устойчивое» вовсе не означает «неизбежно осуществляющееся». Она, однако, неминуемо имплицирует линейность и, как следствие, принципиальную сравнимость культур.
Попытки устранить названные импликации, предпринимаемые в теориях, авторы которых критикуют «эссенциалистский» подход и стремятся к признанию «равнозначности» культур, вряд ли можно признать успешными. И дело не в степени прозорливости теоретиков, а в самой логике рассуждения.
Всякое сравнение культур подразумевает какое-то их взаимодействие: изучение абсолютно изолированных культур вряд ли выходит за рамки профессиональных интересов культурных антропологов. Подобное взаимодействие, во всяком случае взаимодействие, стремящееся быть конструктивным, — а иногда и взаимодействие разрушительное, — предполагает некое основание. Такое основание, поскольку речь идет о взаимодействии, не может не быть общим. Далее, это общее основание, как считают, заключается в признании чего-то общего, принятии некоего «вот-этого» тезиса или набора тезисов в качестве взаимно-признанного. Чем серьезнее предмет
438
взаимодействия, тем более существенным будет предполагаемое общее основание такого взаимодействия. Даже если в чистой теории отказаться от понятия «сущность культуры», обсуждение практики межкультурного взаимодействия не может не опираться на предположение о наличии чего-то общего и совпадающего в разных культурах и при этом более важного, нежели межкультурные различия, во всяком случае, более важного в контексте данного межкультурного взаимодействия.
И последняя принципиальная черта циркулирующих теорий межкультурного взаимодействия: это общее и совпадающее мыслится как нечто наличное или в принципе могущее наличествовать в качестве чего-то субстанциального, чего-то «вот-этого», что может быть выражено в некоем тексте, который бы фиксировал такое общее.
Дело совершенно не меняется от того, что каждую конкретную реализацию такого текста можно подвергать сомнению и критике, а каждую конкретную стадию его формулировки и реального осуществления его положений считать недостаточной. Дело в том, как в принципе мыслится идеал взаимодействия культур (пусть его осуществление и отодвигается в бесконечно далекое будущее): как согласие по поводу субстанциально-определенного общего и максимальное сохранение всего специфического, что не противоречит такому общему.
Названные импликации — не что иное, как априорные по своему характеру допущения. В их принятии на веру как таковом нет ничего предосудительного. Вопрос в том, оказывается ли такое априорное постулирование еще и догматическим; содержит ли оно утверждения о действительности, оправданные чем-либо, кроме нашей привычки.
2. Инаковость
Чтобы проверить это, условимся говорить не о «специфике», а об «инаковости» культур.
Понятие «инаковость» свободно от импликаций, оправданность которых я ставлю под сомнение. Вместе с тем «инаковость» не страдает безликостью, отличающей многочисленные понятия, с помощью которых стремятся избежать «эссенциалистских» утверждений или, напротив, высказать таковые: «различие», «многообразие», «самобытность», «несводимость» культур и т. д. Это станет ясным по мере развития понятия «инаковость».
Будем различать, как мы это делали выше, инаковость содержательную и инаковость логико-смысловую.
В самом общем виде различие двух типов инаковости заключается в следующем: в одном случае речь идет о конкретном содержании, во втором — о способе его формирования.
Культура может характеризоваться наличием или отсутствием монотеистической религии, высоких технологий, экологической чуткости и несчетного количества других элементов. В разных культурах набор таких элементов может быть
439
различен, а каждый из них может быть развит в разной степени или иметь разное «наполнение». Такая содержательная инаковость характерна едва ли не для любой пары сравниваемых культур.
Содержательная инаковость сама по себе не отрицает и не предполагает существенной общности культур в том или ином вопросе. Иначе говоря, если речь идет о содержательной, и только о содержательной инаковости, подобная общность принципиально достижима, и даже если в реальном диалоге две содержательно-инаковые культуры не достигли ее, ничто не мешает им надеяться на успех в будущем. В этом случае допущения теорий межкультурного взаимодействия (мы говорили о них выше) не являются неоправданными, и такая общность двух культур, если им удастся прийти к согласию, будет выражена в качестве некоего конечного, фиксированного текста: это будет, иначе говоря, субстанциально-общее.
Ситуация существенно меняется, когда речь идет о логико-смысловой инаковости.
Логико-смысловая инаковость является следствием различия в осуществлении фундаментальных процедур рациональности: во-первых, соотнесения противоположностей и снятия противополагания благодаря достижению их единства и, во-вторых, соотнесения целого и части. Сам факт такого различия не равнозначен некорректности осуществления этих процедур в какой-либо из взаимно-инаковых культур. Базовые процедуры рациональности оказываются равно правильными и при этом альтернативными в силу того, что «поведение» смысловой материи различается в двух культурах, инаковых в логико-смысловом отношении.
Понятий, столь же многозначных и расплывчатых, как «культура», найдется не так много. Понимание культуры как логико-смысловой целостности позволяет придать ему некоторую устойчивость. Любой сколько-нибудь развернутый дискурс, тем более дискурс, предполагающий аргументацию, не может быть свободен от логико-смысловой определенности, поскольку в нем не могут не осуществляться (или имплицитно полагаться в качестве осуществленных) названные процедуры. Значение логико-смысловой определенности культуры выходит за пределы сферы теоретического дискурса, однако этот аспект лежит за рамками нашего рассуждения.
Я намечу подход к анализу логико-смысловой архитектоники арабо-мусульманской культуры на примере категорий «вера» и «разум». Логико-смысловое устроение западной культуры составит фон для контрастного сравнения.
3. «Светское» и «духовное», дунйа̄ и дӣн:
логико-смысловое устройство понятий
Хорошо известно, что в арабо-мусульманской культуре отсутствовало и отсутствует разделение на светское и духовное в том виде, в каком оно было характерно для западного общества (и остается характерным и сейчас, несмотря на сжатие сферы церковно-духовного). Иначе говоря, само различение того, что относится к сфере
440
религии, и того, что относится к земной жизни, в классической арабо-мусульманской культуре осуществляется достаточно последовательно: оно выражено (соответственно) понятиями дӣн (букв. «религия») и дунйа̄ (букв. «ближняя [жизнь]»).
Но что вытекает из такого последовательно проведенного различения понятий?
3.1. Это их различение предполагает и отделение одного от другого. Однако все дело в том, что данное различение, отделение устроено в арабо-мусульманской культуре не так, как в западной: здесь нет религиозного искусства в отличие от искусства светского, нет церковного права в отличие от светского и т. д.
Иначе говоря, отсутствие дихотомического разделения этих двух областей при их безусловном различении и противопоставлении пронизывает все сферы классической арабо-мусульманской культуры, от устройства власти, права и собственности до архитектуры, поэзии и музыки, причем такое положение дел очевидным образом отличается от того, что имело и имеет место в западной культуре121. Это различие двух культур обычно рассматривается как чисто содержательное.
Трактуя названный феномен в содержательном плане, говорят о «тотальности» ислама, который-де «больше, чем религия» и подчиняет себе все стороны жизни. Поскольку этот вывод делается в логике западной культуры, он означает, что ислам не оставляет места для автономии разума, ибо вера и разум альтернативны: можно либо «принять на веру», либо «познать рационально»2. Следствия такого вывода многочисленны, вплоть до риторики по поводу разработки известных стратегий модификации мирового устройства с целью «приблизить» исламские страны к западным стандартам.
3.2. Названный феномен арабо-мусульманской культуры имеет, однако, не содержательный, а логико-смысловой характер. Западная культура в общем и целом противополагает понятия «вера» и «знание», и если в средние века философии—служанке теологии было дозволено заниматься тем, что не входит в компетенцию веры, то век Просвещения лишь изменил знаки этой субординации на обратные, объявив об автономии разума как высшего судии и допустив веру в области, где она не мешала бы разуму осуществлять свое господство. Такова логика соотношения этих понятий, и она куда более устойчива, чем их флуктуирующее содержательное наполнение.
441
Однако для арабо-мусульманской культуры логика работы с понятиями «вера» и «знание» — совсем другая. Здесь противоположностью «знания» выступает вовсе не «не-знание», а «действие».
Такое противополагание можно было бы объявить странным или некорректным, если бы само противополагание не было устроено иначе, нежели к тому привыкло западное мышление. «Знание» и «действие» — противоположности, но не взаимно исключающие, а непременно предполагающие одна другую как собственное условие и переходящие одна в другую.
Далее, в таком переходе знания в действие (и, соответственно, в гармоничной обусловленности действия знанием) утверждается «вера». Вера снимает противопоставленность знания и действия и в этом смысле служит для них общим понятием. Общее утверждено переходом друг в друга «нижестоящих» противоположностей — но оно не включает их в себя ни в каком смысле (ни в том, в каком идея заключает в себе возможность своих индивидуальных воплощений, ни в том, в каком синтезирующее понятие удерживает синтезируемые противоположности, ни в каком либо еще).
3.3. Таково, говоря предельно схематично, логико-смысловое устройство категорий «вера» и «знание» в арабо-мусульманской культуре.
Оно означает, что «вера» и «знание» в этой смысловой логике не могут быть противопоставлены, а сама идея достижения автономии разума благодаря его освобождению от господства веровательных установок будет не неверной (когда бы можно было искать дополнительные аргументы в ее пользу), а бессмысленной. Такая идея, если следовать удачной подсказке английского фразеологизма, «не делает смысл» (does not make sense), а потому обсуждать ее просто нельзя. Арабо-мусульманская культура включается в разговор только после восстановления правильных (с ее точки зрения) логико-смысловых отношений между понятиями «вера» и «разум».
С другой стороны, логико-смысловое устройство арабо-мусульманской культуры позволяет считать, что едва ли не любое знание, гармонично связанное с действием и переходящее в него, создает веру. (Единственное приходящее на ум априорное исключение — прямое отрицание единобожия, выраженное эксплицитным тезисом с именно таким прямым значением.) Вот почему арабо-мусульманские теоретики и прошлого, и настоящего с таким вдохновением утверждают, что все в исламской культуре освещено светом веры, что любое действие, вплоть до движений гончара или плотника, неотъемлемо от веры.
Этот тезис верен, но только при условии его понимания в пространстве логико-смысловых закономерностей арабо-мусульманской культуры: знание (например, знание плотника, перешедшее в действия его руки, строгающей дерево) не следует понимать как «включенное в» веру и, следовательно («следовательно» для западного мышления), как «религиозное» знание (которое в силу тех же логико-смысловых закономерностей западного мышления могло бы быть противопоставлено «нерелигиозному» знанию): знание и действие как таковые внеположны вере, и для
442
мышления арабо-мусульманской культуры «знание» просто не принимает предикат «веровательное» или «вневеровательное»1. В силу той же смысловой логики арабо-мусульманская культура не ставила и не ставит препятствий на пути развития научного знания (речь не об известных случаях экстремизма и фанатизма, которые своей исключительностью как раз подтверждают правило и которые — это следовало бы ясно понимать и использовать — противоречат логике самой арабо-мусульманской культуры), и стремление увидеть всю сумму современных научных знаний как гармонично присутствующих в арабо-мусульманской культуре и никак не противоречащих вере (напротив, служащих одним из ее конституирующих элементов) прослеживается вплоть до нынешнего времени в сочинениях виднейших мусульманских теоретиков (один из ярких примеров начала XX в. — М. Икбал [Икбал 2002]).
3.4. Я говорил, что арабо-мусульманская культура различает светское и духовное. Далее, я утверждаю, что знание в этой культуре не может быть противопоставлено вере. Теперь следует ответить на вопрос: возможно ли такое, и если да, то как именно?
Вполне естественным покажется на первый взгляд предположение, что арабо-мусульманская культура различает светское и духовное непоследовательно, что это различение, не доходя до четко и ясно осознанной дихотомии, не дает возможности столь же ясно и четко разделить знание и веру, светское и духовное. Этот вывод, напрашивающийся как будто сам собой, обосновывает столь распространенное представление о «теократическом» характере важнейших, системообразующих феноменов исламской культуры, таких как право или устройство власти. Столь же естественная, как и сам этот вывод, его импликация заключается в том, что в принципе было бы правильным довести такое различение знания и веры, светского и духовного до конца, провести его четко и последовательно: исламские страны, не задающие сегодня (в отличие от ситуации тысячелетней давности) цивилизационного образца для других культур, вполне могли бы поучиться такому разделению там, где оно проведено успешно и где достигнуты очевидные культурные плоды такого развития. В том, что именно такая логика обосновывает идеи «подтягивания» исламских обществ до «общечеловеческих» стандартов цивилизационного развития, сомневаться вряд ли приходится, пусть это рассуждение и будет замаскировано более или менее тщательно риторикой политкорректности.
Суть того, о чем я говорю, заключается в утверждении, что такое рассуждение целиком неверно. Оно неверно не потому, что не учитывает какие-то реалии арабо-мусульманской культуры. Оно неверно в силу того, что не соответствует ее логическому строению, ее логике работы с понятиями. Это рассуждение ошибочно вследствие того, что не принимает во внимание логико-смысловую, а вовсе не содержательную инаковость арабо-мусульманской культуры.
443
3.5. Каково же логико-смысловое устройство этой культуры в части понятий «светское» и «духовное», «вера» и «знание»? Ответив на этот вопрос, мы вместе с тем поймем, как соотносятся эти понятия, где их различение выступает как противополагание, а где нет и на каком основании строится такое противополагание.
Начнем с категорий «вера» и «знание». Суть дела заключается в том, что в арабо-мусульманской культуре вера не только не противопоставлена знанию; она не является и не-противопоставленной знанию. Иначе говоря, знание и вера не образуют противоположность и их не связывает противоречие, поскольку они не сополагаются напрямую, линейно.
Для процессуально-ориентированного мышления противополагание устроено таким образом, что противоположности взаимно обусловливают друг друга и переходят одна в другую. Это взаимное обусловливание — онтологическое, а не логическое; такое обусловливание и выражается в их взаимном переходе. Вообще говоря, полагание онтологической возможности друг друга и взаимный переход — единое условие, взятое в двух аспектах, а не два разных условия. Иными словами, в рамках процессуальной логики не могут противополагаться такие понятия, которые не удовлетворяют данному условию: понятия, которые не фундируют друг друга онтологически.
Такое взаимное онтологическое обусловливание верно, как уже говорилось, для знания и действия, а не для знания и веры. Следовательно, в арабо-мусульманской культуре противополагаются знание и действие, а не знание и вера1. Вот почему рассуждение о противопоставленности веры и знания в арабо-мусульманской культуре будет бессмысленным с точки зрения ее логики работы с понятиями.
Означает ли это, что понятие «вера» в арабо-мусульманской культуре вовсе не связано с понятием «знание»? Конечно, нет; но эта связь — не противопоставление. Знание-переходящее-в-действие производит веру: вера является результатом взаимного онтологического фундирования знания и действия. В этой логике «вера» служит понятием, обобщающим «знание» и «действие», понятием, обеспечивающим их единство. Идея устранения веры (как бы такое устранение ни понималось) — это идея устранения единства и взаимной согласованности действия и знания.
3.6. Итак, «знание-действие-вера» образуют одну «гроздь» понятий. Перейдем теперь к понятиям дунйа̄ и дӣн, которые мы считаем арабским эквивалентом для понятий «светское» и «религиозное» соответственно. Каково, во-первых, соотношение между дунйа̄ и дӣн? Каково, во-вторых, отношение пары этих понятий
444
к семейству понятий «знание-действие-вера», связанных в арабо-мусульманской культуре теми логико-смысловыми закономерностями, которые мы рассмотрели?
Наряду с парой дунйа̄-дӣн (букв. «ближняя [жизнь]»-«религия»), в арабо-мусульманской мысли функционирует пара дунйа̄-’а̄х̱ира («ближняя [жизнь]»-«другая [жизнь]»). Иногда они взаимозаменимы, но чаще их разделяет различие, неплохое представление о котором дает их перевод: первая пара понятий связана скорее с эпистемологическим, а вторая — с онтологическим аспектом противопоставления «здешней» и «тамошней» жизни. Нас интересует сейчас понятие «знание», поэтому для нас важнее противопоставление дунйа̄-дӣн; вместе с тем логика противополагания в обоих случаях одна и та же.
Это — логика взаимного онтологического фундирования противоположностей, пример которой нам продемонстрировало противопоставление знания и действия в арабо-мусульманской культуре. Дунйа̄ и ’а̄х̱ира, здешняя и тамошняя жизнь, противополагаются — но именно в силу этого они рассматриваются как взаимно обусловливающие, взаимно соответствующие и переходящие одна в другую. Соотношение между ними — это никак не соотношение между «градом земным» и «градом небесным».
В качестве иллюстрации я приведу всего одно высказывание:
Лучшие в этом народе — те, кого тамошняя [жизнь] (’а̄х̱ира) не отвлекает от здешней (дунйа̄), а здешняя — от тамошней [Сулами 1986: 58]1.
Его автор, ал-Мух̣а̄сибӣ (IX в.), известен как выдающийся в арабо-мусульманской культуре пример человека, призывавшего к ежемгновенному самоотчету2 во всех своих действиях. Согласно ал-Мух̣а̄сибӣ, каждый должен смотреть на себя как будто со стороны, так, как на нас смотрит Бог, и тем самым постоянно контролировать себя. Это, повторю, выдающийся, по оценке самой арабо-мусульманской культуры, пример самоконтроля, т. е. контроля здешней жизни с точки зрения будущей, рассмотрения здешней жизни через призму интересов будущей. И тем не менее такая напряженность вовсе не означает какого-либо умаления этой жизни в сравнении с тамошней: как видно из приведенного высказывания, они равноправны, не заслоняют друг друга ни в каком смысле. Добавлю, что речь идет не о каком-то маргинальном тезисе: у ас-Суламӣ он занимает второе место среди всех высказываний ал-Мух̣а̄сибӣ, а в другом сочинении, содержащем собрание его изречений [Шарани: 75], приведен в преамбуле, сразу после кратких биографических сведений, в качестве своеобразной «визитной карточки» ал-Мух̣а̄сибӣ. Все это означает, что даже для автора, взгляд которого постоянно прикован к тамошней жизни, остается принципиальным требованием, чтобы та жизнь не заслоняла эту: отношение
445
между ними строится как отношение рядоположенных, а не иерархически соподчиненных элементов.
Это логико-содержательное основание не только проявляет себя в соотнесении «здешней» и «тамошней» жизни, но и находит выражение во многих других элементах арабо-мусульманской культуры (представление о посильности, «человекомерности» ислама; положение о преемничестве человека Богу в управлении Землей; умеренность и отвержение любой чрезмерности; отсутствие института монашества; неприятие страдания и т. п.), в самом ее устройстве, но рассмотрение этого вопроса — предмет отдельного исследования.
Что касается пары дунйа̄-дӣн («ближняя [жизнь]»-«религия»), то она, как уже говорилось, скорее (хотя вовсе не исключительно) связана с интересующим нас понятием «знание». Вспомним характерное название знаменитого труда ал-Г̣аза̄лӣ Их̣йа̄’ ‘улӯм ад-дӣн (букв. «Воскрешение религиозных наук»)1. Не менее известен и цитируем хадис, описывающий не оправдавшийся совет Мухаммеда отказаться от традиционного искусственного опыления пальмы, в результате чего та осталась бесплодной: на вопрос озадаченных пальмоводов пророк ответил, что пришел научить людей их религии (дӣн), и именно в этом надлежит следовать его наставлениям, тогда как «о делах дольнего мира вы осведомлены лучше меня» (антум а‘лам би-’умӯр дунйа̄-кум). Таким образом, различение «религиозного знания» и «знания о дольнем мире» в исламской мысли, безусловно, присутствует и подкреплено самыми высокими авторитетами. И хотя термины, выражающие такое разделение (‘улӯм ад-дӣн, ‘илм ад-дӣн, ‘илм дӣнийй, ‘улӯм дунйавиййа и т. п.), встречаются в классических текстах не столь уж часто, сама идея различения двух типов знания присутствует в рассуждениях представителей исламской мысли и прошлого, и настоящего.
Однако все дело в том, что эти два вида знания — «религиозное знание» и «знание о дольнем мире», составляя вполне очевидное противоположение, соотнесены именно по той логике противополагания, которая характерна для арабо-мусульманской мысли: не как исключающие одно другое, а как взаимно фундирующие, составляющие возможность одно другого. Ведь именно в этом суть ответа Мухаммеда, к авторитету которого прибегают и сегодня, рассуждая о соотношении «исламского» и «неисламского» знания. Как «здешняя жизнь» (дунйа̄) соотносится с жизнью «тамошней» (’а̄х̱ира), так соотносится и знание о здешней жизни и религиозное знание: они не совпадают, каждое имеет свою автономную и неотменяемую сферу, но они не «командуют» одно другим, между ними нет однозначного иерархического соподчинения как безусловно низшего — безусловно высшему, когда бы низшее обессмысливалось и терялось в величии
446
высшего. Конечно, все, что связано с «тамошней» жизнью, лучше — но лишь постольку, поскольку та жизнь, в отличие от здешней, не прейдет; во всем остальном земная жизнь и все, что с ней соотносится, сохраняет свое неотменяемое значение. Поэтому дольняя жизнь, равно как и знание, с ней связанное, должна быть такой, чтобы не отменить для человека возможность жизни тамошней, равно как не отменить знание о тамошней жизни и путях его достижения, — но это совсем не значит, что дольняя жизнь или знание о ней не имеют собственной, автономной силы и ценности. Противоположности не отменяют одна другую, не стремятся вытеснить друг друга — напротив, они обосновывают возможность одна другой.
3.7. Сказанное отнюдь не означает, что «мирское знание» и «религиозное знание» сосуществуют в арабо-мусульманской культуре бесконфликтно. Их бесконфликтность — нормативна; но ведь норма не тождественна действительности. Однако суть дела в том, что реально возникавший и возникающий конфликт между двумя видами знания имеет в арабо-мусульманской культуре другую логическую природу, нежели в западной культуре.
Это различие логики конфликтования двух видов знания является прямым следствием различий в логике их нормативной согласованности. «Быть согласованным» означает в логико-смысловом пространстве арабо-мусульманской культуры «онтологически предполагать свою противоположность», «взаимно обосновывать возможность друг друга». В логико-смысловом пространстве западной культуры «быть согласованным» означает быть вписанным внутрь некоего общего поля и, обладая собственными специфическими чертами, не противоречить общему полю постольку, поскольку оно — общее.
Конфликт веры и знания в западной культуре имеет эту фундаментальную логику: либо религиозная догма, либо автономный разум задает ту абсолютно приоритетную общую рамку единого мировоззрения, за пределы которой выстраиваемое знание не должно выходить и основным принципам которой оно не должно противоречить. Именно поэтому конфликт решается здесь по принципу «или-или»: противоположности не могут равно задавать общий контур так выстраиваемого единого знания.
Конфликт «религиозного знания» и «мирского знания» (но не знания и веры; к этому мы вернемся чуть ниже) в арабо-мусульманской культуре возникает вследствие нарушения характерной для этой культуры логики противополагания. Эта логика — иная, нежели в западной культуре, а потому и конфликт носит иной характер. Здесь нет императивности общего поля, общей рамки, которую должен был бы задавать один из видов знания. Поэтому конфликт между ними — это не борьба за абсолютное первенство. Конфликт религиозного и мирского знания возникает в арабо-мусульманской культуре в том случае, если происходит нарушение их взаимного фундирования. Но требование сохранить возможность взаимного фундирования носит совершенно другой характер, нежели требование непротиворечия общим принципам, общей рамке.
447
Различие заключается в том, что требование взаимного фундирования (когда одному виду знания «не хватает» другого, причем это другое знание принципиально выходит за пределы данного — но вместе с тем совершенно необходимо ему) нарушается в случае прямой, непосредственно выраженной несовместимости тезисов двух видов знания. Такая несовместимость должна носить именно непосредственный характер, когда прямое сопоставление двух тезисов выявляет их антиномичность1.
При этом речь не идет о тотальном «вписывании» одного вида знания в пределы какого-то общего пространства: подобная операция была бы необходима в том случае, если бы два вида знания должны были согласовываться в пределах некоего общего поля и не противоречить так заданным общим принципам. Но такого требования к «знанию дольнего мира» и «религиозному знанию» не предъявляется в логике соотнесения противоположностей в арабо-мусульманской культуре. Вот почему различение двух видов знания не означает в исламской мысли их противопоставления как дихотомических, взаимно исключающих противоположностей.
3.8. Таким образом, взаимно фундируя друг друга, «знание дольнего мира» и «знание религиозное» образуют то единое «знание» (‘илм), которое противопоставлено «действию» (‘амал). Благодаря взаимной связанности этого теперь уже единого знания, с одной стороны, и действия — с другой, возникает «вера» (’ӣма̄н).
Эта логико-смысловая архитектура принципиальна для понимания соотношения понятий «вера» и «знание» в арабо-мусульманской культуре: знание, будь то религиозное или внерелигиозное, не противопоставляется и логически не может быть противопоставлено вере. Если речь идет о конфликте доктринальных установлений (объем которых в исламе, кстати сказать, несоизмеримо мал в сравнении с христианской догматикой) и отдельных положений философии или науки, то это — конфликт внутри знания, а не конфликт знания и веры. В силу этого такой конфликт возникает на других основаниях и решается другими методами.
Не указывая на эту логическую природу соотношения знания и веры в арабо-мусульманской культуре, исследователи точно фиксируют сам факт отсутствия их антиномии. Так, Н. С. Кирабаев утверждает:
Особенности идеала знания в мусульманской культуре определялись шариатом, в соответствии с которым вера и разум не только не противостоят друг другу, но и взаимодополняют друг друга в проблемном поле знания [Кирабаев 2002: 318].
Этот тезис как таковой нельзя не признать справедливым, и доказательству его истинности и — главное — обоснованию его логической необходимости и посвящена данная моя работа.
448
Однако все дело в том, что без понимания логико-смысловой архитектоники арабо-мусульманской культуры суждения о ней, в частности попытки объяснить этот совершенно правильно фиксируемый феномен, делаются на основе логико-смысловых закономерностей уже не арабо-мусульманской, а западной культуры.
Там, где я прервал цитату, Н. С. Кирабаев продолжает:
Таким образом, средневековая мусульманская культура исходила и ориентировалась на такой идеал знания, который можно назвать единым и целостным, своего рода комплексным. Например, работу известного средневекового мыслителя ал-Газали (1058—1111) «Возрождение религиозных наук» можно одновременно считать и философской, и юридической, и религиозной, и лингвистической, и культурологической, т. е. междисциплинарной в современном понимании [Кирбаев 2002: 318].
Это объяснение оставляет вопросы. Прежде всего, что означает «комплексность» знания? На энциклопедический («комплексный») идеал знания ориентировалось и европейское Просвещение, которое как раз ясно разделяло знание и веру. Соединение разнородного трудно назвать и междисциплинарностью, поскольку последняя предполагает нечто большее: выделение особой проблематики и методологии, требующей синергии разных наук, а не просто их арифметического сложения. Если же под «комплексностью» понимать неразборчивое сваливание в одну кучу, собирание под одной обложкой всего разнородного и внутренне несовместимого массива знания, то вряд ли такая характеристика будет комплиментарной, и эту черту скорее следует именовать склонностью к эклектике. А вот если указать на логико-смысловое основание феномена непротиворечия веры и знания, то закономерности, о которых говорит Н. С. Кирабаев, обретают ясные очертания и четкую концептуализацию.
Способность нащупать и точно зафиксировать существенное, системное отличие арабо-мусульманской культуры от западной характерна для многих серьезных исследователей; в чем классическое востоковедение, в том числе и историко-философское, испытывает недостаток, так это в теоретических средствах концептуализации этих совершенно справедливых наблюдений и интуиций. Именно такое средство и предоставлено в наше распоряжение методологией логико-смыслового анализа.
Вряд ли кому-то из историков философии неизвестно небольшое произведение Ибн Рушда «Рассуждение, выносящее решение относительно связи между философией и религией». Как видно из названия и как явствует из содержания этого трактата, речь в нем именно о том, что в привычных терминах западной культуры формулировалось бы как вопрос о соотношении веры и знания. Всякий желающий, взяв русский перевод этого произведения, может убедиться: Ибн Рушд не ставит вопрос так. Для него обсуждение «связи между философией и религией» (более точно: между х̣икма «мудростью» и шарӣ‘а «Законом») — это обсуждение вопроса о преимуществе одного из двух способов получения знания. Именно в проблемном поле знания
449
с едиными критериями истинности, непротиворечивости и т. д. решается этот вопрос. Как выразился Н. С. Кирабаев, здесь «вера не противостоит знанию» — просто потому, что противостояние между ними логически невозможно, противостояние может возникнуть и возникает внутри знания как такового. Логико-смысловое обоснование этого факта я и стремился привести.
3.9. В самом конце «Анны Карениной» (часть 8, гл. XII—XIII) Л.Толстой подробно описывает внезапное прозрение Левина, точнее, внезапно наступившее ясное осознание того, что он, Левин, и так знал, знал с детства, знал как «духовные истины, которые всосал с молоком матери». Всю его жизнь в нем происходила своеобразная борьба этого, изначального, веровательного знания — с другим знанием, знанием, полученные разумом, проверенным наукой. Эти два вида знания несовместимы, поскольку выражают разные, несовместимые истины. Можно обладать ими обоими — но помещая их как бы «на разных этажах» своей личности; можно переживать их борьбу — но эта борьба заканчивается победой одного из них. Эти два вида знания — вера (веровательное знание) и знание (знание, добытое разумом как единственным авторитетом).
Несколько страниц толстовского текста едва ли не исчерпывают проблематику соотношения веры и знания в пространстве западной культуры; мысли, вложенные в эти несколько страниц, составят тома, если развернуть их во всех импликациях. Моя задача, однако, не в том, чтобы сделать попытку, удачную или неудачную, более или менее полную, такого разворачивания толстовских идей. Моя задача в другом — указать на логико-смысловое основание любого такого разворачивания и самóй той свернутости этих идей, которая представлена внутренним монологом Левина. Несовместимость, дихотомическое разделение (по принципу «или-или») знания и веры составляют здесь такое основание, и следить за его действенностью в любом дискурсивном разворачивании проблематики знания и веры (в том числе и в парадоксах этой проблематики) — занятие очень увлекательное, но требующее пространства монографии. Я лишь надеюсь, что мне удалось намекнуть на взаимную несоизмеримость исходного логико-смыслового основания постановки и разворачивания этой проблематики в двух мыслительных пространствах — арабо-мусульманском и западном.
4. Культура как логико-смысловая целостность
Арабо-мусульманская (как и любая другая) культура представляет собой логико-смысловую целостность, и разобранный пример соотношения знания и веры — лишь один из многих возможных. По той же логике в этой культуре осмыслено соотношение понятий «тело» и «душа»: будучи взаимно-обусловливающими противоположностями, они благодаря взаимному переходу (как переходят одно в другое знание и действие) утверждают человеческую «яйность» (’ана̄’иййа — именно так звучит это понятие классической арабо-мусульманской философии), снимающую противоположность души и тела и образующую ту единую
450
«самость», которая не «включает в себя» душу и тело в каком либо смысле, а является простой и неразложимой, и в то же время общей для внеположных ей души и тела. Эта смысловая логика исключает возникновение теорий психофизического параллелизма, обсуждение которых во многом фундирует нововременную философию и психологию1.
Не разворачивая эту тему дальше и не умножая примеров, я хочу тем не менее высказать принципиальный тезис: арабо-мусульманская культура (как и любая другая) гомогенна в логико-смысловом отношении постольку, поскольку одни и те же логико-смысловые закономерности будут прослеживаться на ее пространстве в любых областях.
Постижение логико-смысловой обусловленности культуры — дело долгое, в теоретическом плане трудное, требующее кропотливой работы и постоянного внимания к операциям собственного разума, который (конечно же!) не свободен от логико-смысловой обусловленности «родной» культурой. Однако такое постижение — единственный путь, ведущий к ненасильственному и сохраняющему шансы на подлинный успех диалогу с культурой, характеризующейся логико-смысловой (а не чисто-содержательной) инаковостью.
Логико-смысловая инаковость двух культур означает, что различия между ними проистекают не от несовпадения набора неких содержательных элементов (как то имеет место в случае содержательной инаковости), а являются следствием варьирования фундаментальных процедур рациональности, влекущего различия в «поведении» смысловой материи. Содержательные расхождения могут быть предметом диалога двух содержательно-инаковых культур, и содержательное наполнение элементов культуры может модифицироваться в ходе такого диалога или независимо от него. В отличие от этого, логико-смысловые различия не могут быть «сглажены» в принципе, поскольку логико-смысловые процедуры конституируют культуру.
Я начал это рассуждение с вопроса о том, что означает признание «культурной специфики». Теперь есть возможность на этот вопрос ответить.
Признание культурной специфики предполагает, что две сравниваемые культуры, для которых выявляется такая специфика, различаются в содержательном, и только в содержательном отношении. Для них, выражаясь иначе, характерна только содержательная, но никак не логико-смысловая инаковость. Признание культурной специфики, таким образом, эквивалентно отрицанию логико-смыслового различия.
Из сказанного должно быть ясно, что логико-смысловое различие фундаментальнее, нежели содержательное. Когда признают «специфику» той или иной культуры, когда декларируют терпимое или поощрительное отношение к такой специфике, создается впечатление некоего позитивного действия: что плохого
451
может быть в таком одобрении культурных особенностей, направленном против ассимиляции и на сохранение культурного своеобразия? Мы можем теперь ясно ответить на этот вопрос: плохо здесь то, что такое признание и поощрение означают, и не могут не означать, отрицание особого логико-смыслового фундамента культуры — в том, конечно, случае, если речь идет о двух культурах, взаимно-инаковых в логико-смысловом отношении. Такое отрицание, повторю, неизбежно сопутствует признанию «специфики» культуры и является следствием того модуса рассуждений, в котором возможен разговор о такой специфике.
О специфике может — и должна — идти речь для тех, и только для тех культур, которые связаны отношением содержательной инаковости. Культуры, различающиеся логико-смысловым основанием, характеризует целостное различие, а не специфика. В таком случае систему смысловых связей, образующих некое единство в одной культуре, нельзя изменить лишь частично, чтобы получить ту систему смысловых связей, которые в другой культуре также образуют единую структуру: изменения должны быть целостными, они затронут и логику, и содержание всех смысловых единиц.
 |
7.4 Заключение |

|
452
Подведем итог.
Мы попытались пройти с самого начала путь к тому, что мы называем «окружающий мир». Так (т. е. с самого начала) пройти этот путь нельзя, если сразу же полагать, что мы идем от того, что «дано» нам каким-то образом независимо от нас. Но именно так прокладывает свой путь и идеализм, и материализм, и кантовский априоризм, и современная философия сознания: идея, материя, априорная форма сознания или физический мир оказываются предпосланы их пути. Что бы мы ни полагали в качестве подобной предпосылки, она в любом случае останется чем-то пред-посланным, а значит, и не оправданным. А это недопустимо, если мы хотим найти оправданность каждого шага, даже самого первого. Оправданность начала.
Оправданность не чем-то другим: так оправдать начало нельзя. Начало потому проблема, что его оправданность им же самим и должна полагаться. Как именно полагаться и как эта проблема решается — об этом мы и говорили.
Если начало найдено верно, оно открывает путь; даже не так: оно заставляет идти по открывшемуся пути. Теоретическая его часть пройдена, впереди — практическая. Нам предстоит увидеть, как можно с самого начала просчитать содержательность, как можно работать с ней, отдавая себе и другим отчет в каждом шаге, в каждом движении.
Ключевым для понимания сути проделанной теоретической работы и практического ее приложения, которым нам предстоит заняться, служит положение, которое невозможно не признать твердо установленным, во всяком случае, до тех пор, пока не будет доказано обратное. Оно заключается в следующем. Любая простейшая субъект-предикатная конструкция, т. е. связанность субъекта и предиката в вещь (если мы говорим о мире) или в высказывание (если имеется в виду речь), которую мы обнаруживаем в опыте, может быть выстроена — по меньшей мере — двумя альтернативными способами. Я предлагаю называть это утверждение гипотезой альтернативности.
Поясню сперва второстепенное. Я исхожу из того, что любые распространенные, сложные конструкции сводятся к простым, во всяком случае, в том отношении, что они не могут быть поняты без прояснения способа субъект-предикатного связывания, который мы вскрываем, разбирая простейшую субъект-предикатную конструкцию. Далее. Вещь мира и высказывание сближены на том основании, что и то и другое представляет собой субъект-предикатную конструкцию и может рассматриваться именно и сугубо с этой точки зрения, т. е. как результат смыслополагания. Смыслополагание рассматривалось в этой книге как тот единый «стер
453
(взятый как деятельность), на который нанизаны разные «слои» и «модусы» нашего сознания и который обнаруживает их внутреннее сходство, маскируемое внешней разделенностью. Чувственное восприятие — это восприятие вещей и их качеств, но если любой «сырой» материал может быть выстроен в вещь по крайней мере двумя альтернативными способами, то чувственное восприятие так же творчески нагружено, как и рациональное мышление.
Теперь главное. Говоря о субъект-предикатных «конструкциях», мы говорим об опыте, то есть о нашем восприятии мира и о его осмыслении и выражении в речи. Именно здесь мы встречаем конструкцию, т. е. отдельные субъект и предикат, которые как-то связаны между собой в нечто единое. Здесь отделенность и атомарность как будто исходны, тогда как связанность — итог и плод нашей конструирующей деятельности. Суть дела заключается в том, что любая субъект-предикатная конструкция всегда может быть выстроена (увидена, понята, истолкована, воспринята и т. д.) не меньше чем двумя альтернативными способами, причем в ней самой, т. е. в опыте как таковом, нет ничего, что предопределяло бы выбор того или иного способа ее выстраивания. Таково общее положение, которое выдвинуто как гипотеза и проиллюстрировано конкретными примерами (см. «Сознание как смыслополагание…» и «Логика субстанции и логика процесса…»). Именно это положение служит идейным центром всей книги, сворачивающим развернутость ее содержания в цельность, которая скорее может быть уподоблена кругу или сфере, нежели растянутой линии. Повторю, что это положение выдвинуто как абсолютное, причем возможность альтернативных трактовок любой субъект-предикатной конструкции представляется мне твердо установленной. Гипотеза альтернативности, насколько я знаю, прежде никем не высказывалась.
Но почему субъект и предикат образуют «конструкцию» и что, собственно, означает здесь слово «конструкция»? Предложение возникает тогда, когда слова связываются воедино; а ядром такой связанности слов в предложение служит связанность субъекта и предиката. Субъект и предикат — не два слова, поставленные рядом, и даже если мы укажем на формальные синтаксические признаки того, что они являются подлежащим и сказуемым предложения, мы не ответим на вопрос, что именно связывает их воедино и как именно происходит такое связывание. Ответ на этот вопрос лежит за пределами изучения формальных языковых средств.
Где же именно? В предложении «машина едет» мы можем выделить подлежащее и сказуемое; но мы не можем не признать, что в мысли и в реальности это всегда нечто единое: нет никакого «едет», отдельного от «машины», коль скоро мы говорим о событии, отраженном в языке как «машина едет». Событие «машина едет» — это одно событие, а не две раздельных сущности. Потом, в нашем анализе, мы обнаружим, что «едет» может быть отделено от «машины» и приписано другому субъекту («велосипед едет»); а «машина» может получить другой предикат («машина стоит»). Но и в этих случаях мы получим два разных события, каждое из которых является чем-то одним и неразложимым: «велосипед едет» — не две
454
различных сущности, а событие движения велосипеда, равно как «машина стоит» — это событие стояния машины, а не две разных вещи.
Так как же происходит этот переход, этот перескок от двух раздельных, рядоположенных слов к предложению, т. е. к единому значению, которому соответствует единое событие? В чем тайна связывания субъекта и предиката в нечто одно; такого связывания, которое может быть и развязано, поскольку мы можем в нашем анализе отделить субъект от предиката и манипулировать ими отдельно и самостоятельно? Мы подробно говорили об этом, прежде всего — в «Шкатулке скупца». Здесь был дан ответ на вековой вопрос о том, почему и благодаря чему мы способны в своей мысли связывать в нечто одно и неразделимое то, что разделено, отрезано одно от другого в нашем языке. А значит, и на вопрос о том, как возможна грамматика мысли, не повторяющая грамматику языка.
Не буду пересказывать все то, что было сказано об этом в книге. Но можно дать намек, привести наводящий пример, который напомнит читателю, в чем суть дела и о чем шла речь. Предложение «машина едет» мы можем перевести в эквивалентную форму «машина есть едущая», указав на присущность движения машине. Эта присущность и делает возможным единство предиката и субъекта: предикат, присущий субъекту, совершенно естественно становится не чем-то отдельным от него, а им самим. Самим ли навсегда или только на время — это уже вопрос различения сущностных и акцидентальных признаков, но он не имеет никакого отношения к устройству предикации. Вот в чем дело: технология предицирования, технология связывания субъекта и предиката в нечто единое никак не зависит от решения философского вопроса о сущностных или случайных признаках.
Итак, в книге дан ответ на вопрос о том, как и почему, благодаря каким интуициям и каким «технологиям» субъект и предикат связываются воедино, т. е. как осуществляется предикация. Но не только это; и даже не это главное. Важнее, с моей точки зрения, то, что такое связывание субъекта и предиката, т. е. рождение мысли, может осуществляться не по единственной, а по двум технологиям, не просто различным, но альтернативным.
Поясню это опять-таки намеком и примером, поскольку с подробным разбором этого вопроса читатель имел возможность познакомиться в книге. Если я оперся на стену вагона метро, прислонившись к ней, и перенес на нее свой вес, чтобы дать отдых телу; или — пусть воображение переместит нас на сотни лет назад в среду совсем другого народа — оперся на седло, поставив его на пол и сев, прислонившись к нему, после долгой езды (арабский пример1), то опирающееся и опора образовали единство, это уже не два раздельных предмета, они связались в нечто одно. Однако это — не единство присущности. Если стена опирается
455
на фундамент, это — единство дома (иначе дом рассыпется), но здесь нет никакой присущности. Это другой тип связи.
Что это за связь и почему и как она определяет единство субъекта и предиката — не только в предложении, не только в грамматике языка, но и в грамматике мысли? Как возможна мысль, выстроенная не на идее присущности и — более того и самое главное — не переводимая в категории присущности?
Мы знаем целый ряд логик, претендующих на то, чтобы расширить, заменить и чуть ли не упразднить аристотелевскую логику присущности. Но если логика присущности — это не логика философского учения о сущности, а логика устройства предикации, логика базового завязывания мысли, то эти логики едва ли могут быть сочтены для нее альтернативой. Потому что для них базовой, глубинной операцией завязывания мысли, связывания субъекта и предиката остается логика присущности (взятая, повторю, как логика предицирования, а не как философское учение).
Если я говорю «Москва южнее Петербурга, а Сочи южнее Москвы, значит, Сочи южнее Петербурга», я не оперирую никакими философскими сущностями. Это верно; но логика отношений построена на той же базовой операции предицирования, которую я называю логикой присущности, и безусловным показателем этого служит тот факт, что я всегда могу сказать: «Москва есть город южнее Петербурга, а Сочи есть город южнее Москвы, следовательно, Сочи есть город южнее Петербурга». Логика отношений может быть выражена через предикационную логику присущности, но не наоборот: далеко не любое предложение, выражающее присущность предиката субъекту, может быть выражено в логике отношений. Именно поэтому «S есть P» остается здесь фундаментальной и базовой формулой предикации, а не «a R b» при тех толкованиях «a», «R» и «b», которые характерны для логики отношений. Формула «a R b» выражает не альтернативную «S есть P», а лишь иначе сформулированную логику предикации.
Однако логика предикации, действительно альтернативная логике присущности, возможна. Как именно — об этом подробно говорилось в книге; а если намеком — это логика опирания, а не логика присущности. Это — логика процессуальности, а не логика субстанциальности (и «процессуальность», и «субстанциальность» указывают лишь на устройство предикации, а не на философские учения). Для краткости они были названы С-логика и П-логика. Эти логики априорны и универсальны, и если они и открыты в каком-то этническом субстрате, греческом или арабском, они от этого не становятся этнически определенными. Растения-эндемики могут, при соответствующих условиях, распространиться по земному шару; точно так же любая из логик предикации, открытая той или иной культурой человечества, не привязана неотрывно к своей исторической родине.
И последнее. Если (во-первых) верна гипотеза альтернативности и, следовательно, априори возможны две грамматики мысли, две логики субъект-предикатного связывания, и если (во-вторых) текст на естественном или искусственном языке никогда не указывает на то, какая именно из альтернативных логик задействована
456
при его создании и, следовательно, должна быть приведена в действие при его прочтении, то обе логики возможны как «механизмы» осмысления. Нельзя говорить о смысле текста, не эксплицируя эти две альтернативные возможности и не показывая, как осмысленность создается альтернативными, но равно закономерными путями в этих двух случаях. Такая методология универсальна, поскольку применима везде, где мы имеем дело с субъект-предикатными конструкциями; а с ними мы имеем дело везде, где имеем дело с осмысленностью. Субъект-предикатное конструирование — ядро сознания, и именно понимание закономерностей такого конструирования дает возможность изучения закономерностей функционирования сознания.
 |

|
 |

|
 |

|
459
Что делает мусульманскую этику мусульманской?
Ответ, казалось бы, очевиден. Он как будто предзадан самим предикатом «мусульманская». Мусульманскую этику делает мусульманской тот факт, что она возникла в лоне ислама и связана с исламом. Так или почти так ответит практически любой. Специалист, наверное, добавит, раскрывая этот тезис, что мусульманская этика основывается на положениях, зафиксированных в авторитетных текстах ислама, то есть в Коране и сунне, а также на сумме знаний, положений и выводов, ставших результатом творчества исламских ученых на протяжении классического и последующих периодов развития исламской цивилизации.
Это, безусловно, так, и я вовсе не стремлюсь поставить под сомнение связь мусульманской этики с исламом. Это вещь очевидная. Но сводится ли мусульманская этика к сумме религиозного содержания — или же в ней есть что-то еще? Тезис, который я выношу на обсуждение и который буду защищать, заключается в том, что в ней есть что-то еще. И это «что-то еще» я называю словом «архитектоника».
Мусульманская этика, таким образом, является мусульманской, во-первых, потому, что фундирована исламом (его авторитетными текстами и трудами его ученых), а во-вторых, потому, что имеет архитектонику, характерную для арабо-мусульманской культуры. Именно второе, а не первое обстоятельство делает мусульманскую этику органичной частью этой культуры, выстроенной так же, как выстроены другие ее сегменты.
Познакомившись с литературой по мусульманской этике, нетрудно заметить, какой разброс мнений наблюдается не просто по отдельным вопросам этой области знаний, но по самому главному вопросу: чем является мусульманская этика и что она в себя включает? Порой в сочинениях исламских авторов к мусульманской этике относят едва ли не всё, о чем говорится в книгах по фикху, начиная с того, как делать омовение, что входит в процедуру хаджа, что такое закат и как его давать, и так далее. Подобное представление, включающее в сферу этического исполнение культовых обязанностей и религиозных обрядов, вызывает возражение, поскольку явно не соответствует тому смыслу, который западная мысль вкладывает в слово «этика» со времен греков. Таково расширительное представление о мусульманской этике. Противоположная точка зрения, наиболее узкая, включает в мусульманскую этику только то, что так или иначе соотносится с греческими этическими учениями, унаследованными классической исламской цивилизацией
460
и развитыми в ее лоне такими блестящими мыслителями, как Йах̣йа̄ Ибн ‘Адӣ (ум. 974)11, Мискавайх (932—1030) или Нас̣ӣр ад-Дӣн ат̣-Т̣ӯсӣ (1201—1274). Так что же такое мусульманская этика? Какой из двух точек зрения, широкой или узкой, следует отдать предпочтение? Мы сможем ответить на этот вопрос, исходя из представления об архитектонике мусульманской этики.
Слово «архитектоника» я понимаю и употребляю в том же смысле, в каком его использовал Кант. Архитектоника — это некие силовые линии, вдоль которых движется мысль и которые определяют целостное строение той системы знания, о которой мы говорим. Выстраиваемое здание, конечно же, не сводится к этим силовым линиям, — но оно невозможно без них. Фундамент здания не виден, будучи скрыт под землей, но именно он определяет, каким будет здание — его контуры, высоту, прочность и так далее. Такова и архитектоника — это основополагающие принципы, которые, может быть, не всегда очевидны, но которые тем не менее всегда проявляются в конкретном содержании и определяют его контуры.
Архитектоника как способ смыслополагания
Что же такое архитектоника мусульманской этики? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к двум понятиям, которые сформулированы самой классической арабо-мусульманской мыслью, — понятиям з̣а̄хир «явное» и ба̄т̣ин «скрытое».
Эту пару категорий я называю метакатегориями арабо-мусульманской культуры. Они употребляются во всех основных областях теоретической мысли — в филологии, фикхе, доктрине (вероучении), философии. В каждой из них эти категории имеют свое значение. Вместе с тем есть нечто, что их роднит и оправдывает их номинальное тождество. В чем же заключается общий знаменатель данных метакатегорий?
З̣а̄хир и ба̄т̣ин всегда выступают как неразрывная пара. «Явное» и «скрытое», или «внешнее» и «внутреннее» (оба перевода, с моей точки зрения, допустимы для категорий з̣а̄хир и ба̄т̣ин), неотъемлемы друг от друга. Безусловно, они противоположны друг другу. Но это такие противоположности, которые не исключают одна другую, как, скажем, горячее и холодное — вещь не может быть одновременно горячей и холодной, а, наоборот, предполагают друг друга. Обязательно должно быть и внешнее, и внутреннее. Это первое, что мы должны зафиксировать: если имеется з̣а̄хир «явное», обязательно есть ба̄т̣ин «скрытое», и наоборот: если есть ба̄т̣ин «скрытое», обязательно имеется з̣а̄хир «явное». Можно сказать, что они указывают друг на друга, предполагают друг друга.
И второе. В этой паре противоположностей, которые связаны отношением взаимного обуславливания, которые влекут друг друга, — в этой паре противополож
461
ностей ни одна не является более значимой, чем другая. Это очень важно понимать, дабы не смешивать эту категориальную пару с другой, которая близка к ней по звучанию и, казалось бы, по содержанию, но которая имеет принципиально другое наполнение. Я имею в виду пару «явление-сущность».
Эта пара категорий, разработанная западной мыслью, не может быть сближена с парой з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое». Ведь в паре «явление-сущность» сущность всегда более важна, чем явление. Верно, что они связаны: сущность является, явление существенно, однако явление — всегда лишь поверхностное проявление сущности. Сущность — нечто более цельное, чем явление (никакое явление не способно исчерпать сущность), она более устойчива, чем явление, и, собственно, составляет вещь как таковую.
Понимание, которое вкладывается в пару з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое» в арабо-мусульманской культуре, другое. Здесь не идет речь о том, что что-то одно из этой пары составляет суть вещи или саму вещь или что одно из этой пары важнее, чем другое. Нет. И з̣а̄хир «явное», и ба̄т̣ин «скрытое» одинаково значимы. Это крайне важный момент, который надо учитывать и который многое объясняет в построениях арабо-мусульманских мыслителей, в частности и в области этики.
Если з̣а̄хир «явное» и ба̄т̣ин «скрытое» являются противоположностями, то должно быть что-то, что их соединяет, что-то, что как бы стягивает их, служит мостиком между ними. Должен быть третий элемент, их объединяющий. Чем является этот третий элемент?
Я воспользуюсь ресурсами не арабского, а русского языка и приведу пример, который, как мне кажется, вполне очевиден и понятен любому — даже тому, кто не только не владеет арабским языком, но и никогда не слышал о нем и вообще не имеет понятия об арабо-мусульманской культуре.
Представим, что один человек разговаривает с другим. Мы назовем его «говорящим». То, что он произносит, обозначим словом «проговариваемое». Таким образом, имеется «говорящий» и имеется «проговариваемое», иначе говоря, действующее и претерпевающее. Наконец, имеется процесс, стягивающий их воедино, — процесс «говорение». Так мы получаем тройку понятий: говорящий, проговариваемое и говорение как процесс. Другого человека, к которому обращены слова говорящего, мы назовем «слушающим». Далее, имеется «слышимое» им, и, наконец, «слушание» как процесс, соединяющий слушающего и слышимое. Подобные тройки понятий могут образовываться практически для любого процесса.
Такая тройка — «говорящий», «говоримое» и «говорение» как процесс, который их связывает, — служит мини-моделью того, что подразумевается парадигмой з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое». З̣а̄хир и ба̄т̣ин — это внешнее и внутреннее, которые стянуты каким-то процессом. Третьим элементом, который их соединяет, является этот процесс — процесс перехода ба̄т̣ин «скрытого» в з̣а̄хир «явное» и наоборот.
Перехода в каком смысле? Не в том смысле, что ба̄т̣ин «скрытое» переходит в з̣а̄хир «явное» и перестает быть скрытым. Нет, конечно. Скрытое остается
462
скрытым, а явное — явным. Переход скрытого в явное означает, что они связаны. Как говорящий и говоримое связаны говорением, точно так же ба̄т̣ин «скрытое» и з̣а̄хир «явное» связаны процессом, который их стягивает и который заставляет одно переходить в другое.
Такова общая модель смыслового движения, которая и в данном случае, применительно к мусульманской этике, является, с моей точки зрения, архитектонической. Она позволяет увидеть основные силовые линии, выстраивающие здание мусульманской этики, определяющие логику понятий и основные направления рассуждений.
Каким же образом эта архитектоника руководит выстраиванием здания мусульманской этики? Начнем наполнять эту модель конкретным содержанием.
Определение мусульманской этики
Прежде всего следует определить, что мы понимаем под «мусульманской этикой». Я бы сказал так: мусульманская этика — это наука о том, как должен поступать человек. В этой формулировке упомянуты три принципиальных элемента.
Во-первых, «как должен». Здесь выражено долженствование, то есть нормативность. Этика — нормативная наука, и мусульманская этика — не исключение. Мусульманская этика не описывает реальность, она говорит, какой должна быть реальность. Другое дело, что реальность, конечно же, всегда отклоняется от нормы — в том и смысл нормы, что она задается как не совпадающая с реальностью. Эти хорошо известные положения верны и в случае мусульманской этики.
Второй элемент этой формулировки: «поступать». Это, пожалуй, центральное понятие, и чуть позже мы поговорим о нем подробно.
И, наконец, «человек». С одной стороны, в мусульманской этике предметом рассмотрения служит поступок как таковой, и тогда ее предмет — поступок одного человека. В этой части мусульманская этика является этикой индивидуального поступка. С другой стороны, мусульманская этика рассматривает взаимо-действие людей. В этой части она может быть названа этикой социальности. Мы увидим, что в обеих своих составляющих предмет мусульманской этики сформирован в соответствии с принципом ее архитектоники, как процессуальный переход между внутренним и внешним.
Итак, «поступок» (‘амал) — центральное понятие мусульманской этики. Что такое поступок? Изложенное понимание архитектоники мусульманской этики подсказывает нам, что поступок — это процесс, который связывает внутреннее и внешнее, ба̄т̣ин и з̣а̄хир.
В качестве внутреннего могут выступать две разные вещи. Во-первых, то, что называется по-арабски ниййа «намерение». Во-вторых, х̣а̄л «состояние» души, а также х̱улк̣, или х̱улук̣, «склад» души, «нрав». Такая двучастность соответствует двум разделам мусульманской этики — индивидуальному и социальному.
В качестве внешнего в обоих случаях выступает то, что называется словом фи‘л «действие». Мусульманские авторы обычно определяют «действие» как
463
некое движение (х̣арака), осуществляемое одним из органов тела — языком, рукой, ногой, туловищем, головой и так далее. Иначе говоря, это — некое внешнее, телесное действие, которое показывает окружающим, чтó у нас внутри — наше намерение или наше состояние, склад нашей души. А состояние, склад души и намерение — это то, что скрыто и что как таковое, как именно намерение или душевное состояние и нрав, не может быть никому предъявлено.
Рассмотрим индивидуальный поступок как процессуальный переход намерения в действие.
Индивидуальный поступок
Архитектоникой мусульманской этики определено, что обе стороны — и намерение, и действие — равно необходимы для того, чтобы поступок состоялся. Из этого вытекает, что они заслуживают равного внимания при рассмотрении проблематики мусульманской этики.
Вот почему, как мне представляется, сочинения мусульманских авторов, классифицируемые как этические, включают в себя подробное рассмотрение процедур исполнения культовых обязанностей (омовение, молитва, закат и т. д.), равно как и некультовых действий (заключение сделок и т. п.). Немало места, к примеру, этим вопросам уделяет ал-Г̣аза̄лӣ в Их̣йа̄’ ‘улӯм ад-дӣн («Воскрешение религиозных наук») — сочинении, которое нередко называют лучшей систематизацией мусульманской этики. Дело вовсе не в том, что доктринальные или правовые вопросы не отделены в сознании мусульманских авторов от этических, дело не в пресловутой «слитости» религии с тем, что в западной культуре носит внерелигиозный характер. Понимание архитектонического принципа, в соответствии с которым выстраивается здание мусульманской этики, дает возможность увидеть подлинную причину: действие необходимо включается в сферу этики постольку, поскольку составляет условие sine qua non поступка.
Зафиксировав это крайне важное положение, мы ограничимся им и не будем вслед за мусульманскими авторами подробно рассматривать, в каких случаях те или иные действия считаются правильными и когда они оказываются разрушенными. Подробное описание всех этих условий заняло бы слишком много места, поскольку действия необычайно разнообразны; такое описание читатель при желании найдет в книгах по этике, доктрине и фикху, в том числе и на русском языке.
Перейдем теперь к намерению.
Определяя, что такое намерение, мусульманские авторы указывают в качестве синонима словосочетание ира̄да джа̄зима «непреклонная воля». Действительно, твердость намерения служит его первой основополагающей характеристикой. Шаткое, нетвердое намерение оставляет в душе человека место для посторонних помыслов, которые сбивают его и тем самым разрушают намерение. Нетвердое намерение может и само по себе исчезнуть прежде, чем поступок завершится, и тем самым разрушить его.
464
Второй основополагающей характеристикой намерения служит их̱ла̄с̣ «искренность». Она означает, что человек не должен иметь никакой задней мысли в тот момент, когда формируется его намерение. Действие должно совершаться именно ради того, ради чего оно совершается: подмена цели разрушает намерение и делает его недействительным. Скажем, дающий милостыню должен давать ее именно с целью помочь бедным, а не для того, чтобы заставить других говорить о себе как о благородном и добром человеке, то есть не с целью покрасоваться перед людьми или перед самим собой.
Таковы два существенных требования, предъявляемых к намерению.
Далее, намерение и действие должны находиться в отношении ба̄т̣ин-з̣а̄хир «скрытое-явное» для того, чтобы поступок как процессуальный переход первого во второе состоялся. Из этого вытекают следующие два требования.
Во-первых, намерение должно быть сформировано до того, как действие начнется. Намерение, иначе говоря, предваряет действие. Это вытекает из того, что в паре «скрытое-явное» одна из этих сторон инициирует процессуальный переход, связывающий их воедино. В данном случае это намерение, «скрытая» сторона этого з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношения. Вот почему и вот в каком смысле намерение предваряет действие.
Вместе с тем предшествование намерения действию не может означать их временнóго разрыва. Ведь смысл намерения в том, что оно связано с действием процессуальным переходом и только благодаря такому переходу является намерением.
Вот почему намерение (ниййа) было бы неправильно толковать как мотив поступка. Для мотива допустим временной интервал, отделяющий его от поступка: мотив может сформироваться в прошлом, а поступок — совершиться только сейчас. В отличие от этого, ниййа «намерение» не является намерением, если не влечет действие непосредственно, оно не может быть разорвано с вызванным им действием временным промежутком. Мотив может стимулировать начало поступка, а затем исчезнуть, тогда как поступок будет по-прежнему совершаться. Такое понимание мотива оправданно — однако ниййа «намерение» не может вести себя подобным образом. Намерение должно сохраняться все то время, пока длится действие, потому что намерение — это ба̄т̣ин «скрытое», а действие — з̣а̄хир «явное», тогда как поступок (‘амал) — это переход ниййа в фи‘л, процессуальный переход намерения в действие, для чего необходимы обе стороны.
И второе требование: намерение должно сопровождать фи‘л «действие». Оно должно сохраняться на протяжении всего того временнóго интервала, в течение которого длится действие. Это объясняется закономерностью связи между ба̄т̣ин «скрытым» и з̣а̄хир «явным».
Намерение, чтобы остаться намерением, должно транслироваться, овнешняться как действие, — именно тогда совершается поступок. Если так, то понятно, почему намерение должно сохраняться на протяжении всего того отрезка времени, в течение которого длится действие, почему мусульманская этика категорически настаивает
465
на этом требовании, не соглашаясь трактовать намерение в качестве толчка к действию, функция которого — только инициировать действие1. Если намерение исчезнет, пока длится действие, разорвется связь внешнего и внутреннего и поступок как процессуальный переход первого во второе не состоится. Тогда понятно, например, почему молитва, если намерение исчезло, прервалось или было испорчено в ходе ее совершения, считается недействительной как поступок (как ‘амал), хоть бы все внешние действия (движения и слова) состоялись в соответствии с предписанными формулами, — именно потому, что прервалась связь внутреннего и внешнего, и поступок как процессуальный переход между ними не состоялся, пусть действия и совершались.
Таким образом, поступок — это не такая вещь, которую можно предъявить взору подобно некой субстанции. Поступок — это вещь-процесс, а в качестве процесса это — некая длительность. Понятие «вещь» передает смысл устойчивости, однако устойчивость вещей-субстанций и устойчивость вещей-процессов достигаются разными путями. В этом заключается одно из основных различий между субстанциальным и процессуальным взглядами на мир.
В силу этого для мусульманской этики одним из центральных понятий является не «добродетель» (фад̣ӣла), как то верно для западной этики, а «доброделание» (их̣са̄н). В арабском, как видим, это совершенно разные слова. Так получилось, что в русском они очень близки, поскольку имеют одни и те же корни. Вместе с тем и в русском языке мы чувствуем, что между ними существенная разница, ибо первое передает субстанциальный, а второе — процессуальный смысл. Это крайне важно, поскольку именно процессуальное, а не субстанциальное видение мира характерно для арабского мышления.
Что такое «доброделание» (их̣са̄н)? В известном хадисе Мух̣аммад, задавший этот вопрос Гавриилу, получает ответ: «Это поклоняться Богу, как если бы ты видел Его»2. Понятие их̣са̄н передает смысл поступка, «делания добра» и в своем развернутом виде выходит далеко за пределы понимания поклонения как культовой обязанности. А понятие «добродетель» по-арабски выражается словом фад̣ӣла, обозначающим некое качество характера. Фад̣ӣла (добродетель), как и противоположное ему раз̱ӣла (порок) — не поступок, а лишь один из элементов, которые предопределяют поступок, как он рассматривается в части
466
социальной, а не индивидуальной этики1. Этим обстоятельством, напрямую вытекающим из архитектоники мусульманской этики и в целом арабо-мусульманской культуры, определено соотношение между заимствованными из античности этическими теориями (они занимались именно классификацией добродетелей и пороков) и собственно мусульманской этикой, равно как и тот факт, что античность могла предложить арабо-мусульманской культуре материал для не более чем одного из фрагментов этики, но никак не для всего ее здания, и уж тем более не могла определить принципы его построения.
Мы рассмотрели, что такое намерение и действие и какой должна быть связь между ними. Однако такое соотношение не всегда выдерживается. Следовательно, имеются нарушения нормативной связанности намерения и действия — той, которая определяется как правильное соотношение между внутренним и внешним и которая конституирует поступок.
Поскольку поступок — это процессуальный переход намерения в действие, естественно предположить, что нарушения нормативной связи, когда поступок не выстроен в соответствии со всеми предъявляемыми к нему требованиями, распадаются на две части, каждая из которых имеет, в свою очередь, два подвида: нарушение или отсутствие намерения и нарушение или отсутствие действия. В самом деле, в мусульманской мысли мы встречаем обсуждение всех этих логически возможных базовых случаев. Сложные случаи, когда нарушаются либо портятся сразу обе стороны — и намерение и действие, являются не более чем комбинацией простых, поэтому достаточно рассмотреть эти исходные варианты.
1. Порча намерения. Если намерение, изначально правильное, портится, не сохраняясь до конца действия, то в связке внутреннее/внешнее один из элементов, внутреннее, оказывается разрушенным — а значит, разрушается и вся конструкция. Ведь перехода внутреннего во внешнее нет, следовательно, поступок не совершен. Даже если действие (фи‘л) как таковое, то есть движения тела, рук, ног, головы, осуществляется, а намерения нет, нет и поступка, потому что нет перехода внутреннего во внешнее, намерения в действие, — а поступок и есть такой переход.
2. Отсутствие намерения. Этот случай нарушения нормативной связанности намерения и действия представлен тем, что по-арабски называется ‘абас̱ «напраслина», «пустое занятие». Это такое действие (фи‘л), которое совершается, но для которого не имеется никакого намерения. Коль скоро нет намерения, нет и перехода намерения в действие, а значит, нет и поступка. Это во-первых. А во-вторых, действие, не вызванное намерением, является как будто ущербным (будучи явным, оно лишено скрытого — намерения), а значит, и неполноценным с точки зрения мышления, которое привыкло видеть мир и его вещи как связанность з̣а̄хир «явного» и ба̄т̣ин «скрытого».
467
Вот почему слово ‘абас̱ «напраслина» и, соответственно, фи‘л ‘а̄бис̱ «напрасное действие» имеют крайне отрицательные коннотации в классической исламской мысли. Например, действия Бога никак не могут быть квалифицированы как «напрасные», или как действия «просто так». Часто говорят, что исламское понимание Бога волюнтаристично, что Бог, мол, творит, что хочет по собственной воле и желанию. Такая характеристика, даваемая «извне» системы мировоззрения ислама, не вовсе беспочвенна, и для нее как будто можно найти опору и в авторитетных текстах, и в доктринальной мысли. Однако здесь не учитывается одно принципиальное обстоятельство. Верно, что никакое действие Бога в отношении творения не направлено на удовлетворение какой-либо нужды Бога, и в этом (и только в этом!) смысле не преследует цели; исламское вероучение особенно настаивает на этом, чтобы подчеркнуть принципиальное отличие Бога от мира. Однако неверно, что действия Бога вовсе не преследуют никакой цели. Напротив, любое действие Бога обязательно направлено к какой-то цели, хотя эта цель не служит (и не может служить) обеспечению бытия Бога. Это не действие «просто так», просто «потому, что так хочется», это всегда — действие целенаправленное. Авторы классической эпохи много рассуждали о том, может ли какое-либо действие Бога быть квалифицировано как «напрасное», и дали на этот вопрос отрицательный ответ. Не только действия Бога, но и действия Мух̣аммада никогда не расцениваются как напрасные. Познакомившись с комментариями к сборникам сунны, можно убедиться, что вопрос о том, являются ли действия Мух̣аммада в тех или иных ситуациях напрасными, обсуждается комментаторами, и они приходят к выводу, что эти действия не напрасны, но преследуют некую цель, то есть имеют за собой намерение.
3. Порча действия. Это ясный случай, не вызывающий теоретических затруднений. Если действие, начатое правильно, затем, в ходе своего совершения, претерпевает порчу, сбивается с правильного пути, то есть перестает быть действием, поступок также оказывается не совершённым. Причина та же, что рассмотренная раньше: отсутствие процессуального перехода намерения в действие, в данном случае — по причине порчи действия в ходе его осуществления.
4. Отсутствие действия. Этот случай распадается на два подвида в соответствии с тем, отсутствует действие по вине человека или нет.
Если действие вовсе не совершается по вине человека, это означает, что отсутствует переход намерения в действие и что, следовательно, отсутствует и поступок. Это означает, более того, что отсутствует и намерение, поскольку смысл намерения как внутреннего — в непосредственной связанности с внешним, то есть с действием. Отсутствие внешнего свидетельствует и об отсутствии внутреннего.
Но возможен и другой вариант. Может быть так, что правильное и искреннее намерение сформировано, однако действие (фи‘л) не может состояться не по вине человека. Человек совершил бы его, если бы не некие неожиданно возникшие и непреодолимые для него обстоятельства. Например, некто твердо намеревается пойти в мечеть, чтобы участвовать в коллективной молитве. Это намерение — твердое, искреннее, и этот человек действительно бы так и поступил, но вдруг
468
в тот момент, когда он уже собрался выходить из дома, с его домашними случилось что-то, что угрожает их жизни или здоровью и что заставило его остаться дома. Человек обязан (это предписано мусульманской этикой и правом) помочь своим домашним и потому пренебречь в данном случае коллективной молитвой. Эти обстоятельства — непреодолимой силы, он ничего не может с ними поделать, он о них не знал заранее, и они заблокировали его действие (фи‘л). Однако ниййа «намерение» имелось, оно было искренним, подлинным, и если бы не эти внешние обстоятельства, действие (фи‘л) совершилось бы, а поступок (‘амал) как переход намерения в действие состоялся.
В этом случае действие считается как будто имевшим место: его отсутствие оказывается извинимым. Отличие от первых двух случаев (порча или отсутствие намерения) заключается в том, что намерение как ба̄т̣ин «скрытое» — целиком во власти человека, тогда как действию как з̣а̄хир «явному» могут помешать не зависящие от человека силы, так что действие, безусловно, состоялось бы, если бы не эти неподконтрольные человеку внешние обстоятельства, а потому в таком случае поступок считается совершенным.
Итак, поступок выстроен как связанность внутреннего и внешнего, будучи процессом перехода внутреннего во внешнее, а логика отрицательного или положительного отношения к различным случаям нарушения этой связанности определяется характерной для арабо-мусульманской этики архитектоникой понимания этой системы категорий.
Классификация индивидуальных поступков
Рассмотрим теперь состоявшийся поступок, в котором и намерение и действие выстроены по всем предъявляемым к ним требованиям. Обратим внимание на следующее обстоятельство. Намерение может быть хорошим и правильным в смысле архитектонического требования, а может быть хорошим и правильным с точки зрения той цели, к которой оно направлено. Это два существенно разных значения слов «хороший», «правильный». До сих пор мы рассматривали поступок как намерение-и-действие с первой точки зрения; теперь пришло время рассмотреть его и со второй. Заметим, что такая двуаспектность характерна именно для намерения, а не для действия.
Разделение целей, к которым направлены намерения, задано авторитетными текстами ислама и разработано в трудах исламских ученых. Если все возможные цели, в отношении которых формируется намерение, разделить на хорошие и плохие, то соответствующая классификация распространится и на намерения, а через них — на поступки. В этом смысл известной формулы «поступки по намерениям» (ал-а‘ма̄л би-н-ниййа̄т)1: цель, которую ставит человек, формируя свое намерение,
469
определяет, будет ли его поступок классифицирован как хороший или плохой, — естественно, при условии, что поступок состоялся, то есть что сформированное намерение перешло в действие и в них как таковых, как именно в намерении и действии, безотносительно к чему-либо другому, не было изъяна.
В классической литературе встречаются два типа классификации поступков, рассматриваемых как переход намерения в действие.
Первый основан на противопоставлении блага и зла (соответствующие арабские термины х̱айр и шарр), а также пользы и вреда (термины манфа‘а и д̣арар). Эти две пары терминов близки по смыслу, и различие между ними состоит скорее в словоупотреблении, нежели в содержании. Термины х̱айр и шарр характерны для Корана и сунны, тогда как манфа‘а и д̣арар редки в авторитетных текстах, зато часто встречаются в работах мусульманских ученых классической эпохи.
Другая классификация поступков оперирует парой категорий мас̣лах̣а-мафсада. Слово мас̣лах̣а означает «интерес», указывая на то, в чем заключается интерес какой-то группы людей или всей уммы. Мас̣лах̣а означает также «пригодность», обозначая то, что пригодно для человека в его жизни, то, что в конечном счете приносит ему какую-то пользу. А мафсада «порча» выражает противоположный смысл — это то, что пагубно для человека, группы людей или всей уммы в целом.
Мас̣лах̣а «интерес» и мафсада «порча» указывают, как правило, на опосредованные результаты принимаемых решений и совершаемых поступков, в отличие от терминов х̱айр «благо» и шарр «зло», обозначающих обычно их прямой и непосредственный результат. В тех случаях, когда отдаленное и опосредованное благо перевешивает непосредственное, следует предпочесть первое второму и отказаться от одного в пользу другого. Конфликт между двумя типами классификации поступков разрешается на основе принципа «предпочесть большее благо и выбрать меньшее зло».
Таковы два типа классификации индивидуальных поступков.
В обоих случаях поступки классифицируются в зависимости от того, каким является намерение. Ведь намерение, как уже говорилось, понимается как твердая воля (ира̄да джа̄зима). Однако воля, а тем более твердая, обязательно направлена к чему-то: смысл воли в том, что она позволяет сделать выбор и осуществить целеполагание. Иначе говоря, воля означает устремленность к какой-то цели (к̣ас̣д). В зависимости от того, какая цель имеется в виду, когда мы формируем свое намерение, поступок и оказывается либо осуждаемым, либо поощряемым.
Рассмотрим кратко первую классификацию, основанную на понятиях блага и зла. Благо и зло определяются в Коране как вполне понятные и доступные для осознания человека выгоды, приобретения или потери в дольней, то есть земной, жизни (х̣айа̄т дунйа̄) или же в другой, тамошней жизни (х̣айа̄т ’а̄х̱ира). Иначе говоря, х̱айр и шарр, благо и зло — это не метафизические принципы, не что-то абсолютное, не благо как таковое и не зло как таковое. Это то, что в определенной ситуации, в определенных условиях приносит человеку выгоды или же, наоборот, вредит ему.
470
Наибольшим благом с точки зрения мусульманской этики является принятие и соблюдение исламского Закона (шарӣ‘а). Именно такая линия поведения связана с максимизацией блага, причем и в этой, и в той жизни. В этом смысле в исламе нет противопоставления между х̣айа̄т дунйа̄ «этой жизнью» и х̣айа̄т ’а̄х̱ира «тамошней жизнью». Это не то, что Августин назвал «градом земным» и «градом небесным», противопоставление между которыми может доходить до их несовместимости. Верно, что в исламе «эта жизнь» рассматривается как противоположность «той жизни» в целом ряде отношений: эта жизнь временная, та жизнь вечная, эта жизнь земная, преходящая, та жизнь — после конца времен и она не прейдет, и так далее. Между ними тем не менее имеется согласованность и гармония, они не противопоставляются. Их связывает также своего рода соотношение между явным и скрытым, между внешним и внутренним. Закон (шарӣ‘а), согласно представлению ислама, несет благо не только в той жизни, но также и в этой жизни.
Соответственно, злом является все, что противоречит принятию исламского Закона и его соблюдению, все, что так или иначе препятствует этому. С точки зрения того, способствует ли намерение достижению блага в таком понимании или ведет, наоборот, к злу, поступки и классифицируются как хорошие и плохие.
Среди осуждаемых поступков отдельно рассмотрим забавы, игры (ла‘б). Один из авторов классической эпохи ал-Джас̣с̣а̄с̣ (917—981) так определяет игру:
Это действие, цель которого — зрелище и отдых, которое не имеет одобряемых (мах̣мӯд) последствий, а субъект которого не преследует иной цели, кроме развлечения и радости [Джассас 1917, 3: 246].
Как видим, цель имеется и намерение направлено к этой цели, но это — не та цель, которую преследует исламский Закон и которую следует ставить мусульманину. Именно поэтому — в силу того, что цель, к которой направлено намерение играющего, забавляющегося, не является похвальной, — игры и забавы в целом осуждаются мусульманской этикой как пустое и напрасное занятие. Правда, из этого общего положения делаются три исключения на основании известного хадиса1, утверждающего, что не осуждаются три вида забав: игры с домочадцами, езда на лошади и стрельба из лука.
Вторая классификация основана на понятии интереса, или пригодности (мас̣лах̣а). Это понятие широко употребляется в классические времена в фикхе, в ‘ак̣ӣда «вероучении», а также в области этики.
В фикхе понятие мас̣лах̣а обосновывает иджтихад, поскольку лежит в основании решений факиха, которые не обязательно согласуются с нормами (х̣укм, мн. ах̣ка̄м), зафиксированными даже в авторитетных текстах (нас̣с̣, мн. нус̣ӯс̣), то есть в Коране и сунне. Иначе говоря, исходя из понятия интереса данной общины мусульман или всей общины в целом (всей уммы), факих принимает путем иджтихада
471
решение, которое может — не должно непременно, но может — не согласовываться с тем, что зафиксировано в нус̣ӯс̣ «авторитетных текстах». Примеры такого рода хорошо известны. Достаточно упомянуть ‘Умара Ибн ал-Х̱ат̣т̣а̄ба, второго праведного халифа, великого государственного деятеля и строителя исламского государства, который смог осуществить свои великие преобразования, в частности, именно потому, что ориентировался на мас̣лах̣а «интерес» уммы, не останавливаясь перед отказом от зафиксированных в Коране норм. В фикхе активно используется понятие мас̣а̄лих̣ мурсала «неопределенные интересы». Это значит, что исламская мысль не фиксирует раз и навсегда, что такое мас̣лах̣а «интерес». Ведь историческая ситуация меняется, и исламская умма живет в разные эпохи. Нельзя заранее составить список всех мас̣а̄лих̣ «интересов»: в каждую историческую эпоху это понятие определяется конкретно.
Это же понятие мас̣лах̣а «интерес» и противоположное ему мафсада «порча» играет большую роль в этике. В целом понимание мас̣лах̣а в этике согласуется с тем, как этот термин понимается в фикхе.
Можно говорить об иерархии интересов (мас̣а̄лих̣) в исламе. Высшей мас̣лах̣а, высшим интересом и высшей целью является жизнеспособность уммы в целом. Следующий уровень занимает жизнь, благополучие, благосостояние каждого отдельного мусульманина. В этом смысле можно говорить, что исламская этика, как и исламское право, направлены к сохранению жизни и к максимизации блага и благосостояния как общества в целом, так и каждого отдельного мусульманина. Все, что служит интересам сохранения жизни, является положительным с точки зрения мас̣лах̣а «интереса».
Не только жизнь как высшая ценность, но и, если спуститься еще на ступеньку вниз, имущество, то есть материальные ценности, также охраняются мусульманским правом и мусульманской этикой. Средневековое право войны запрещало мусульманской армии, если она воюет на территории врага, наносить не оправданные военными целями вред и урон не только мирным жителям (с мирными жителями вовсе запрещено воевать), не только живой силе противника, но и его материальным ценностям. Можно прибегать к их разрушению только в той мере и в том объеме, который обусловлен необходимостью решения военных задач. Почему? Потому что высший интерес — это максимизация блага, понимаемого как жизнь и жизнеустроение, в том числе и как материальное благополучие.
Наконец, это же отношение распространяется на животных. Вот известный хадис:
Посланник Божий (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Одна женщина попала в пламень по причине свой кошки» — или же [он сказал] «кота». «Она посадила ее на привязь, не кормила и не давала поймать никакую тварь, пока та не умерла от истощения»1.
472
Лишив животное пищи и возможности охотиться и таким образом уморив его, эта женщина была наказана адскими муками. Заметим, что речь идет о конце первого тысячелетия нашей эры (именно тогда были составлены сборники сунны), когда было еще очень далеко до распространенных ныне движений в защиту прав животных. Известно, что исламское право и исламская этика запрещают ради забавы или «просто так» убивать животных — не только крупных, но также мелких, тех, которых мы обычно считаем «ничего не значащими» или «вредными», таких как муравьи, блохи, а уж тем более змеи. Их разрешается умерщвлять только в том случае, если они представляют реальную угрозу для человека.
В этом смысле исламская этика может и должна быть названа жизнеутверждающей. Эта этическая система направлена на то, чтобы выстроить жизнь, максимально ее охранить, причем не только жизнь как таковую (физическое существование), но и жизнь в более широком понимании, включающем обустроенность и материальное благополучие.
Забота о жизни мусульманина, собственной и чужой, составляет обязанность верующего. Именно поэтому категорически запрещено самоубийство, оно является кабӣра «великим грехом». Характерен такой хадис:
Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Кто бросится с горы и убьет себя, навсегда останется в огне геенны. Кто выпьет яд и убьет себя, навсегда (х̱а̄лидан мух̱алладан) останется в огне геенны с ядом в руке, вечно прихлебывая его. Кто умертвит себя клинком, навсегда останется в огне геенны с клинком в руке, пронзая им свой живот»1.
Столь же категорически осуждается убийство. Обратим внимание на такой хадис:
Пророк Божий (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Если два мусульманина направят друг на друга мечи, то и убивший, и убитый окажутся в пламени». Я спросил: «Этот-то — убийца, но почему же убитый?» [Пророк] ответил: «Потому что он хотел непременно убить того»2.
Здесь мы вновь встречаемся с положением мусульманской этики, о котором говорили в самом начале: если имелось, как в данном случае, твердое, искреннее намерение убить другого (пусть даже защищаясь) и оно не осуществилось, поскольку нападавший убил своего защищавшегося противника до того, как тот смог его умертвить, и поэтому реальное действие убийства не было совершено защищавшимся, — однако он бы убил нападавшего, если бы ему не помешали, а значит, поступок убийства совершился с точки зрения этики. Пусть намерение и не реализовалось в реальном действии, — поступок был совершен, потому что действие реализовалось бы,
473
если бы не внешние, не зависевшие от данного человека обстоятельства (мы рассматривали это выше, в п. 4 случаев нарушения нормативной связанности намерения и действия), а значит, переход намерения в действие (а именно такой переход и является поступком) состоялся. Следовательно, поступок (а не действие!), состоявшись, должен влечь наказание.
Спонтанные поступки
Мы сказали, что поступок понимается как процессуальный переход намерения в действие. На формировании продуманного намерения, направленного к достижению благой цели, настаивает мусульманская этика. Формирование намерения находится во власти человека, который сознательным усилием вырабатывает его. Различение непосредственного (ближайшего) и опосредованного (отдаленного) блага и зла служит основанием для рассмотренных двух типов классификации поступков.
Помимо поступков, реализующих в действии сознательно сформированное намерение, бывают поступки, переводящие в действие волевой импульс, который возникает в душе человека спонтанно, а не в результате сознательной работы по его формированию и контролировать который человек не в состоянии. Такие поступки рассматриваются в мусульманской этике преимущественно в той ее части, где речь идет о формировании социальной ткани, о взаимо-действии с другим человеком.
Спонтанные поступки также представляют собой процессуальный переход внутреннего (ба̄т̣ин) во внешнее (з̣а̄хир). Как и в рассмотренных ранее случаях, внешним здесь служит действие (фи‘л). Внутреннее, однако, представлено не намерением, а «состоянием» (х̣а̄л) или «складом» (х̱улк̣, тж. х̱улук̣) души.
Состояние (х̣а̄л) души понимается как мгновенный срез психики. Состояние может быть результатом раздумий над прошлой жизнью, однако главное заключается в том, что оно фиксируется именно в данное мгновение, будучи тем самым состоянием души, которое, выливаясь в действие (фи‘л), заставляет нас совершить поступок.
Еще раз отметим, что вместо «намерения» (ниййа), переходящего в «действие» (фи‘л), благодаря чему и совершается «поступок» (‘амал), в данном случае мы говорим о х̣а̄л «состоянии». Разница тут существенная. Ведь намерение — это результат продумывания и собственного решения человека. Человек именно сам, индивидуально, решает, каким должно быть его намерение.
Это принципиальный момент мусульманской этики. В сочинениях классических авторов мы можем заметить, что это положение формулируют и настаивают на нем в своего рода полемике с той ситуацией, которая имела место в доисламскую эпоху, во времена джахилии. Я имею в виду ‘ас̣абиййа «спаянность», сплачивающую членов кровно-родственной группы.
Почему же именно в полемике с ‘ас̣абиййа «спаянностью»? ‘Ас̣абиййа времен джахилии однозначно и категорически осуждается в исламе. Мы поймем причины
474
этого, если вспомним, что намерение (ниййа) должно быть продуманным каждым человеком индивидуально, пропущенным через себя. Человек должен понимать, каковы цели его действий, он должен понимать, в чем заключается его благо, а в чем — зло, он должен понимать, что такое «интерес» (мас̣лах̣а), и только тогда он может сформировать правильное намерение. ‘Ас̣абиййа же заставляет человека действовать прямо противоположным образом. Ведь ‘ас̣абиййа «спаянность» — это такой склад души, когда человек, не думая и не размышляя, хватается за оружие, если близким угрожает опасность; или же, если его близкие идут воевать за что-то, он также берет оружие и идет воевать, не думая и не размышляя, за что он воюет, правое это дело или нет, благое или злое. Иначе говоря, он не формирует «намерение» (ниййа), не осуществляет личное целеполагание. Поэтому ислам категорически выступает против ‘ас̣абиййа, ибо намерение, вызывающее действие, непременно должно быть продуманным; оно должно быть пропущено через разум, сформировано на основе определенного знания. Отсюда высокие коннотации слов «разум» (‘ак̣л) и «знание» (‘илм) в исламе, отсюда высокий статус «ученого» (‘а̄лим). Ислам настаивает на необходимости знания, поскольку знание нужно для формирования правильного намерения, для того, чтобы человек совершал правильные поступки.
Но бывают и другие ситуации, когда наше действие (фи‘л) вызвано не намерением, а «состоянием» (х̣а̄л). «Состояние» — это то, что обуревает нас в данный момент и выливается в действие. Состояния также классифицируются как хорошие и плохие в зависимости от того, к каким поступкам они склоняют человека. Поступки же понимаются как хорошие или плохие в соответствии с тем, о чем мы уже говорили: поступки, служащие достижению блага, являются хорошими и, наоборот, плохими являются те, что приносят зло.
И, наконец, термин х̱улк̣ (тж. х̱улук̣, мн. ах̱ла̄к̣). Его переводят по-разному — и как «темперамент», и как «характер», и как «нрав». Можно передавать его также словом «предрасположенность», имея в виду предрасположенность к совершению действий, или словом «склад», подразумевая тот или иной склад души.
Термин ах̱ла̄к̣ в классическую эпоху служил для передачи греческого понятия «этика», поскольку античные сочинения по этике, имевшие хождение на арабском языке в классической арабо-мусульманской культуре, и были преимущественно сочинениями об ах̱ла̄к̣ — о нравах в античном понимании, то есть о добродетелях и пороках.
А что такое ах̱ла̄к̣ с точки зрения исламских ученых? Ал-Джурджа̄нӣ говорит, определяя х̱улк̣, что это «прочный склад души, благодаря которому действия проистекают легко, без размышлений и раздумий» [Джурджани 1405: 136]. Как видим, речь идет не о формировании намерения, направленного к достижению продуманной цели, а о том, что действие происходит естественно в силу определенной предрасположенности человека именно к такому действию.
К примеру, если человек обладает щедрым нравом (х̱улк̣), то он легко, без принуждения и без раздумья, действует как щедрый человек. Он не заставляет себя
475
быть щедрым, он щедр естественным образом. Человек остается щедрым с точки зрения мусульманской этики, причем в полном смысле этого слова, если у него соответствующий нрав (х̱улк̣), пусть даже у него нет ни гроша, чтобы проявить щедрость. Пусть это нищий, у которого нет денег и который ничего не может никому дать, — обладая таким нравом, он остается щедрым. Ведь у него имеется скрытое (ба̄т̣ин) — в данном случае не намерение, а склад души, которое перешло бы в явное (з̣а̄хир), то есть в действие (фи‘л), если бы не внешние обстоятельства (его нищета), блокирующие это действие. И наоборот, если человек делает над собой усилие, чтобы проявить щедрость, он не щедр, даже когда раздает большие суммы денег. На этом положении мусульманская этика настаивает твердо и категорично: человек, делающий усилие, чтобы совершить щедрое действие, не является щедрым. Ведь в этом случае нет перехода внутреннего во внешнее, перехода склада души в действие. Это же касается и прочих ах̱ла̄к̣, то есть прочих типов склада души, нравов, предрасположенностей к действию.
С этим связана одна из проблем, дискутируемых в мусульманской этике: можно ли изменить свой нрав? Можно ли, к примеру, воспитать в себе щедрость, если мы не щедры от природы? Здесь большой вопрос. Дело в том, что Аристотелева этика как раз и построена как наука о том, как воспитывать добродетели и как избегать пороков, то есть как изменять нравы (ах̱ла̄к̣). Сочинения арабо-мусульманских авторов классической эпохи, которые писали в духе античной этики, часто назывались Тахз̱ӣб ал-ах̱ла̄к̣ «Исправление нравов». Однако в мусульманской этике вопрос о возможности исправления нравов решается отнюдь не столь однозначно.
С одной стороны, в хадисах имеются свидетельства того, что Мух̣аммад старался исправить нравы людей. Это должно подсказывать нам, что нравы, в принципе, можно изменить. Вместе с тем, гораздо больше свидетельств противоположного. В этом отношении характерен такой хадис:
Посланник Божий (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Верьте, если услышите, что гора сошла со своего места, но не верьте тому, кто скажет, будто некто переменил свой нрав: человеку не отойти от врожденного (ма̄ джубила ‘алай-хи)»1.
Этот хадис, независимо от отношения к его достоверности, очень удачно выражает общий настрой авторов классической эпохи, пишущих о человеческих нравах, и нередко цитируется.
Таким образом, вопрос о принципиальной возможности изменить свой нрав остается дискутируемым. Противостоят две точки зрения — представление о том, что нравы (ах̱ла̄к̣) можно менять, и утверждение, что их изменить нельзя: каков человек от природы, таким он и останется.
476
Вместе с тем, не следует забывать, что существуют два выражения, пользующиеся высокой популярностью: мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣ и х̣усн ал-х̱улук̣. И то, и другое можно перевести как «добронравие». Независимо от теоретической дискуссии о том, можно воспитать нравы или нельзя, можно изменить склад души или он дан человеку от рождения, — независимо от этого мусульманская этика, безусловно, призывает к добронравию.
Ориентиром для этого призыва служит образец, заданный Мух̣аммадом. У Муслима читаем:
…Я попросил: «О мать правоверных (‘А̄’иша. — А. С.)! Расскажи о нраве посланника Божьего (да благословит и приветствует его Бог!)» Она ответила: «Разве ты не читаешь Коран?» Я сказал: «Конечно, читаю». — «Так вот, нравом пророка Божьего (х̱улук̣ набийй ’алла̄х) (да благословит и приветствует его Бог!) и был Коран»1.
Подтверждение этого находим в двух коранических аятах: «Поистине, ты великого нрава» (68:4, К.) и «В посланнике Божием прекрасный пример вам» (33:21, С.). Высшая степень благонравия Мух̣аммада обосновывает стремление мусульман во всем держаться сунны и следовать образцам его поведения. Для шиитов эталон поведения представлен, по меньшей мере наряду с Мух̣аммадом, фигурой ‘Алӣ.
Так что же такое добронравие (мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣, х̣усн ал-х̱улук̣)? Какими нравами должен обладать мусульманин, что поощряется и что осуждается мусульманской этикой?
Если говорить в самом общем виде, то следует обратиться к коранической формуле (7:199): خذ العوف وامر بالعرف х̱уз̱ ал-‘авф ва-’мур би-л-‘урф. Так Бог наставляет Мух̣аммада: «Держись прощения и приказывай…» Что же именно должен приказывать Мух̣аммад?
Предмет его приказания обозначен словом ‘урф. Вспомним более распространенное однокоренное ма‘рӯф (букв. «то, что известно»). Арабские словари классической эпохи объясняют, что ма‘рӯф, как и ‘урф, обозначает тот комплекс черт характера и типов поведения, который известен — отсюда название — среди людей как хороший. Мы можем так определить ‘урф: это совокупность добрых черт характера и доброго поведения, традиционно и добровольно признаваемая людьми в качестве таковой.
Вспомним одно из основных положений исламского вероучения, которое касается фит̣ра «врожденной природы» человека. Ислам считает, что изначальная природа человека не повреждена и что она и есть ислам. Эта уверенность выражена в Коране (30:30), утверждающем, что изначальная сотворенность человека соответствует подлинной вере, поэтому для обретения последней следует лишь обратить свой лик к изначальной универсальной человеческой природе. Та же мысль выражена в сунне:
477
Пророк (да благословит и приветствует его Бог!) сказал: «Каждый рождается в соответствии с изначальной природой (йӯлад ‘ала̄ ал-фит̣ра), а уж родители превращают его в иудея, христианина или мага (т. е. огнепоклонника-зороастрийца. — А. С.)»1.
Иначе говоря, ислам — это естественная для человека религия и образ поведения, соответствующие его устройству. И как таковая, то есть как естественная для человека, эта религия и этот образ поведения хорошо сочетаются с понятием ‘урф — естественно признаваемым людьми комплексом добрых нравов и типов поведения.
Но что такое ‘урф, если говорить более подробно?
’Абӯ ‘Абдалла̄х ал-К̣урт̣убӣ (ум. 1272), автор известного комментария к Корану, приводит хадис, согласно которому Мух̣аммад спросил архангела Гавриила, что подразумевается под ‘урф. Гавриил, по его словам, принес ответ от Знающего:
Всевышний Бог приказывает тебе прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тем, кто отказывает тебе, и воссоединяться с теми, кто тебя отторгает [Куртуби 1967, 7: 345].
Это крайне важная формулировка, благодаря которой мы делаем первый шаг к раскрытию понятия ‘урф «добронравие». Добронравие, как оно трактуется в исламе — это такие качества, которые позволяют завязать отношение с другим.
Говоря о нравах (ах̱ла̄к̣), мы сместили свой взгляд с человека как такового (ведь до этого мы анализировали индивидуальный поступок) на человека в его связанности с другим человеком. Такая связанность «я—другой» представляет собой отношение противоположностей.
Это отношение выстраивается в соответствии с рассмотренным принципом, определяющим архитектонику мусульманской этики. Модель з̣а̄хир-ба̄т̣ин является и в данном случае парадигматической, и свою силу сохраняют те положения, о которых уже говорилось. В данном случае особое значение имеет следующее: процессуальный переход между противоположностями, связывающий их воедино, инициируется одной из сторон. Это значит, что в отношении з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое» одна из сторон должна оказаться «сильнее» другой, чтобы отношение между ними смогло завязаться. Это положение вполне ясно проявляет себя в понимании поступка как процессуального единства намерения (скрытого) и действия (явного): намерение инициирует действие — но не действие как таковое (действие как таковое является самостоятельным и в этом смысле не зависит от намерения, ведь оно может совершаться и без намерения либо с испорченным намерением, см. выше, с. 466, пп. 1—2 нарушения нормативной связанности намерения и действия), а именно действие как з̣а̄хир «явное», связанное с намерением как ба̄т̣ин
478
«скрытым»1. Так и здесь: «я», инициирующий завязывание отношения с «другим», должен оказаться сильнее другого, чтобы это отношение состоялось.
Вернемся к процитированному определению: прощай тем, кто к тебе несправедлив, давай тем, кто тебе отказывает, воссоединяйся с теми, кто тебя отторгает. В этих качествах выражено, в общем и целом, именно стремление завязать отношение с другим, причем даже в том случае, если другой не вполне готов к этому, если он не делает первый шаг. Такое завязывание отношений с другим возможно, если инициирующая сторона проявляет уступчивость по отношению к другому.
Таково, как представляется, стержневое качество, к которому призывает мусульманская этика — проявить уступчивость к другому. Уступчивость не для того, чтобы подчиниться, сдать свои позиции. Ни в коем случае уступчивость не может трактоваться как капитуляция. Она означает такой шаг навстречу другому, чтобы отношение с другим завязалось и поддерживалось.
В самом деле, целый ряд моральных императивов служат именно этой цели. Например, известный императив «не спорь с другим»: даже если ты точно знаешь, что ты прав, а собеседник не стремится это признать и не соглашается с тобой, не спорь, оставь это. Спрашивается, почему? Если я точно знаю, что дважды два — четыре, а собеседник настаивает, что дважды два — пять, почему я не могу отстаивать истину? А вот почему: сохранить связанность с другим, поддержать с ним отношение в данном случае важнее, чем доказать ему свою правоту. Важен лад; важна слаженность отношений. Важно избежать того, что исламская мысль называет шик̣а̄к̣ «раскол», «раздор».
Это стремление к связанности с другим, к поддержанию доброго отношения с другим является в самом деле центральным для исламской мысли. Едва ли это целиком объясняется единственной причиной. Но одна из основных та, что в исламском обществе, в отличие от христианского, нет такого мощного объединяющего института, как Церковь. Христианская Церковь, помимо всего прочего, выполняет и функцию объединения верующих в единый организм. В исламе нет организации, которая бы обладала авторитетом целостного объединения всех. Поэтому в исламе общественное единство и солидарность выстраиваются не сверху, не от целого к части и затем к индивиду, и логически исходным не служит понятие общества как целого. В этом также проявляется архитектонический принцип мусульманской этики: взаимодействие двух выстроено как з̣а̄хир-ба̄т̣ин-взаимодействие, где одна из двух сторон инициирует действие (как ба̄т̣ин, намерение или состояние, нрав, инициируют действие в рассмотренных случаях), а потому должна проявить уступчивость, сделать шаг навстречу. Таким образом, единство общества выстраивается
479
снизу, по ячейкам. Базовой ячейкой является отношение двух — человека с другим человеком. Поэтому мусульманская этика так настаивает на том, чтобы это отношение завязывалось и чтобы оно было крепким, прочным. Даже в том случае, если другой не слишком склонен к этому, нужно сделать шаг ему навстречу.
Другой ученый из Кордовы, ’Абӯ ал-‘Абба̄с ал-К̣урт̣убӣ (1173—1259, учитель упомянутого ал-К̣урт̣убӣ), автор комментария на «ас̣-С̣ах̣ӣх̣» Муслима (ал-Муфхим фӣ шарх̣ Муслим), пишет: «Нравы (ах̱ла̄к̣) — это черты человека, благодаря которым он взаимодействует с другими»1. Это означает, что, ведя речь о нравах, мы говорим не о добродетелях и пороках, которые характеризуют человека как такового, мы говорим о том, что позволяет ему взаимодействовать с другим. Вот где акцент, вот на чем сосредоточено внимание. Нравы, продолжает ал-К̣урт̣убӣ, «бывают одобряемыми и порицаемыми». И дальше: «В целом одобряемое — это когда ты [заодно] с другим против себя». Что это значит? Он поясняет: «Справедлив к другому, несправедлив к себе»2. Словом «справедлив» я передаю арабское мунс̣иф — букв. «делящий пополам». Однокоренное инс̣а̄ф выражает смысл точного деления пополам, на равные доли и служит в арабском одним из эквивалентов понятия «справедливость». Казалось бы: быть заодно с другим, встать на точку зрения другого означает поменяться с ним местами, отнестись к другому как к себе и, следовательно, к себе как к другому, а значит, универсализировать моральное суждение, сделать его равно приложимым к любому. Но здесь — другое продолжение: быть заодно с другим означает «отдать другому половину» (= быть справедливым к нему) и «не брать половину себе» (= не быть справедливым к себе), то есть отдавать, но не брать. Было бы ошибкой думать, что этот императив универсализируем3. Ведь нельзя сказать, что и от другого мы действительно ждем того же, то есть предполагаем, что и другой будет отдавать, но не брать. Ведь в таком случае никто не сможет отдать, поскольку никто не будет брать. Выражая пожелание отдать, но не взять, мы тем самым выражаем пожелание к другому взять, но не отдать. З̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношение несимметрично, а потому не универсализируемо. Это чрезвычайно важная черта мусульманской этики, определяемая ее архитектоникой: неуниверсализируемость морального идеала4. Встать на точку зрения другого означает не выровнять отношения, а склонить баланс в пользу другого. Ал-К̣урт̣убӣ продолжает, раскрывая значение этого общего требования: «По отдельности это — быть прощающим, кротким, великодушным, терпеливым, сносить
480
обиды и вред, быть милосердным, сострадательным, удовлетворять нужды другого, быть дружелюбным и гибким. А порицаемое — противоположное этому».
Стремление трактовать фактическое равенство в пользу другого ярко выражено в изречении, которое Ибн Муфлих̣ (ум. 1362, знаменитый факих-ханбалит) вкладывает в уста ал-Аш‘аса ибн К̣айса, предводителя племени кинда. Это — знаменитое племя, представители которого сыграли заметную и противоречивую роль в ранней исламской истории. Ал-Аш‘ас ибн К̣айс обращается к своему народу с призывом к благонравию:
Я — один из вас, не имею ни перед кем преимуществ. К вам обращаю свой лик, вам на службу ставлю свое состояние, удовлетворяю ваши права и нужды, защищаю ваших жен. Кто будет поступать как я, тот…
какого продолжения ожидает читатель? Равен мне? Нет:
…кто будет поступать как я, тот лучше меня; а кого я превзойду, того я лучше [Ибн Муфлих 1930, 2: 215].
Как видим, здесь та же идея: если мы равны, ты лучше меня. Казалось бы, парадокс: равенство не может заключаться в неравенстве, а справедливость — в том, чтобы оценивать одно и то же разной мерой. Но именно таково требование архитектонического принципа мусульманской этики: это баланс, сдвинутый в пользу другого.
Ах̱ла̄к̣ — нравы, предрасположенности к действиям — могут описываться очень подробно. Авторы составляют длинные списки нравов-ах̱ла̄к̣ и обсуждают их во всех деталях. Но в целом идея состоит в том, что хорошие нравы — это те, которые позволяют завязать отношения с другими.
Именно в этом смысл призыва к скромности — известного призыва мусульманской этики. Ведь скромность удерживает от того, чтобы выделиться и встать над другим человеком. Конечно, положительное отношение к скромности связано и с историческими особенностями принятия ислама, когда, как повествует исламская история, «заносчивые гордецы» противились исламскому призыву, тогда как принимали его скорее люди скромные. Однако в дальнейшем призыв к скромности освободился от этих исторических деталей и рассматривался независимо от них.
Призыв к скромности предполагает, что мусульманин не должен выделяться по отношении к другому, не быть выскочкой. Почему? Именно потому, что необходима общественная солидарность, связанность с другим. Отсюда то, что называют исламским видом одежды: скромные, не кричащие цвета, скромные ткани. Скажем, не одобряется шелк и другие дорогие материалы, не одобряются шлейфы на платьях. Почему? Что, мусульмане способны оценить только приглушенные цвета (белый, серый, коричневый, черный) и не могут воспринять красоту ярких красок? Или мусульмане от природы не любят дорогие красивые ткани, шелк и тому подобное? Конечно, нет. Дело в том, что таким образом человека призывают к тому, чтобы быть солидарным с другим, чтобы не выделяться по отношению к другому.
481
Соответственно, отрицательными чертами характера являются те, что препятствуют такому завязыванию отношения с другим. Но это не просто автоматическое отрицание добрых качеств. Здесь тоже есть своя логика, и она определена архитектоникой мусульманской этики.
Говоря об отрицательных чертах, как правило, в числе первых выделяют нифа̄к̣, или муна̄фак̣а «лицемерие». Это известный термин и фикха, и исламской доктрины. Муна̄фик̣ «лицемер» определяется как человек, который питает в сердце убеждения, противоречащие исламу, а действует как мусульманин. Речь идет в первую очередь о людях, которые в период исламских завоеваний принимали ислам, но продолжали полностью или частично придерживаться прежних убеждений. Лицемерное поведение — это, спору нет, плохая вещь. Вряд ли можно найти этическую систему, которая оценивала бы лицемерие положительно. Но где оно выдвигается на первое место среди плохих качеств? Почему лицемерие столь плохо? Не забудем, что лицемер может быть внешне благочестив в том смысле, что соблюдает все обряды и выполняет все обязанности мусульманина. В чем же дело? А дело в том, что у лицемера нарушено соотношение между ба̄т̣ин «внутренним» и з̣а̄хир «внешним»: убеждения у него одни, а действия совсем другие, не соответствующие убеждениям. Такое нарушение соотношения между внутренним и внешним противоречит архитектоническому принципу устройства мусульманской этики, и лицемерие выделяется отдельно в числе отрицательных качеств.
Если лицемерие разрушает индивидуальный поступок, то разлад разрушает связанность-с-другим, разрывает ткань социальности. Поэтому отрицательно расценивается шик̣а̄к̣ «раздор» и всё, что ведет к раздору, к разладу; отрицательно оценивается задиристость и спор (джида̄л). Но спор не в смысле научной полемики: такого рода развернутые дискуссии в классической исламской литературе велись вокруг огромного количества вопросов. Речь идет о споре, который приводит к разладу и доходит до разрыва отношений, — именно такой спор осуждается.
Осуждается вероломство и притворство — в силу той же логики. К примеру, вероломство ведет к потере веры в другого, а значит, делает невозможным поддержание нормальных отношений. Осуждается ложь — даже ложь во спасение, а уж тем более намеренная. И, наоборот, высоко оцениваются противоположные качества: надежность (’ама̄на), честность, верность слову и другие.
Таковы нравы, или предрасположенности к действиям, которые мусульманская этика оценивает положительно — как мака̄рим ал-ах̱ла̄к̣, или х̣усн ал-х̱улук̣, и те, что противоположны им и оцениваются отрицательно.
Мы рассмотрели, каким образом системообразующие принципы мусульманской этики проявляются на разных этапах ее построения как единой системы знания и как они руководят выстраиванием основных категорий и логикой рассуждения. Так мы подошли к ответу на вопрос, поставленный в начале. То характерное
482
содержание, которое вкладывается в понятие «мусульманская этика», определено не только конкретным наполнением этой этической системы, почерпнутым из авторитетных текстов ислама и развитым в работах мусульманских ученых. Оно определено также архитектоникой его выстраивания, представленной принципом з̣а̄хир-ба̄т̣ин-противоположения (противоположения «явное-скрытое») и процессуального перехода между противоположностями. Этот принцип лежит в основании не только мусульманской этики, но и прочих сегментов классической арабо-мусульманской культуры. Именно этот факт делает мусульманскую этику столь хорошо «пригнанной» к другим областям этой культуры.
 |

|
483
Мы стоим перед вызовом тезиса об общечеловеческих ценностях. История человечества едина, говорят нам, несмотря на признаваемое сегодня, как никогда ранее, и принимаемое по-видимому всерьез «разнообразие» культур и цивилизаций. Более того, именно это признание прав других на «разнообразие» и «своеобразие» и заставляет с большей, чем прежде, настойчивостью искать основания всеобщего единства. Единство разума и разумного традиционно полагается западной мыслью как сущностное общечеловеческое единство. Более того, это единство столь часто оказывалось единством космическим, будь то единство космоорганизующего Разума или единство, вытекающее из антропного принципа. В пределах этого троякого сущностного единства — единства человечества, единства космоса, единства человечества и космоса, как бы он, этот сущностный характер единства, ни понимался, и идет разговор о разнообразии и инаковости.
Единство ценностей — привычная XX веку форма разговора о возможности общечеловеческого единства. Все или почти все готовы говорить или слушать о гуманности и терпимости, общих правах и общих идеалах. Мы привыкли думать, что в языке если не всех, то большинства народов мы встретим слова, за которыми стоят эти понятия. Говоря об общечеловеческих ценностях, стремятся выделить общее содержание этих ценностей; обычно предполагается, что только если такое общее содержание найдено, можно говорить об общих ценностях.
Но действительно ли так просто узнать, что стоит за? Как, собственно, заглянуть за слово чужого языка; как увидеть, что находится за тем «значением», которое столь удачно совпадает со «значением слов» моего языка? Не оказываемся ли мы в плену своего предзаданного тезиса о глубинном сущностном единстве основополагающих понятий, задающих смысл и ценность человеческого существования, которые лишь принимают разную форму или понимаются в разных аспектах (причем дело в данном случае совершенно не в том, насколько разными оказываются эти аспекты; важна лишь принципиальная возможность увидеть их общее основание) в тех или иных культурах, в те или иные эпохи? Очень часто суть исследования на такую тему сводится к стремлению выявить это общее содержание. Очень часто споры на такую тему ведутся вокруг этого — предполагаемого — общего содержания.
484
Справедливость — одна из таких ценностей. Вероятно, она скорее многих могла бы оказаться в самом деле общей — ведь все народы действительно живут в сообществах, все народы сталкиваются с необходимостью свою общественную жизнь организовать с помощью определенных правил, установив эти правила наилучшим образом и пресекая их нарушение наиболее эффективным способом. Этими, несомненно, общими для жизни любого народа чертами и задается как будто бы общий контур позитивного понимания «справедливых отношений», или «справедливости».
Современный арабский автор, юрист-практик, посвятивший немало времени также и разработке теории11, в одном из своих трудов так определяет справедливость (‘ада̄ла)8:
Политическая справедливость — это право (х̣ак̣к̣) каждого индивида участвовать в отправлении политической власти. Социальная справедливость — это право (х̣ак̣к̣) на равные возможности, недопущение эксплуатации, вынесение подлинной оценки труду каждого индивида, удовлетворение его естественных и социальных потребностей гармонично (фӣ ал-и‘тида̄л), без ущемления прав других, без ущерба общественным делам и общим ценностям. Юридическая (к̣ад̣а̄’иййа) справедливость — это право индивида ясно представлять себе правила и законы, регулирующие его отношения с другими индивидами и с обществом, а также его право на равенство со своим противником перед этими правилами и законами. Таковы идеи справедливости, выработанные современной цивилизацией и выношенные новым человеческим духом [Ашмави 1984: 15—16].
Дав такое определение справедливости, ал-‘Ашама̄вӣ задает вопрос, ответом на который и должно послужить все его исследование:
Так какова же основа идеи справедливости? Есть ли это естественная идея, доведенная цивилизацией до своей ясности, или же это — идея социальная, созданная этой цивилизацией? [Там же: 16].
485
Автор не питает, видимо, никаких сомнений в общечеловеческом характере «современной цивилизации» и выработанных ею ценностей. Тем интересней узнать его ответ — повторим, ответ человека, уверенного, что он ведет речь об универсальной идее справедливости, универсальной не только в синхронном срезе современного ее обсуждения (и воплощения), но и в асинхронной неизбежности наличия этой идеи у всех народов и во все времена. Итак, вот что он говорит:
Идея справедливости есть у каждого человека как некоторое смутное и неясное представление. Заключенная в самой его человеческой природе, она выявляется, однако, только по мере духовного роста и умственного созревания [Ашмави 1984: 16].
Не будем обращать внимания на привязанность автора к концепциям «человеческой природы» и «вызревания смутных врожденных представлений». Важно, собственно, не это — важно то, какой видится ему эта общечеловеческая идея справедливости. Именно к этому мы сейчас и подходим:
Естественная основа идеи справедливости заключена в той согласованности (тава̄фук̣), которая характерна для всего мироздания, которая организует органы тела и в соответствии с которой устроено все вокруг1. Любая вещь в мироздании удивительнейшим образом согласуется со всем прочим, будь то на космическом или на атомном уровне. Все органы тела явно пригнаны один к другому, действуя ради единой цели. Все, что видит вокруг себя человек, будь то сообщество муравьев или пчелиный улей, являет все признаки согласованности. Все согласовано по истине, все согласовано в своей конечной цели, даже если явное состояние дел говорит об обратном или если в какой-то момент в это трудно поверить. Эта согласованность означает, что все, что отклоняется от правила (к̣а̄‘ида), должно быть отвергнуто, все, что нарушает закон, — отторгнуто, что всякое отступление от закона ненормально. Справедливость (‘ада̄ла) же означает, что все, что вышло за рамки правила (к̣а̄‘ида), следует вернуть к начальному состоянию (’ас̣л), что то, что нарушило закон, следует исправить, дабы оно вошло в норму, и что все, отклонившееся от согласованности, должно быть направлено вновь к согласованности. Вот это врожденное ощущение космической согласованности и необходимости ее сохранения ради того, чтобы пульс мироздания, пульс человека и пульс общества всегда оставался наполненным, и порождает в каждой душе дух справедливости, дабы трудиться ей — в одиночку ли, в сотрудничестве ли с другими — в непрестанном космическом, социальном и личном согласии [Там же: 16—17].
486
Следует ли и эти слова расценить как некритическое следование некритически воспринятым утверждениям, как воспроизведение характерных воззрений на Вселенную как единый согласованный организм? Даже если это и так, то не это интересует нас сейчас. Пусть мы согласимся с тем, что наш автор просто рассуждает на тему общечеловеческого характера справедливости, используя готовый набор понятий и концепций; мы при этом все же ощутим некоторый привкус несоответствия — быть может, и незначительного и малозаметного, но в силу этой «неуловимости» тем более мешающего. И дело вовсе не в том, что процитированные слова вызывают желание оспорить их. Кажется, в самом способе аргументации и обращения с понятиями есть что-то необычное.
Такая необычность, точнее, ощущение ее наличия и есть, кажется, отправная точка компаративного исследования, а попытка прояснить ее основания, превратив тем самым в естественность, хотя и иного рода, нежели привычная нам, — его содержание. И если дальше в этой статье речь будет идти почти исключительно о реалиях исламской культуры, это никак не меняет ее компаративистского характера.
Необычность, о которой мы заговорили, — это, конечно, непривычность, неестественность нашего понимания. Привкус несоответствия чему-то, что, кажется, с абсолютной неизбежностью должно присутствовать и лежать где-то в основании рассуждений (ведь именно поэтому наше ощущение столь мимолетно и трудноуловимо), — этот привкус заставляет нас попытаться вдуматься в ту логику, которая выстраивает таким, не вполне для нас обычным, способом ансамбль смыслов вокруг понятия «справедливость».
Прислушаемся к Сеййиду Кутбу:
Невозможно говорить о природе исламского понимания социальной справедливости, не изучив сперва основополагающих представлений этой культуры о том, чтó есть мир, что есть жизнь и что есть человек. Ибо социальная справедливость — не более чем ветвь той великой науки, на которую должны ориентироваться все исламские исследования. ...Ислам выработал единую всеобъемлющую теорию о мире, жизнеустройстве и человеке, включающую в себя все многоразличные вопросы [Кутб 1970: 17].
Нет необходимости спорить с этим автором в том, что касается содержания его концепции справедливости. Для нас важно другое — признание интегрированности представлений о том, чтó есть справедливость и справедливое, в общий смысловой комплекс традиционного осмысления Вселенной. В том, что прежде и до изучения любой конкретной теории справедливости, выработанной исламской культурой, следует попытаться понять основополагающие интуиции мироосмысления, характерные для этой традиции, С. Кутб совершенно прав. То, что мы ищем, то, что заявляет о себе как непривычность нашего понимания, лежит гораздо глубже конкретного содержания теорий. Основные интенции
487
понимания «растворены» в культуре мысли и говорят о себе — негромко и неброско, но оттого не менее настойчиво и властно — во всяких проявлениях теоретической мысли1.
«Укорененность в традиции» не составляет, конечно, особенности исламского представления о справедливости; ее особенность — укорененность в исламской традиции мысли. Вряд ли плодотворно прямолинейное сравнение высказываний исламских авторов с теориями, выработанными западной мыслью. Вместо этого попытаться понять, как традиция рождает то особое в исламском понимании справедливости, что признается независимо от нюансов конкретных рассматриваемых представлений и конкретных позиций рассматривающих эти представления мыслителей, — вот наша задача2.
Мы попытаемся прояснить наше начальное ощущение (еще смутное, но полновесно заявляющее о себе и требующее к себе внимания), обратившись в культуре ислама к тому смысловому комплексу, который составляет основу понятия «справедливость». Речь пойдет о понимании, или даже об интуиции, истины, истинности и истинного; пространства и времени и их соотношении с «тем, что в пространстве и времени», то есть с «вещами»; далее мы рассмотрим вытекающее из этого понимание закона, законного и закономерного. На этой основе мы сможем обсудить проблемы униформности, единства, всеобщности и непротиворечивости как предполагаемые логические требования к закону, выясняя обоснованность этих предположений в обсуждаемом случае. Наконец, рассмотрев понятия права и обязанности, мы подойдем (я надеюсь) к нашей цели: традиционное исламское понимание справедливости предстанет как опирающееся на фундаментальные категории этой культуры.
488
1. Философия, кажется, это любовь не столько к мудрости, сколько к истине. Однако о своей любви к истине заявляет не одна философия. Та «исламская наука», на которую С. Кутб призывает ориенталистов (и не только ориенталистов) ориентировать свои исследования, также строится на утверждении истины. Не будет преувеличением сказать, что она восходит к знаменитому кораническому тезису: «Правильное ясно отличено от заблуждения»1. Ясность истины — глубокая кораническая интуиция, пронизавшая исламскую культуру. Весьма показательно, что процитированные слова высказаны в пояснение коранической максимы, которая сегодня (речь не идет об исторических обстоятельствах обнародования этого аята) часто приводится как свидетельство непринудительности принятия ислама («В делах религии нет места принуждению»2): выясненность правильного вполне достаточна для того, чтобы разумный человек выбрал верную, а не ошибочную, дорогу.
«Истинное», «истина» (х̣ак̣к̣) — одно из наиболее частотных слов Корана3. И хотя в вышеприведенной цитате употреблен не этот термин, а ар-рушд, не составляет труда указать многочисленные контексты, где ал-х̣ак̣к̣ употребляется в этом же смысле. Столь же настойчиво очевидность истины (и ее принуждающий характер: ясная истина просто не может быть не принята, разве что по корыстным соображениям) утверждается в аяте, повествующем о кознях иудеев и христиан против мусульман: «Многие из людей Писания, уже после того, как истина ясна им (табаййана ла-хум ал-х̣ак̣к̣), желали бы из зависти вас, уверовавших, вновь превратить в неверующих»4. Собственно, как можно не видеть ясной и представленной всем истины? Если истина здесь, перед нашими глазами, кто не увидит ее? Кажется, совсем не трудно видеть то, что есть на самом деле. Показательно, что глагол, который мы переводим как «не веровать» (кафара), означает по-арабски не что иное, как «скрывать». Когда истина предстоит всем, ее нельзя не увидеть — от нее можно только отвернуться или сознательно ее скрыть, от себя или от других.
Истина ясна, истина утверждена, истина убедительна. В этой коранической интуиции истины для нас интересно это ее свойство: истина, хотя и имеющая высшее (божественное) происхождение, вовсе не есть нечто принципиально вне-земное. Истина — здесь, перед нами; истина представлена нам. Истина во всей ее
489
полноте1 дана нам как предстоящая нам ясность2. Эпитет ясный (мубӣн) — один из часто употребляемых в Коране для характеристики истины.
Коннотация истины и необходимости: истина заставляет и истина необходима,— заявившая о себе в Коране, оказывается непреходящим моментом в культуре исламской мысли. (Я вовсе не хочу сказать, что коранические откровения определили преобладание этих черт; речь идет не о причинной зависимости, а самое большее — о корреляции.) Эта коннотация закреплена и в языке. Словарь Ибн Манз̣ӯра, компетентнейший свод общеязыковых значений лексики средневекового языка, определяет истину (х̣ак̣к̣) как 1) необходимость (ва̄джиб) и 2) правдивость (с̣идк̣) [Ибн Манзур, статья х̣-к̣-к̣]. Истинное неизбежно, подсказывает нам арабский язык. Истина как правда прямо связана с истиной как необходимо-существующим. Глагол «признать» (мы говорим: признать истину; или же — познать истину) в русском языке самим своим звучанием, самой своей смысловой родословной относит истину к гносеологической области, закрепляя за всеми процедурами ее разыскания статус поиска знания, о чем свидетельствует отглагольное существительное «при-знание». Соответствующий глагол в арабском языке звучит иначе. То, что мы бы выражали как «признание истины», арабский язык выражает как «утверждение истины»: ик̣ра̄р ал-х̣ак̣к̣. Глагол ак̣арра, для которого именем действия является ик̣ра̄р, означает «установить», «укрепить», «придать незыблемость». То, что таким образом утверждено, то незыблемо и не изменяется. Истинное — это, собственно, более сильное, более прочное и более устойчивое. «Слов Божиих не переменить», говорит нам Коран3: в этом тезисе явно слышен отзвук интуиции утвержденной истины. Этот тезис рефреном дважды повторяется в Коране (6:115 и 18:27). Для нас интересен первый из этих двух случаев, где неизменность прямо связывается с правдивостью и справедливостью Слова: «Совершенно слово Господа твоего в правдивости и справедливости (‘адл): слов Божиих не переменить»4.
Мы, таким образом, находим истину не как очищенность от всего преходящего, изменяющегося, мелкого. Истина, утвержденная и в своей утвержденности незыблемая, пока что не делает никакого различия между «сиюминутным» и «вечным». Истина не потому истинна, что поднялась над непребывающим; она истинна
490
потому, что утвердилась1 среди и в потоке непребывающего. Способность утвердиться и найти устойчивость, неизменность и твердость в потоке меняющегося — характеристика процессуального понимания истины. И дело, конечно, не в том, что истина хочет сиюминутного или не ищет вечного; дело в том, что и сиюминутное здесь может оказаться вечным. Истина может равно быть как на небе (ал-х̣ак̣к̣, Истинный — одно из имен Бога), так и на земле.
2. Интуиция ясности истины, однако, вовсе не лишает ее проблемности. Может быть, напротив, именно она и создает ту парадоксальность, удивление по поводу которой и попытки разрешения которой пронизывают классическое арабское мышление. Эта парадоксальность заключается в том, что ясная истина далеко не всегда оказывается явленной.
Возможно, впервые2 ясность и явленность заявляют о своем несовпадении появлением разных вариантов понимания Истины как таковой — Божьей речи, Корана. Впрочем, напряженность соотношения ясности и явленности имманентна самому Корану — тому, как именно заявлена Истина. Истина, ясная и абсолютно незыблемая, является из Сокрытого. Речь не идет здесь о той оппозиции, которая станет столь излюбленным инструментом классического арабского мышления — оппозиции явное-скрытое (з̣а̄хир-ба̄т̣ин). То Сокрытое, откуда до нас дошла ясная Истина, — это ал-г̣айб, то, где «нет присутствия»3. Ясная Истина явлена нам оттуда, где нас, вообще говоря, нет и куда нам, вообще говоря, никогда не будет доступа.
Даже развитые мистические течения оставляют неприкосновенной тайну Сокрытого (ал-г̣айб). «Ключи сокрытого» — только у Бога, говорит Ибн ‘Арабӣ [Ибн Араби 1980: 133; см. также 120—121], опираясь на известный хадис. Те «путешествия к Богу», о которых повествуют, скажем, Ибн Сӣна̄ или Шиха̄б ад-Дӣн ас-Сухравардӣ, также не открывают Сокрытого. Состояние «присутствия при Боге» (х̣уд̣ӯр ма‘а ’алла̄х), которое составляет наивысшую точку подъема мистика (и вообще с этой точки зрения предел стремлений для человека), насколько я понимаю, не открывает человеку тайны Сокрытого4.
491
Вполне вероятно, что невозможность увидеть Истину там, в тайном первоистоке ее первобытования, и предопределяет невозможность восхождения к за-предельной истине. То Сокрытое, где бытует и бытийствует Истина, предвечно в подлинном смысле этого слова. В это Сокрытое нет «доступа», там невозможно никакое «присутствие» просто потому, что в этом Сокрытом ничего нет — нет никакой вещи. Это Сокрытое — то, о котором говорится: «Есть Бог, и с Ним ничего» (ка̄на ’алла̄х ва ла̄ шай’ма‘а-ху)1. Это Сокрытое, таким образом, — до всякого времени и до (здесь логическое «до») всякой вещи, это Сокрытое есть только тогда, когда больше ничего нет.
Итак, ясная истина предъявлена нам — но, оказывается, совсем не обязательно явлена. Парадокс не-явленности ясной и предъявленной истины — глубочайшая проблема, прямо вырастающая из описываемой интуиции истины. Эта проблема фундаментальна; она постоянно требует своего разрешения и в то же время этого решения не допускает. Она, иначе говоря, превращается в непрестанный импульс, вечный источник движения классической мысли.
Истину ясную, предъявленную, но не явленную — следует вы-явить. Предъявленная-но-неявленная истина — это скрытое (ба̄т̣ин). Процедура ее выявления (из̣ха̄р, байа̄н) — это, вообще говоря, процедура познания в самом широком смысле, находимая нами в самых разных дисциплинах. Вы-явление скрытой истины при уверенности в ее предъявленности — достаточно общая характеристика процесса познания.
Познанное есть явленное — когда оно явлено непосредственно. Познанное есть также вы-явленное — когда его явленность достигнута особыми усилиями и с помощью специальных процедур. В любом случае истинно то, что предстоит нашему взору в своей очевидной явленности.
Предъявленность истины означает, что вся истина — здесь, перед нами; мы, быть может, не видим часть ее, скрытую-за: скрытую за тем, что явлено непосредственно. То, что явлено непосредственно, облачает истину: истина внутри облачения. Образ одежд, покрывал, закрывающих тело истины — один из самых популярных в классическом исламе для описания скрытой (ба̄т̣ин) истины. Одежды и покрывала, однако, не только (а может, и не столько) скрывают, но и подсказывают, но и ведут к тому, что за ними: в одеждах предстает перед нами вполне осязаемый, здесь-представленный лик истины; тело-в-одеждах, а не бесплотная тень чего-то. Поиск истины — это ныряние-вглубь, а не восхождение-ввысь. Раз-облачение и оказывается вы-явлением истины.
Не только познание истины предметов, но и узнавание подлинности мыслей описывается таким образом. Мысль другого есть нечто скрытое — то есть скрытое-от-меня, но все же наличное-здесь: то, что может быть вы-явлено. Выявление мысли — функция слова: оно классической арабской мыслью описывается как выявитель
492
смысла1. Не точечный знак, не произвольная метка, но подлинное выявление смысла2. В понятии смысл (ма‘нан) достигается единство понимания внутренней выявляемой истинности вещи и внутренней выявляемой истинности мысли.
3. При такой предъявленности и несомненной убедительности видимой и доступной взору истины приоритет в споре сомнения и уверенности получает уверенность. Утвержденное может быть побеждено отнюдь не эфемерным «сомнением» (оно и «сомнение»-то потому, что само не есть истина), а столь же утвержденной истиной. Для платонически-ориентированного взгляда сомнение пятнает истину, и она, теряя свою чистоту, перестает быть истиной, по крайней мере до тех пор, пока не очистится. Поэтому сомнение и может быть методологическим принципом: оно предполагает борьбу с собой, оно, побеждая, может отделить ложь от истины или, уступая, истину ото лжи; сомнение требует к себе внимания, оно будит мысль и заставляет искать аргументы. Существенной предпосылкой этого является поиск чистоты истины как условия ее силы.
Однако не так тогда, когда истина утверждена и потому ясна. Здесь истинное значение слова ясно для всех именно потому, что оно утверждено всеобщим
493
употреблением в соответствии с изначальным установлением (вад̣‘); здесь кораническое откровение ясно для всех потому, что оно утверждено высшим авторитетом Давшего его и Установившего (ва̄д̣и‘) Закон. Утвержденность учреждена действием Действователя. Глаголы, обозначающие градации процесса обретения знания, выражают не что иное, как разные ступени утверждения и закрепления познаваемого в результате некоего взаимодействия с предметом познания, дающего прочную связанность с ним1. Слабость сомнения и его бессилие в борьбе с утвержденностью выражены и в известном положении фикха «Уверенность
494
не уничтожается сомнением» [Маджалла 1880: 11]1: этот тезис современные теоретики выделяют в качестве одного из основополагающих для традиционного правосознания (см. [Мавсуа 1986; Раздел «’Ас̣л». С. 55—61]).
Каким образом, однако, истина обретает и сохраняет свою утвержденность? И что есть эта утвержденность, составляющая столь принципиальную черту истины? Что утвержденность дается чем-то, что наделено силой и властью даровать ее, мы имели возможность видеть. Но как именно утверждается истина? И какой именно оказывается ее утвержденность?
4. Истина, утверждающая себя как вот-это-предстоящее нам, может быть представлена и предъявлена как единичное и экземплифицированное. Ясность вот этой истины не затуманена эмпирейной вознесенностью. Истина здесь, среди окружающего нас мира; она представлена вот этим. Постижение истины требует не подъема и освобождения от потока текущей изменчивости, а устойчивости в этом потоке.
Понимание истины как стоящей над временным потоком и освобожденной от временной изменчивости было хорошо известно исламской культуре. Скажем, у Ибн Сӣны находим весьма красноречивое утверждение платонических мотивов
495
очищения от преходящего и воспарения над временем и пространством как признаков и условий истины, будь то в онтологической сфере:
Есть субстанции отъединенные и очищенные (джава̄хир муфрада муназзаха), кои не настигает время и кои не бывают уставляемы на какое-либо место; они бегут от сих [земных] тел, [подчиняясь] вражде противоположностей и стремглав уносясь прочь. А Необходимо-сущий выше отъединенных субстанций и более их возвышен и очищен (таназзух); так как же может с Ним смешиваться сенсибельное и телесное? [Ибн Сина 1894: 38] —
или в сфере мистико-интуитивного познания:
Речение его (да благословит и приветствует его Бог!): «Молящийся тихо беседует с Господом своим»1 говорит о том, как познают души отделенные (муджаррада), освободившиеся (х̱а̄лийа) и чистые (фа̄риг̣а, букв. «пустые». — А. С.) от временных возникновений (х̱ава̄дис̱ аз-зама̄н) и пространственных направлений (джиха̄т ал-мака̄н): они свидетельствуют Истинного разумом (муша̄хада ‘ак̣лиййа) и зрят Бога господним, но не телесным, зрением [Там же],
подтверждением чего может служить и даваемое им определение «истинной молитвы»:
Внутренняя (ал-к̣исм ал-ба̄т̣ин), истинная (х̣ак̣ӣк̣ийй), отъединенная от фигур (муфрад ‘ан аль-хай’а̄т), отделенная от изменений (муджаррад ‘ан ат-таг̣аййура̄т) — мольба глаголющей души к Господу твоему [Там же: 39].
Однако платонические мотивы понимания истины не доказали своей стойкости (утвержденности — если пользоваться имманентным критерием истинности) в культуре классической исламской мысли. Вряд ли их бытование было намного шире, чем круг приверженцев фальсафа; да и здесь они не проявляли своей абсолютной власти. Скажем, у Ибн Сӣны с процитированными словами соседствуют такие, в которых вполне отчетливо видно понимание истины как фиксированности и неизменности внутри потока перемен:
...Единый, ...Который один и тот же во всех Своих атрибутах и самость Которого не изменяется ни в какой момент времени (вак̣т) [Там же: 37].
Мух̣йӣ ад-Дӣн Ибн ‘Арабӣ видит вечное не как «поднятое-над» временным, а как воплощенное в нем. Временнóе — вовсе не тень вечного, а его полновесное представление. Надо видеть и временное, и вечное — этот двойной акцент объясняет многое в отличиях арабского мистицизма от западного.
496
Впрочем, дело не в количестве цитат и не в перечислении имен (сколь блестящими бы они ни были), а в самой находимой нами здесь логике придания понятиям смысла. Искать истину во времени, а не над временем оказывается неизбежностью. Сокрытое (ал-г̣айб), первоисток (исконная утвержденность) всего никогда не выявляет себя: предвечность остается предвечностью, она не позволяет говорить о себе. Первичная истина поэтому должна быть найдена не вне, а во времени — иначе мы вообще не найдем ее. Находимое во времени, но не временнóе — вот что такое перво-истина с этой точки зрения. Находимое во времени, но не временнóе — как нельзя более точное определение процесса.
Истина, данная нам и предстоящая нам как вот эта утвержденность, дана не как истинность чего-то, а как сама истина. Постижение истины не требует внимания к тому, что стоит за «вот-этим». Постижение истины — это ее настижение: достаточно видеть, чтобы увидеть. Глагол адрака — постичь — выражает действие стрелы, попадающей в мишень, силков, захватывающих добычу. Постичь истину — значит встретить ее на своем пути, увидеть ее перед собой1. Истина есть нечто, утвержденное здесь, перед нами, в нашем пространстве и времени. Разговор об истине не предполагает обязательности ухода от данного и перехода к чему-то пока не-найденному; он не предполагает ни перехода онтологического — к вечному, непричастному временнóй текучести, ни перехода гносеологического — к знанию о вещи, ей соответствующему и потому в своем неизменном соответствии истинному. Истинна, собственно, сама вещь2.
Истина как утвержденное-и-ясное порождает, как корень, целую гроздь понятий. Из этого понимания истины вырастает такое понимание осуществленности вещей и нашего постижения этой осуществленности, которое сливает эти два аспекта почти до неразличимости.
Вероятно, одно из наиболее ярких тому свидетельств — производные от х̣ак̣к̣ слова, связанные с процессом постижения или установления истины. Заметим: постижение и установление говорим мы, вынужденные самим строем нашего
497
языка однозначно фиксировать, идет ли речь о гносеологическом (постижение, установление в смысле выяснение в знании) или онтологическом (установление как утверждение-в-бытии, про-из-ведение) аспекте истинного. Показательно при этом, что онтологическое звучание термина «утверждение» вряд ли будет понятно само себе, и его придется (в отличие от термина «постижение») специально оговаривать, чтобы оно не было понято как синоним «постижения». Истина для нас все же тяготеет к гносеологическому звучанию.
Тах̣ак̣к̣ак̣а, глагол, наиболее близким переводом которого на русский служило бы словосочетание «быть по истине», употребляется в арабском в тех случаях, где мы бы с равным основанием могли сказать и «получать действительное существование», и «истинно постигать». Действительная вещь, вещь, существующая реально — шай’ мух̣ак̣к̣ак̣ — это вещь, достигшая своей истинности. «Постижение истинности вещи» — тах̣к̣ӣк̣ аш-шай’ — может вне контекста с равным правом быть понято и как «осуществление вещи».
«Истина» (ал-х̣ак̣к̣) и есть само «истинное», сама «истинная вещь». Истина, таким образом, не заявляет никакой определенности своего бытийного статуса. «Истина» — это то-что-есть, и «истина» — это подлинность нашего знания о том-что-есть. Гносеологическое и онтологическое слишком близки в этом понятии истины1.
Вещь, предъявленная мне, истинна как таковая, в своей предъявленности. Ее истинность — теперь, когда она предо мной как утвержденная-здесь, — в ней самой, а не в соответствии чему-то, что придавало бы ей истинность. И тем не менее она, эта утвержденная-здесь истина, утверждена таковой не изначально. Проблема и парадокс такого понимания истины и истинности — в этой раздвоенности, желающей и способной не сливаться воедино: мы можем понять, чтó есть вещь в своей временнóй истинности, не говоря о вечностности этой истинности; и тем не менее только благодаря этой вечностности вещь и истинна в конечном счете. Мышление, желающее найти последнее основание истинной утвержденности, непременно приходит к этой парадоксальности. Вечностная в-конце-концов истинность вещи такова, что о ней невозможен разговор; а временная эта-истинность, давая понять, чтó есть вещь, не приводит нас к последним ее основаниям. Оказывается, что понимание того, чтó есть вещь, не вы-ясняет до конца ее истинностную утвержденность. Знание полно — и принципиально неполно; обоюдоострое
498
следствие предъявленности истинности. Сокрытость, фундирующая утвержденность-здесь этой вещи, не может вы-явить себя. Ал-Г̣айб (Сокрытое), божественная Самость (з̱а̄т), конечный (предельный) Действователь всего, а значит, и предельное обоснование всего, «как таковой» никогда не может быть схвачен и познан; он может быть узнан только через процессуальную (выраженную как процесс) связанность с ним любого претерпевающего.
Оказывается, что необходимо говорить о вечности (сокрытости) так, чтобы она вечностью быть — перестала. Необходимо говорить о вечности как о времени.
Вечность поэтому оказывается для арабской мысли многоликой — слишком многоликой.
Вечность сокрытого, несопрягаемого и несоотносимого со временем — та вечность, которая исключает всякое наше присутствие, присутствие бытия или присутствие мысли — сармад1. Это, собственно, вечность только именуемая, — вечность, о которой мы не можем рассуждать, думать и говорить. Это вечность, никогда не присваиваемая нами; не присваиваемая никак — ни в бытии, ни в мысли. Это скорее — пред-вечность; и тот, кто обладает ею, — Предвечен.
Вечность должна быть выражена в терминах времени, чтобы стать предметом нашего разговора, чтобы из пред-вечности стать вечностью-для-нас. Не время понимается через вечность и в своем отношении к вечности; вечность превращается в нечто — как бы временнóе. Процедура, сама по себе несущая парадоксальность, выполненная по модели как если бы: как если бы вечность, сокрытая в своей исключающей всякое присутствие неявленности, оказалась явленной-нам.
Как и откуда может быть увидена вечность так, чтобы стать вечностью-для-нас? Где та позиция, что придаст истинность формирующейся осмысленности?
Вещь истинна в своей осуществленности и утвержденности перед нашим взором. Мы видим нечто в его истинности как предстоящее, предъявленное. Необходимость занять фиксированную точку наблюдения, только и способную открыть нам истинность, становится здесь нормальным эпистемологическим требованием, фундирующим любую процедуру осмысления.
Точка настоящего становится исходной точкой осмысления, позицией наблюдателя, с которой и только для которой существуют смыслы «без-начальность» и «бес-конечность», ’азал и ’абад. Глядя «назад», из этой нашей точки временнóй осуществленности, мы видим безначальность; взгляду вперед открывается бес-конечность. Так, из временнóй точки нашего истинного бытия, мы можем увидеть имеющую для нас смысл вечность.
499
Такая вечность-для-нас, или вечность-с-нами, неизбежно оказывается парадоксальным понятием — парадоксальность таится в самой его сути. Безначально-вечное — то, для чего нельзя указать начало во времени, что было всегда, в любой прошедший момент времени, — ’азалийй; и бесконечно-вечное — то, что пребудет всегда, в любой последующий момент времени, — ’абадийй: два лика этой вечности-во-времени, обращенные назад и вперед. Невозможность бесконечной последовательности, столь непреложная для средневекового сознания, скрадывается в этих понятиях. Но дело не только в этом: две эти вечности суть одно и то же для самогó вечного (в Боге Начало и Конец совпадают; Его безначальность и есть Его бесконечность, а их различение — это различение в нашем разговоре; этот тезис был подробно проговорен средневековыми теоретиками) — и тем не менее они не суть пред-вечность; ’азал и ’абад не составляют вместе сармад. Изначальное — подлинное изначальное — ускользает.
Но в принципе такое «составление», такое «склеивание» двух бесконечных «половин» в точке настоящего возможно. Его производным, однако, окажется не сокрытая предвечность, но то, что можно было бы назвать «всегда-вечность»: дава̄м, к̣идам. Первый термин являет нам звучание этого понятия самого по себе, второй — в соотнесенности с возникновением-во-времени: да̄’им — то, что всегда-длится и никогда не прерывается; к̣адӣм — то, что было-всегда в противоположность возникающему (мух̣дас̱) и (следовательно) меняющемуся. Когда, скажем, ал-Ма̄вардӣ приводит (в качестве наставления судьям, моральной максимы, призывающей решать не торопясь и пересматривать судебное решение, если оно оказалось неистинным) слова ‘Умара Ибн ал-Х̱ат̣т̣а̄ба «истина вечна» (ал-х̣ак̣к̣ к̣адӣм)1, истина оказывается вечной именно в этом смысле: как всегда-наличное, всегда-неизменное и не-уносимое током временных перемен. Быть вечным для вещи таким образом не означает быть выше времени; это значит для нее — быть тверже времени.
Итак, вечность, чтобы быть вечностью, должна соотнестись со временем, оказаться вечностью-во-времени. Логика этого понимания (со всеми своими релевантными онтологическими импликациями) предопределила, среди прочего, не только популярность суфийских философем в позднеклассический период арабоязычного философствования, но и фундировала саму возможность их возникновения.
Одним из следствий разбираемого нами подхода к пониманию истинности вещи стала концепция атомарного времени. Эта концепция была развита уже первыми представителями теоретической рефлексии — мутазилитами; в арабском перипатетизме и исмаилизме она отошла на второй план, но вновь расцвела в суфийской мысли. «Время», одна из аристотелевских категорий, интерпретируется
500
арабской мыслью1 как одна из характеристик вещи — такая же акциденция, как цвет или движение. Разговор об истинности вещи вполне мог вестись в пределах временнóго ее бытия; точнее, он вполне мог вестись так, чтобы не выводить рассуждающего за эти пределы. Характер бытования вещи во времени мог выясняться в пределах самого этого времени, т. е. в пределах временных понятий. Рассмотрение «пребывания» (бак̣а̄’) вещи как ее акциденции и вопрос о том, пребывает ли само пребывание (а ответом на него и стала концепция атомарного времени), никоим образом не было в данном случае гипостазированием.
Выработанная арабской мыслью концепция атомарного времени утверждает, что могут быть указаны индивидуальные (в прямом значении термина — неделимые) моменты времени (зама̄н фард, вак̣т фард или просто вак̣т), лишенные длительности. Момент уничтожения вещи и момент ее возникновения не слиты, но и не раздельны в таком атоме времени. Существование вещи, таким образом, — это прохождение череды атомарных уничтожений-и-возникновений.
Раз так, поскольку каждый момент времени есть некоторая уникальная характеристика, снимок уничтоженного и вновь сделанного наличным бытия, ничто не остается «неизменным во времени», и тем более единым во времени. Каждый момент времени приносит новое. То, что истинно, истинно не потому, что оно не зависит от времени и не связано со временем, а потому, что во всяком временном изменении оказывается тем же и таким же. Быть истинным не значит быть непричастным времени; быть истинным — значит сохранять свою идентичность во всем течении времени.
Нетрудно видеть, что «постоянное» (вечное) отличается от «возникающего» (временного) не чем иным, как большей устойчивостью: ни в какой момент времени оно не исчезает и не появляется,— и только в этом смысле оно более истинно. Бóльшая истинность постоянного — в ее, этой истинности, большей «пригодности»: она верна для любого момента времени. Истинность возникающего ограничена временным отрезком, измеряющим его существование, — но в пределах этого отрезка она вполне полноправная, ничуть не ущербная истинность. Временнóе опирается в своей утвержденности на вечное, это верно — но опирается только в аспекте получения, или обретения, этой утвержденности; обретая свою истинность-утвержденность, временное получает ее сполна и вполне.
Поэтому, собственно, в суфийской философии Ибн ‘Арабӣ стало возможным утверждение о том, что только и именно рассмотрение Бога во временнóм аспекте делает возможным утверждение о его вечности. Вечность оказывается не чем иным, как оборотной стороной времени.
501
5. Истинное понимается как бывающее-здесь в любой момент времени. Истинно то, что можно найти, благодаря его незыблемости, в любой данный момент времени (соответственно, частично-истинное — это то, что можно найти в любой из каких-то данных моментов времени). Истинное истинно потому, что заявляет о своей компетенции в каждый из моментов времени. Оно распространяет свою власть на любой момент времени, непосредственно в нем присутствуя; оно присутствует в каждом из моментов времени как неизменное. Истинное вечно; но оно вечно не потому, что сбирает в себе настоящее, прошедшее и будущее так, что они в нем — все вместе и ни одно из них не отделено от другого; оно вечно потому, что всегда-неизменно. Истинное вечно не потому, что причастно вечности, а потому, что фиксировано и неизменно навсегда. Интересным следствием такого понимания истинности оказывается понимание «более правильного» как «более фиксированного», «более утвержденного» (ср. с «более точным» при понимании истины как точности соответствия данного некоторому образцу). В качестве примера можно привести рассуждения ал-Ма̄вардӣ о том, как разрешается конфликтная ситуация в случае, если и «имам» (т. е. высший руководитель общины), и «уполномоченный визирь» (вазӣр ат-тафвӣд̣) назначают «чиновника» (‘а̄мил) для выполнения одной и той же работы: здесь более правильное назначение описывается как «имеющее большую устойчивость» (ас̱бат). Интересно при этом, что таковым оказывается то назначение, которое предшествует другому по времени: идущее раньше обладает большей силой утвержденности и истинности (см. [Маварди 1990: 65].
Такое истинное пригодно для всякого момента времени не потому, что вечностно сворачивает его в себе и заведомо заключает в себе как снятый абстрактный момент. Когда мы мыслим истинность вечного, или вечность истинного, таким образом, мы заставляем истинное доказывать свою причастность каждому данному моменту времени, каждому данному жизненному случаю. Согласно такому пониманию, истинное должно быть проверено на эту способность быть пригодным для каждого данного текущего момента, проверено на эту способность действительно сворачивать в себе каждый данный момент времени. Точнее, истинное должно быть постоянно проверяемо и, будучи уличаемо в неистинности, отвергаемо и заменяемо новым, другим истинным. Следствием такого видения истинности оказывается неокончательность любых данных представлений об истинном (кажется, довольно показательно в этом отношении томистское деление законов: высший и окончательно истинный, полный божественный закон принципиально недоступен человеческому разуму, который обречен производить лишь претендующие на вечностность, а по сути временные и потому ошибочные законы) и постоянное ассимптотическое приближение к столь же ассимптотически удаляющемуся идеалу окончательно и действительно истинного: этот Ахиллес двигается в пространстве, принципиально не позволяющем интегрировать бесконечную последовательность его шагов.
Будучи так вечным, такое истинное накладывает свою власть на каждый момент времени — и, соответственно, на каждый частный случай — именно потому,
502
что не присутствует в нем как таковое, потому, что в качестве общего вбирает это частное в себя. Но если и когда истинное вечно не потому и не так, что сворачивает в себе время (и соответственно — временное), а так, что предшествует всякому временному, то никак не общим его характером определяется обязательность его власти над каждым моментом времени — и, соответственно, всякой временной вещью (нетрудно видеть, что это истинное истинно еще и потому, что, обладая властью утвержденности, способно эту силу сообщать другому, утверждая его и тем самым сообщая способность и силу существовать: истинное, будучи само утверждено, утверждает в бытии все прочее). Такое истинное вовсе не обязано представлять собой общий случай для всяких частных, которые бы подпадали под него и попадали бы в его компетенцию: такое истинное властно над всяким другим данным-нам — по праву своей предшествующей утвержденности. Вслед за особым пониманием аспекта время/вечность рассматриваемая интуиция истины выявляет свое особое понимание значения статуса общность/частность.
Истинное в западном понимании несовместимо с «жизненной требухой» и неустойчивостью; истинное в разбираемом понимании, напротив, своим первым атрибутом имеет именно жизнь и силу (мощь): только живое и могущее имеет власть утвердить себя — утвердить в качестве истинного. Но такая интуиция истинного не предполагает, вообще говоря, в качестве своих обязательных характеристик-коннотатов ни общность/универсальность, ни абстрактность. Здесь важна действенность, а не идеальная (субстанциальная) чистота и совершенство.
6. Таким истинным-и-утвержденным является, среди прочего, и пример пророка. «В посланнике Божием — прекрасный пример вам» (33:21, С.) — это слова Корана, обращенные ко всем мусульманам. Здесь «пример» — ’усва. Слово ’усва несет смысл приравнивания: тот, кто следует примеру-’усва, довольствуется тем же, что принятый за модель образец, и обретает то же состояние (см. [Ибн Манзур, статья ’-с-й]. В звучании этого слова мы прикасаемся впервые явным образом (хотя неявно мы и не удалялись от них) и к тем смыслам, о которых здесь идет у нас речь. Следование примеру-’усва водворяет правильность. Эта смысловая связь хорошо просматривается в глаголе ’асса̄: му’ассин означает «тот, кто водворяет мир (йус̣лих̣) и правосудие (йа‘дил) среди людей» [Там же]. «Водворять правосудие», или «правильность» («выпрямленность»), ‘адала — глагол, имеющий тот же корень, что и занимающее нас слово «справедливость».
Поведение посланника есть некий фиксированный образец, который в этой своей фиксированности обретает права истинности. Фиксированная истинность оказывается законностью. Если Коран называет пример пророка словом ’усва, то в традиции он закрепился под другим названием — сунна. Сунна и есть «пример, служащий законом»: оба смысла в этом слове нераздельны.
Следуйте моему примеру (сунна) и примеру (сунна) праведных, ведомых истинным путем халифов после меня, вцепитесь в него и не отпускайте, и не смейте
503
вводить никаких нововведений: любое нововведение (мух̣дас̱а) — это искажение (бид‘а), а любое искажение — это заблуждение (д̣ала̄ла)1.
Если в этом хадисе речь идет о «законопорождающем примере» (сунна) посланника, то традиция точно такой же абсолютный запрет на внесение каких-либо изменений наложила и на правила, зафиксированные в Коране2. «Нововведение» — мух̣дас̱а — то, что противоположно пред-посланной «постоянности», благодаря своей постоянности являющейся «необходимостью» (ва̄джиб). Здесь мы встречаемся с этическим звучанием термина ах̣дас̱а («произвести новое»). Чуть выше (см. с. 499) мы обсуждали онтологическое звучание пары к̣идам-их̣да̄с̱ (вечность-возникновение); примечателен параллелизм используемых категориальных схем рассуждения. Вечный и неизменный божественный порядок, открытый в Коране и проявленный в словах и делах посланника, пребудет неизменным до конца времен: в этом смысле он необходим (ва̄джиб). Отход от такой фиксированной утвержденности есть нарушение истины и закона. Экземплифицированность в разбираемом понимании истинности отнюдь не противоречит качеству «быть истинным».
Поэтому закон — это не абстрактный порядок (вещей или идей), претендующий на истинность и обладающий характером общности (неважно, понимается ли он в платоновском или интуитивистском духе, существует ли этот истинный порядок предвечно или творчески усматривается нами). Закон — это утвержденная-и-фиксированная линия, требование, пример. То, что подкреплено устанавливающим деянием действователя3. Именно таков закон как шарӣ‘а и сунна — как линия поведения, данная в качестве образца. Здесь нас прежде всего интересует понимание юридических законов; однако то же верно и для понимания законов натуральных. Главная черта их понимания, которая здесь по понятным причинам может быть только декларирована, но не подтверждена, заключается в отсутствии абстрактного характера, позволяющего бесконечность конкретного свернуть в завершенность конечного краткого единства.
’Усва, сунна служат абсолютным образцом-примером для каждого в общине верующих. ’Усва, сунна — закон социальной жизни. Это, сказали мы, закон в силу своей зафиксированной утвержденности. В этой однажды-свершившейся фиксированности — основание его истинности. Однако истинность (х̣ак̣к̣) имеет и другую ипостась смысла. Это — осуществляемость (тах̣ак̣к̣ук̣). Закон должен быть не только зафиксированным, но и фиксируемым. Осуществляемость закона
504
в каждый из моментов времени — вот что равно необходимо для его истинности1. Истинность закона здесь не имеет особой области бытования, где она сохраняла бы свою вечностную неизменность. При разбираемом понимании истины закон, перестающий воплощаться, перестает и быть истинным. Чтобы оказаться вечным (’абадийй)2, закон должен быть абсолютно — всеми, всегда и неизменно — осуществляем, практикуем и исполняем. Действия людей-действователей как будто «идут навстречу» действию Действователя, установившего закон, и без такого «встречного движения» закона нет. Человеческое поведение, в котором закон и находит свою осуществленность, оказывается необходимым компонентом, завершающим смысловой ансамбль закона. Только постоянное (в каждый момент времени) пребывание в своей полной осуществленности делает закон законом.
7. Такой закон в принципе требует абсолютной неизменности дел-и-поступков. В области правосознания это понимание выражается в убежденности в том, что полный и совершенный божественный порядок если и может быть изменен, то лишь к худшему; поколебленная незыблемость истины уступит место зыбкому заблуждению. Это полностью относится к тем ситуациям, которые точно соответствуют казусам, описанным в Коране и сунне и сформулированным в фикхе как незыблемые нормы-нус̣ӯс̣. Если бы иных ситуаций не возникало, утвержденного высшим авторитетом закона было бы принципиально достаточно для ведения всех человеческих дел.
Однако понятно, что кончина пророка обозначила тот исторический рубеж, с прохождением которого названное требование перестало выполняться. Реальность предъявила запросы, само содержание которых по-видимому противоречило представлению о совершенной полноте исламского Закона. Необходимо было, не нанося ущерба этому представлению, найти способ понимания новых, не описанных прежде ситуаций.
Для нового, не имеющего своей истинной утвержденности, таковая должна была быть найдена. С одной стороны, она может быть результатом нового, учреждающего действия факиха, который устанавливает норму заново, без всякой опоры на предшествующие нормы3. А с другой, они могут быть соотнесены с уже утвержденными и получить свое право на жизнь от них. Как это происходит?
505
Закон в конечном счете устанавливает истинное (= должное); каково истинное, таково и законное. И дело не только в содержании истинного и законного; дело также (а в процессе нашего рассуждения — даже и прежде того) в их характере. Истинное, обладающее принципиальными чертами полной выясненности и утвержденности, утверждает и законное как столь же полное и конкретно-жизненное. Понимание того, чтó именно дóлжно, не требует поиска вечно-идеальной формы (формулы), сворачивающей всё временное многоразличие конкретного. Понимание должного (в том случае, если оно не оказывается уже зафиксированным) требует понимания того, каким образом новое может быть понято как произведенное от фиксированного-истинного. Если все, что может и должно быть, уже зафиксировано в истинном Законе, то «новое» никак не прибавляет к нему ничего принципиально нового; новое есть видоизмененное старое.
Способ этого видоизменения и соответствующие процедуры, а также выяснение позволительности и пределов таких видоизменений — вот что оказывается в центре внимания культуры в данном случае.
8. Такое соотнесение утвержденно-истинного и вновь-утверждаемого описывается терминологической парой ’ас̣л-фар‘, лучшим переводом которой, на мой взгляд, служит сочетание «основа-ветвь». Как и во многих других случаях, пара ’ас̣л-фар‘ оказывается общемыслительным достоянием арабской культуры. Например, процесс словообразования также описывается как «ветвление»: основа (’ас̣л — в данном случае можно было бы сказать «корень», поскольку речь идет именно о том, что мы называем «корень слова», тем более что «корень» — прямое значение слова ’ас̣л) благодаря «дополнительным харфам1» образует все возможные словоформы. Пара ’ас̣л-фар‘ в грамматике используется там, где нам показалось бы удобным воспользоваться парой правило-исключение: первично-утвержденное (то, что мы назвали бы «правильным», подлинным и истинным) является ’ас̣л, а всякая производная от него (то, что мы называем «исключением») форма — фар‘. В результате практически все языковые формы удается описать как одинаково закономерные, но различающиеся по степени начальной утвержденности. Понятие «исключение» не используется в данном случае, поскольку «исключение» (истис̱на̄’, иб‘а̄д и др. — эти термины хорошо известны, обсуждаются и применяются в других контекстах), отрицая утвержденность, исключает не только из мысли, но и из бытия. «Исключить из правила» значит «исключить из должного», вывести из сферы того, что является ва̄джиб и что в принципе не может быть истинным — а значит, отказать этому в праве быть.
506
Пара ’ас̣л-фар‘ — одна из наиболее употребимых терминологических пар в грамматике1. О ее использовании в фикхе я собираюсь говорить ниже. Если в этих двух дисциплинах пара ’ас̣л-фар‘ приобрела статус важнейшего теоретического инструмента, то и во всей интеллектуальной арабоязычной культуре она определила совершенно привычный и нормальный способ рассуждения о первичном и производном вообще (перечисление примеров — из фальсафы, суфизма, адаба и проч. заняло бы слишком много места). Во всех этих случаях принципиально, что описание с помощью ’ас̣л-фар‘ не предполагает указания на степень общности: «производное», «ветвь» (фар‘) совершенно не должно быть чем-то частным (видовым производным) в отношении к «основе» (’ас̣л). Точно так же «ветвь» совершенно не обязательно вырастает из «основы» (хотя такое понимание подсказывается самим языком): кроме случаев, где это действительно так, можно указать немало таких, где между «основой» и «ветвью» вовсе нет генетических отношений.
Современная «Энциклопедия фикха» приводит для термина ’ас̣л (с соответствующим парным ему фар‘) более 10 значений [Мавсуа 1986: 55—61]. «Основой» могут именоваться самые разные, порой, казалось бы, никак не связанные между собой вещи. Однако их «общий знаменатель» все же обнаруживается. Заключается он не в чем ином, как в предшествующей утвержденности, в силу самой утвержденности заявляющей о себе как об обязательном и истинном. Именно это оправдывает употребление термина ’ас̣л, например, в словосочетаниях «основное состояние», «основы человека» и «основы вопроса наследования»2: первое означает состояние (скажем, состояние ритуальной чистоты — т̣аха̄ра,— без которого молитва не окажется действительной), которое считается по-прежнему истинным, несмотря на возможные сомнения; под вторым разумеются родители и родители родителей человека; третье обозначает основных наследников, непременно и прежде всех прочих получающих свою фиксированную долю наследства. Эти три случая (можно было бы приводить и другие примеры, но этого, кажется, достаточно для иллюстрации того, о чем идет речь) объединяет не понимание ’ас̣л как «общего случая» или «принципа» (интересно, что современные теоретики порой стремятся ввести трактовку ’ас̣л как принципа в обсуждение значений этого термина; в средневековых сочинениях, которые и составляют основу подобных исследований, такое значение, однако, отсутствует) и не понимание его как «основы возникновения», а именно понимание описываемой вещи как утвержденной прежде и до, и благодаря этой утвержденности дающей быть другому. Мне кажется заслуживающим внимания, что то, что мы описываем как ’ас̣л, именно позволяет быть своей «ветви», фар‘. Это позволение может выражаться как в порождении, так и в том, что ’ас̣л уступает место своей «ветви»-фар‘, отодвигаясь в сторону и освобождая
507
для нее пространство. Попытка понять отношения между ’ас̣л и фар‘ как только генетические приводит поэтому в ряде случаев к недоразумениям.
То, что дает другому быть, обладает над этим другим властью приоритета. «Ветвь», возникшая после и благодаря «основе» (хотя и не обязательно из нее), не может ее отрицать. Идущее «после» не имеет власти над идущим «прежде». Этим определяется принципиальное отношение между «основой» и «ветвью»: фар‘ не может противоречить ’ас̣л. Понятие противоречия, в тонкости звучаний которого здесь нет возможности входить (для его обозначения в арабской мысли использовался целый ряд терминов, каждый из которых имел определенные нюансы), имеет и достаточно прочный онтологический «привкус»: фар‘ не имеет силы отрицать ’ас̣л, будучи утвержден, собственно, благодаря этому ’ас̣л.
Этим, однако, совершенно ничего не сказано о требованиях, которые могли бы быть сформулированы для случая, когда «основ» и «ветвей» несколько: не сказано ни об отношениях внутри группы «основ» (’ус̣ӯл), ни об отношениях между множественными «ветвями» (фурӯ‘).
Всякая «основа», будучи утверждена, самой своей утвержденностью истинна. Она вовсе не должна подтверждать свою истинность собственной согласованностью с каким бы то ни было принципом. (Единственное, с чем может согласовываться «основа» — это со своим источником, с тем, что дало ей самой силу утвержденности. Но когда мы заводим речь об этом, мы, собственно, выходим за пределы той сферы, в которой наша «основа» является основой, и, расширяя поле обсуждения, начинаем рассматривать ее как «ветвь» некоторой другой «основы».) Если «основ» несколько, они совсем не обязательно должны согласовываться одна с другой, не противоречить одна другой и т. п. Иначе говоря, группа «основ» отнюдь не должна составлять «системы»; во всяком случае, понятие ’ас̣л никак не предполагает необходимости этого. Что заведомо невозможно, так это наличие двух взаимоисключающих ’ас̣л в одной группе: не может быть утверждено то, чего исключение также утверждено. Рассмотрение таких случаев составляет одну из детально разработанных ветвей фикха: теория «отменяющего» (на̄сих̱) и «отмененного» (мансӯх̱) была создана для определения взаимоисключающих норм Закона, зафиксированных в тексте Корана, выявления того, какая из взаимоотрицающих норм должна быть признана сохраненной, а какая (или какие) — упраздненной, и объяснения того, почему ниспосланный Богом Закон содержит столь странные случаи взаимоисключений. Характерно, что две (или более) взаимонесовместимые нормы рассматриваются именно как абсолютно взаимоисключающие, так что они не могут быть «примирены» нахождением некоторой «общей» нормы, для которой они бы рассматривались как частные случаи, что стало почти рутинной процедурой устранения противоречий из корпуса законов на средневековом Западе.
Что касается фурӯ‘, то, пока они рассматриваются именно как фурӯ‘, вопрос об их взаимоисключающем характере не ставится. Логически понятие «ветвь» не содержит в себе требования не противоречить другим «ветвям». Только когда «ветви» начинают рассматриваться как «основы», их статус меняется и в силу вступает
508
правило непротиворечия. Соответственно некоторый набор норм может считаться единой группой фурӯ‘, полученных из одной и той же группы ’ус̣ӯл; но как только этот же набор норм рассматривается в качестве ’ус̣ӯл, он теряет свое единство: внутреннее членение выделяет в нем подгруппы, содержащие невзаимоисключающие нормы. Таким образом, все «ветви» образуют нечто единое как «ветви», хотя и оказываются взаимоисключающими при рассмотрении их самих как «основ». Данная схема не требует и не предполагает примирения «противоречий» между отдельными подгруппами фурӯ‘ (наличие собственно противоречий здесь и не осознается), а присутствие таких несогласованностей никак не мешает считать всю совокупность единством.
Таким образом, мы получаем стройную последовательность переходов от одних уровней «разветвленности» к другим (термин «ветвление» — тафрӣ‘ — обозначает выведение «ветвей» из «основ» и широко используется в классической арабской мысли). В целом можно заметить три уровня такого соподчинения. Незыблемостью ’ас̣л обладают, естественно, установления Закона, зафиксированные Кораном и сунной1. Это, если угодно, абсолютные ’ус̣ӯл — они не могут рассматриваться как фурӯ‘, во всяком случае в пределах фикха. Этим «основам» не может противоречить ничто. Ответвляющаяся от них группа фурӯ‘ не противоречит этим ’ус̣ӯл, однако может содержать — и действительно содержит — внутри себя противоречащие нормы. Рассматриваемая в качестве ’ус̣ӯл, эта единая (бывшая единой, пока она рассматривалась как фурӯ‘ абсолютных ’ус̣ӯл) группа разбивается на несколько самостоятельных подгрупп, образуя «основы» мазхабов (школ фикха). На основе этих ’ус̣ӯл, в свою очередь, возникают фурӯ‘. Нетрудно догадаться, что «основам» данного мазхаба могут противоречить ’ус̣ӯл других мазхабов, но не фурӯ‘ данного мазхаба. И, наконец, фурӯ‘ в пределах даже одного мазхаба (не говоря уже о фурӯ‘ других мазхабов) вполне могут оказаться противоречащими друг другу. Важно отметить, что везде здесь ’ус̣ӯл — не обобщающие принципы (в таком случае в описанной системе соподчинений они не могли бы быть одновременно и «основами», и «ветвями»), а незыблемые нормы, незыблемость которых и делает их истинными; незыблемыми они, однако, оказываются только в пределах данного мазхаба.
Принцип непротиворечия вытекает здесь не из интуиции общего охватывающего, интериоризирующего свои единичные случаи единства (которое оказывалось бы единством идеального), а из интуиции утвержденности первоначального. В пределах рассматриваемых пониманий истинного и законного вполне естественно и логично разрешение судье при рассмотрении конкретного дела выбирать между установлениями данного мазхаба или установлениями разных мазхабов, в т. ч. и противоречащих друг другу, ту норму, которая «наиболее подходит» для него.
509
Равные случаи, оказывается, принципиально разрешено рассматривать и решать неравным образом. Равенство (равенство трактовки, равенство оценки) не входит в число смысловых компонентов справедливого законодательного решения.
Конечно, и история западного права знает немало примеров, когда противоречили друг другу целые системы права. Однако на Западе такие противоречия были большей частью результатом заимствования римского права (противоречившего местному обычному или писаному праву) или независимого развития нескольких систем права (церковное, светское писаное, обычное), имевших разные источники. Показательно, что, хотя такие противоречия оказывались исторически неизбежными, а подобные ситуации могли сохраняться в течение достаточно больших промежутков времени, все же наличие противоречий признавалось неестественным или, во всяком случае, нежелательным фактом и предпринимались специальные организованные усилия для их устранения. В исламской мысли различные и противоречащие «ветви» растут одновременно из одного «корня», а их противоречивость не мешает общему единству и не считается недостатком или ненормальностью.
Нам нетрудно теперь заметить тот контраст, который составляет описанному пониманию история развития правовой теории на Западе, где от Аристотеля, через юристов средневековья (необходимость соответствия закона абстрактному понятию «справедливость» — aequitas; абстрактное понятие, таким образом, становится высшей регулирующей силой в определении законного), деятельность университета Болоньи (кропотливая работа, имевшая целью устранить из законов противоречия), Новое время (это лишь примеры, а не исчерпывающее перечисление) проходит императив непротиворечивости и следования из единого принципа — два требования, взаимосвязанные и логически вытекающие из платонического понимания истинного как абстрактного, всеобщего и неизменного. В качестве примера функционирования этого императива можно вспомнить настойчивое намерение Р. Луллия, заключавшееся в том, чтобы естественное право редуцировать к силлогизму (reducere jus naturale ad syllogysmym), а позитивное право свести к праву естественному и согласовать с ним (jus positivum ad jus naturale reducator et cum ipso concordet)1. Названные требования в западной мысли почти не знают исключений. И если, скажем, Фома Аквинский допускает возможность противоречий между различными «уровнями» систем законов, то, во-первых, эти противоречия возникают вследствие принципиального незнания абсолютно истинного божественного закона, а во-вторых, сам факт несогласованности законов предполагает недействительность (возможность неисполнения) законов низшего уровня.
На то, чтобы осуществить названные идеалы, направлены усилия юристов — и теоретиков, и практиков. Даже английское право, составляющее, по современной классификации (Р. Давид), особую семью, отличную от романо-германской, идет к тем же целям. Английские юристы обычно защищают свои принципы законности и правосудия, исходя из того, что право прецедента обеспечивает единство
510
и непротиворечивость (наряду с гибкостью и простотой) судебной системы, в то же время подчеркивая, что общее понимание закона и законы как таковые сыграли в истории развития английской правовой системы роль не меньшую, чем на континенте.
Найденные нами различия естественным образом предполагают разные методы работы юристов над развитием корпуса того, что именуется «законом», разные подходы к процедуре определения «законного». Западные востоковеды, а также юристы-компаративисты, пишущие о правовой теории в исламе, не преминут упомянуть «удручающую казуистичность» сочинений по фикху и «полное отсутствие» сколько-нибудь развитой теории1. Однако в том виде, в каком эта теория была развита в западном праве, она и не могла существовать в фикхе. То, что представляется казуистичностью, было на деле кропотливой разработкой собственной — устроенной совершенно иначе, чем западные, — правовой теории.
9. Истина утверждена и истина необходима. Истина, существуя, несет в себе все то, что необходимо, чтобы ей быть. Истина существует по праву, и истина непременна и обязательна. Понятия право и обязательность сливаются воедино в понятии истина. Мы обнаруживаем, что уже по существу говорили о понятии «право», когда вели речь о понятии «истина». Слово ал-х̣ак̣к̣ выражает все три аспекта как взаимопредполагающие: каждый из них ведет к двум другим.
«Обязательное» с этой точки зрения — то, что непременно должно быть; если этого нет (нет как «вещи», как чего-то наличного), то его место оказывается пустым. Такое «обязательное» — ва̄джиб — очень близко к тому, что в онтологии именуется «необходимым существованием» (вуджӯб).
Справедливость очень часто выражают как «воздаяние должного». Это, несомненно, очень удачная формулировка. Но и слишком широкая: она включает и «каждому воздастся по делам его», и «каждому по труду» — и идею Весов, и религиозно разработанные максимы, и воззрения Аристотеля, Маркса или Дж. Роулса. Весь вопрос в том, как именно понимается должное.
Интуицию «воздаяния должного» мы обнаружим и в арабской мысли. Такие выражения, как и‘т̣а̄’у-ху х̣ак̣к̣а-ху или истӣфа̄’ ал-х̣ук̣ӯк̣, используются именно там, где речь идет о «восстановлении попранного права», необходимости «оценить кого-то
511
по достоинству», т. п. Справедливость может прямо определяться как «установление должного (ал-х̣ак̣к̣) там, где положено»1.
Для западной мысли принципиально, что понятие «право» (речь идет о том, что обычно именуется «субъективным правом») осмысливается как антиномичное2 понятию «обязанность». То, на что я имею право, вообще говоря, не составляет мою обязанность. Я могу не удовлетворять своих прав (кроме моих неотъемлемых прав, от которых я не могу отказаться), поскольку право интимно связано с понятием свободы, — во всяком случае, в Новое время становится привычной формулировка понятия «право» как определенной степени свободы, которой обладает индивид для удовлетворения своих интересов. Антиномичность право-обязанность проявляется и как антиномичность я-другие: мое право есть (в большинстве случаев) обязанность других, пусть хотя бы в виде обязанности соблюдать мое право и обеспечивать его, и напротив, моя обязанность оказывается правом другого: осмысленность права как индивидуального проявляется здесь как принципиальная черта.
Семья понятий, группирующаяся вокруг смыслов право-и-обязанность в арабской мысли, самим своим строением говорит о другом. Здесь ал-х̣ак̣к̣ оказывается преобладающим термином, выражающим слиянное единство понятий истина, право, обязанность. Это преобладание питается укорененностью этого термина в фундаментальных понятийных пластах: тах̣к̣ӣк̣ и тах̣ак̣к̣ук̣ (однокоренные с х̣ак̣к̣) обозначают действительную осуществленность вещи и ее познания (см. с. 497). Истинное, долженствующее, реально3-бытийствующее и реально-познанное фундируют друг друга и переходят друг в друга: каждое предполагает другое и несет в себе часть смысла другого. Когда мы говорим и‘т̣а̄’у-ху х̣ак̣к̣а-ху или истӣфа̄’ ал-х̣ук̣ӯк̣, мы говорим об установлении должной-полноты по-праву-принадлежащего и истинно-и-реально присутствующего и как таковое нам-известного для данной вещи.
Понятие ал-х̣ак̣к̣ сливает право и обязанность так, что они предполагают друг друга через онтологическое и гносеологические переходы. Вместе с тем для понятия «обязательное» мы находим целый ряд терминов, выражающих те или иные нюансы «обязательности». Термин фард̣ («вмененное-в-обязанность»; его можно было бы перевести как «навязанное», если бы не сугубо отрицательные коннотации этого слова в русском языке) выражает обязанности человека (и иногда коллектива) в сфере «поклонения» (‘иба̄да̄т) — то, что можно было бы приблизительно назвать «религиозные обязанности». Термин вуджӯб подчеркивает непременную необходимость и употребляется там, где речь идет о «жизненно-важном» (напр., жизненно важные для государственной власти функции управления: вила̄йа̄т ва̄джиба) или
512
просто неизбежном. Термин ла̄зим выражает нюанс необходимого сопутствия как признака вещи, без которой она не должна быть или просто «немыслима»1.
«Обязательное» есть «истинное» и «по-праву-принадлежащее». Именно поэтому «право» осмысливается как «нечто-реальное». «Обеспечить право» вполне может означать — и часто означает — передать реально-необходимое тому, кому это должно принадлежать, взяв это у узурпатора: речь идет не об обеспечении свободы субъекта права, а о наделении его чем-то реальным. Именно так можно определить справедливость (инс̣а̄ф): «Отнятие права (ал-х̣ак̣к̣) у притеснителя (з̣а̄лим) и возвращение его притесненному (маз̣лӯм)» [Кирмани 1983: 456], что не означает, естественно, лишения притеснителя какого-то абстрактного права-на-нечто. Право в этом смысле представляет собой как бы постоянную величину, отдельные части которой могут находиться «не там», «не на должном месте», и справедливость состоит в том, чтобы вернуть их туда, где им надлежит быть. В цитированном выше определении справедливости совсем не случайны слова «установление должного (ал-х̣ак̣к̣) там, где положено»: всякое право-должное имеет свое определенное «место» (мака̄н). Общее «правильное» распределение таких «мест» и «прав» по их «местам» образует «гармонию» — и‘тида̄л.
«Обязательное» есть «истинное» и «по-праву-принадлежащее». Все, что есть, может быть осмыслено в этих понятиях. Х̣ак̣к̣ есть «обязательное право», «право, необходимое-чтобы-быть». «Правом» как необходимым для своего бытия комплексом характеристик обладает, вообще говоря, любой предмет2. С этой точки зрения утвержденность «права» конституирует вещь как нечто единое. Так может рассматриваться и индивид, и группа людей, и вся община.
Что, однако, окажется такой конституированной вещью в первую очередь? К чему прежде прочего будет привлечено внимание?
Истинное, правильное и обязательное — это утвержденное-прежде, это то, что дает быть другому. Именно такое истинное и обладает исключительным правом — все прочее имеет право постольку, поскольку «ответвилось» от этой «основы» и поскольку эта «основа» дала данному предмету утвержденность. В применении к принципам строения властных структур это означает, что все, что не есть первоосновное, лишь представляет, или замещает, таковое, причем замещает и представляет его лишь постольку и настолько, поскольку и насколько это первоосновное в силу определенных причин позволяет ему это. Такое позволение, кстати говоря, зависит только от первоосновного и в принципе во всякий момент может быть возвращено ему, поскольку именно ему принадлежит по праву и истине3.
513
Такой целостностью оказывается прежде всего — власть-в-целом. Единство «управления» (сийа̄са)1, благодаря этому единству истинного, — фундаментальная интуиция исламского правосознания. Всякий, кто назначен для отправления определенных функций или выполнения некоторого поручения, имеет силу и власть лишь постольку, поскольку замещает (йастанӣб) центральное властное лицо. Его само-стоятельность наличествует лишь постольку, поскольку укреплена и укоренена в центральном властном лице2.
Нам будет нетрудно обнаружить для каждого подобного «узла» управленческой структуры, выстроенной путем замещающей передачи полномочий, комплекс х̣ук̣ӯк̣ — право-обязанностей, необходимо-надлежащих данному «узлу» в силу его места в общей структуре (т. е. в зависимости от того, как конкретно образован данный «узел» — как именно сцеплен данный «элемент» с центральным «скрепом» структуры или с другим элементом). Кстати говоря, этот образ достаточно точно подтверждается практикой классического словоупотребления. Термин «связывать(ся)», «завязывать(ся)» (‘ак̣ада, ин‘ак̣ада) употребляется для обозначения тех процессов, которые мы скорее назвали бы «образованием», т. е. приданием образа (идеальной формы) — от «связывания минералов» (ин‘ик̣а̄д ал-джама̄д — их ≈ образование из четырех первоэлементов) до «связывания имамата» (ин‘ик̣а̄д ал-’има̄ма — правильное ≈ образование центральной власти благодаря удовлетворению всем необходимым условиям); точно так же «связываются» торговые сделки, да и сам договор есть также «связанность» (‘ак̣д). Везде здесь возникающая вещь приобретает вовсе не свой «образ», а свою «завязанность», или «привязанность», — свою закрепленность в само-стоятельности благодаря фиксирующему завязыванию. Вещь оказывается такой, какой ей следует быть, не потому, что прившедший к ней ее «образ» (ее идея) прившел как должно, совершенно и полностью, а потому, что «связанность» ее удовлетворяет всем фиксирующим данную вещь условиям.
514
Итак, каждый такой «узел» есть сцепленность двух «элементов» — скажем, «отдельного индивида» и «визиря», «отдельного индивида» и «имама»1, «визиря» и «имама», т. д. Такие «сцепленности», такие «узлы» завязаны по всем правилам П-логики и с соблюдением ее требований. Мне кажется принципиальным, что комплекс х̣ук̣ӯк̣ как комплекс право-обязанностей в пределах системы2 власти-и-управления (того, что классическая мысль именует терминами султ̣а и сийа̄са соответственно) возникает именно в силу этой сцепки и имеет смысл именно в ее пределах. Х̣ак̣к̣ не есть «право» отдельного индивида, отдельной группы, общины или властного лица; х̣ак̣к̣ есть право-обязанность, имеющая смысл (или: имеющаяся как смысл, осмысленная — истинная и утвержденная) только в пределах сцепленности двух «элементов» властно-управленческой структуры. Собственно, мы говорим здесь «элементы» лишь по старой привычке мыслить одиночный элемент как основу и субстанциальный атом, как первичный «кирпичик» строения целого. Стремление найти такой атом, такую несводимую ни к чему другому3 перво-основу, и понять, как из нее возникает всё, — такова фундаментальная интенция западного мышления и осмысления предмета. Теория систем не исключение — она действует именно в этом ключе. Если мы захотим понять общество как структуру, мы должны будем выделить в нем элементы и на основании выделения их свойств построить между ними связи. Та же интенция выявления первично-элементарного проявляет себя и здесь; и если в понятии структурные свойства мы встречаемся с признанием невозможности свести свойства целого к свойствам элементов, то это признание все же отнюдь не требует пересмотра основополагающей интенции осмысления.
Однако в рассматриваемом нами случае «узел», описываемый через понятие х̣ук̣ӯк̣, не есть «одиночный неделимый элемент», а сами х̣ук̣ӯк̣ не суть «права» и «обязанности», связывающие элементы структуры. Сам принцип подхода в данном случае — иной; сама процедура осмысления — иная. Права-и-обязанности (х̣ук̣ӯк̣) имеются тогда, когда есть связанность двух. Двое не противостоят друг другу как «обладатель права» и «несущий обязательство»; двое образуют фундаментально-смысловую комплексность, которая только и делает возможным в данном случае процедуру осмысления (излишне говорить, что эти двое могут быть не только и даже не столько двумя индивидами, сколько любыми двумя агентами власти-и-управления, включая сюда самого Бога как первейшую «основу» всякой власти, утверждающую все последующие ее звенья). Вне ее смысл в обсуждаемом предмете («властные структуры») увиден быть не может.
В этой фундаментальной смысловой наполненности, однако, мы не увидим неразложимости и первичности как атомарности, здесь есть первичность как
515
минимально-необходимая для процедуры осмысления комплексность. Эта комплексность как раз может быть разложена на «нечто», из чего она как бы состоит, — но в таком случае она перестает быть той исходной для осмысления нашего «предмета» (предмета «властно-управленческая структура») комплексностью, в качестве каковой мы ее имеем.
Описываемый здесь подход, если его анализировать с позиций общих принципов теории систем, может быть охарактеризован как ставящий акцент как раз на тех неуловимых «системных свойствах», которые столь загадочным образом появляются в целом, отсутствуя в его частях. Точнее, он не делает на них акцент; он просто описывает свой предмет так, что именно эти свойства оказываются содержанием, раскрываемым в предмете.
В качестве примера, иллюстрирующего понимание подобного комплекса х̣ук̣ӯк̣ как единства прав-и-обязанностей, приведу пространную цитату из работы одного из крупнейших теоретиков политического управления классического периода — ’Абӯ ал-Х̣асана ал-Ма̄вардӣ. Термин х̣ак̣к̣ (мн. х̣ук̣ӯк̣) оставлен в ней непереведенным, чтобы читатель мог лучше почувствовать смысловую жизнь этого слова. Ал-Ма̄вардӣ обсуждает вопрос о том, в чью компетенцию — в компетенцию ’амӣр х̱а̄с̣с̣ (эмир, назначенный для осуществления какой-то отдельной властной функции) или в компетенцию х̣а̄ким (правитель какой-то области) — должны подпадать случаи х̣удӯд («пресечения», т. е. нормы, определяющие, что является нарушением предписанных и дозволенных пределов поведения и как такое преступание должно быть пресечено, а также сами наказания).
Эти х̣удӯд, говорит ал-Ма̄вардӣ (т. е., повторим, нормы, определяющие закононарушения и их пресечение),
должны входить либо в х̣ук̣ӯк̣ людей, либо в х̣ук̣ӯк̣ Бога. Если это — х̣ук̣ӯк̣ людей, например, х̣ак̣к̣ оскорбления или х̣ак̣к̣ отмщения за убийство или членовредительство, то дело зависит от истца: если он склоняется (‘адала) к правителю (х̣а̄ким), то скорее правитель будет вправе (ах̣ак̣к̣) удовлетворить (истӣфа̄’) это [пресечение], поскольку оно входит в сумму (джумла) х̣ук̣ӯк̣, удовлетворение которых поручено правителю. Если же истец склонится к эмиру, дабы удовлетворить сие пресечение и отмщение, то эмир скорее будет вправе удовлетворить его, ибо это не постановление (х̣укм)1, а помощь в удовлетворении права (истӣфа̄’ ал-х̣ак̣к̣), а такую помощь оказывает как раз эмир, а не правитель.
Если же это пресечение входит в чистые х̣ук̣ӯк̣ Бога, как пресечение прелюбодеяния наказанием плетьми или побитием камнями, то эмир скорее, нежели правитель, вправе (ах̣ак̣к̣) удовлетворить его (пресечение. — А. С.), ибо оно входит в законы управления (к̣ава̄нӣн ас-сийа̄са) и необходимо-надлежащее (мӯджиба̄т) по опеке и защите общины, а также потому, что слежение за интересами (татаббу‘ ал-мас̣а̄лих̣) препоручено эмирам, кои поставлены для обеспечения оных, а вовсе не правителям, что поставлены для разрешения конфликтов
516
между тяжущимися. Таким образом, оно (пресечение. — А. С.) входит в права эмирства (х̣ук̣ӯк̣ ал-’има̄ра), и не изымается из оных иначе как соответственно тексту (нас̣с̣)1, и изъято из прав судейства (х̣ук̣ӯк̣ ал-к̣ад̣а̄’), и не считается входящим в оные иначе как соответственно тексту [Маварди 1990: 75].
Добавим, что в данном рассуждении мы вновь наблюдаем нечто «очень похожее» на ту ситуацию, с которой встречаемся (особенно) в средневековый период истории Запада, когда истец мог «перепробовать» различные судебные системы в стремлении удовлетворить свои интересы. И все же данный случай — существенно иной, поскольку речь идет о теории, выстраиваемой с сознательным намерением объединения и «централизации». Ал-Ма̄вардӣ строил свою теорию именно как теорию должного и необходимого единства власти, реальная (уже в его время) раздробленность которой если и учитывалась, то как нежелательный и специально оговариваемый частный случай. Признание альтернатив поэтому свидетельствует об их принципиальной возможности, не противоречащей и не конфликтующей с понятием единства власти. Заметим, что в данном случае «более вправе» (ах̣ак̣к̣) оказывается тот из двух властителей, к которому прежде склонился сам истец: своим выбором тот утверждает истинность право-обязанностей, которая (истинность) существует именно как единство истца-и-властителя, но не как суверенное право властителя самого по себе.
Мне представляется, что ту же природу имеет и известное положение фикха о том, что властитель должен удовлетворять «права Бога» (х̣ук̣ӯк̣ ’алла̄х) без всякого иска, тогда как «права людей» (х̣ук̣ӯк̣ ал-’а̄дамиййӣн) удовлетворяются в случае представления иска. Мы не имеем в данном случае «право подданного» как дополнительное по отношению к понятию «обязанности властителя» (из которого вытекает понимание преступления как пре-ступания прав самих-по-себе, которое уже в силу этого нарушения должно быть непременно, само-по-себе, быть наказано): обращение к властителю только и создает ситуацию, в которой возможны х̣ук̣ӯк̣ как право-обязанностный комплекс. В то же время в случае с «правами Бога», с одной стороны, невозможно себе представить «обращение» этого «истца» за удовлетворением х̣ук̣ӯк̣, а с другой стороны, властитель как бы пребывает в постоянной «сцепленности» с Богом уже в силу того, что именно от Бога он получает власть править, замещая Бога (через замещение того, кто замещает... кто замещает Мухаммеда, замещавшего Бога).
10. «Право-обязанностный» комплекс (х̣ук̣ӯк̣) есть вместе с тем онтологически-обязательный «набор» характеристик данной существующей «вещи», данного «узла» властно-управленческой структуры. «Воздаяние должного» как «обеспечение» (истӣфа̄’) наличия такого комплекса х̣ук̣ӯк̣ есть не просто и не только акт моральной правильности и правдивости; это прежде того — обеспечение онтологической устойчивости вещи — ее истинной фиксированности в потоке изменений.
517
Справедливость, заключающаяся в «воздаянии должного» или «утверждении истины» (х̣ак̣к̣), есть, таким образом, «выдерживание» этого права- х̣ак̣к̣ как необходимого-для-бытия комплекса. Это — не-отклонение от необходимого-для-бытия, оптимального-для-бытия. Оборотной стороной такого понимания справедливости оказывается представление о том, что справедливость, вообще говоря, нормальна. Наличие справедливого устроения — просто следствие, или иная формулировка, правильного (с̣ах̣ӣх̣) онтологического статуса властно-управленческой структуры. Весьма красноречиво в этом смысле высказывание Ибн Сӣны, который утверждает, что поскольку человек в одиночку не способен удовлетворить все свои нужды, а должен делать это вместе с другими, то
необходимо, чтобы между людьми существовало взаимодействие (му‘а̄мала) и справедливость (‘адл), поддерживаемая Законом и устанавливаемая Законоустановителем. ...Необходимо, чтобы добродетельный и грешник получали от Всемогучего и Всезнающего воздаяние. Значит, необходимо знать Воздающего и Законоустановителя. А вместе со знанием — причина, сохраняющая знание. Вот почему им вменено в обязанность совершать поклонение, напоминающее о Том, Кому поклоняются. Оно вменено в обязанность как многократное, дабы поминание сохранилось благодаря повторению, чтобы не прерывался призыв к справедливости (‘адл), на которой зиждется жизнь вида [Ибн Сина 1891: 12].
Нарушение такого статуса — ненормальность и болезнь, которая должна быть устранена, дабы данной вещи было возвращено ее «здоровье». «Правильность», «здоровье» — с̣их̣х̣а ( с однокоренным «правильный», или «здоровый» — с̣ах̣ӣх̣) — весьма популярный в классической теоретической мысли термин, имеющий очень высокие коннотации. С̣их̣х̣а — это не просто здоровье в медицинском смысле; это отсутствие изъянов, т. е. онтологическая целостность и (в этом смысле) совершенство. Совершенное онтологически и является «правильным» с эпистемологической точки зрения — с̣ах̣ӣх̣ нередко выступает синонимом «истинности». Термин использовался и в грамматике, обозначая, например, «правильные корни» — корни, не имеющие изъянов («больных», т. е. «неверно» себя ведущих, харфов) и потому описываемые как основа (’ас̣л) грамматического феномена; и в фикхе, обозначая «правильность» совершения ритуала или юридической процедуры, благодаря чему сделанное считается «действительным», онтологически «свершившимся».
Нарушение справедливости сравнимо с наличием «болезни»: болезнь не уничтожает организм, если вовремя преодолена. Нарушение справедливости — это результат изъяна в завязывании того или иного «узла» властно-управленческой структуры. В этой связи интересно определение несправедливости (джӯр), данное в оппозиции к определению справедливости (‘адл), которое находим у Ибн Х̣азма:
Определение справедливости (‘адл) заключается в том, чтобы давать должное (ва̄джиб) и брать его, а определение несправедливости (джӯр) — чтобы брать его, но не давать1.
518
Понятно, что если несправедливым в этом смысле оказывается «имам» (высшее властное лицо структуры), то не-отдавание им должного может повлечь за собой катастрофические для судьбы всей структуры последствия. Состояние несправедливости, вообще говоря, с этой точки зрения ненормально; оно терпимо постольку, поскольку не нарушает в целом функционирования системы, однако может — и должно — быть устранено (справедливость должна быть восстановлена).
Справедливость с этой точки зрения восстанавливается, а не устанавливается.
Восстановление справедливости — это «возвращение» комплекса х̣ук̣ӯк̣ к его «нормальному» состоянию. Такое возвращение-к-норме — изменение ненормально-больного состояния на нормальное.
11. Справедливость не устанавливается и не достигается как результат особых, направленных к этой идеальной цели действий. Справедливость — характеристика онтологической устроенности вещи: наличествуя, правильная и нормальная властно-управленческая структура справедлива.
Такая справедливость в принципе не может быть исчислена как справедливая пропорция или мера, будь то мера обмена или мера получаемой доли общих благ. Мы немало указывали на роль языковых факторов в осмыслении понятий. Но дело, конечно, не обстоит так, будто язык навязывает или предопределяет понимание. Арабским ничуть не меньше, чем описываемое, подсказывается и собственно-западное понимание справедливости как «воздаяния равной мерой». Это понимание вполне могло бы вырастать из одного из основных значений слова ‘адл — «ровня», «эквивалент». Интересно, что уже ранняя арабская мысль предложила понимание термина ‘адл в духе, который можно было бы счесть близким к понятию распределительной справедливости:
Справедливость (‘адл) — это уравнивание (тасвийа) рабов [Божьих] в их потребностях, то есть в предоставлении средств [к жизни] (‘илал), в ниспослании им успеха и правом руководстве.
Это определение ал-Ка‘бӣ1 приводит ашарит ’Абӯ Манс̣ӯр ал-Баг̣да̄дӣ в своих «Основах религии» [Багдади 1981: 132]. Однако такое толкование не стало магистральной линией разработки понятия «справделивость» в исламе.
В «воздаянии должного» должное воздается в силу устроения данного «узла» властно-управленческой структуры, а не потому, что тот или иной «элемент» совершил нечто, за что ему следует вознаграждение2. Должное определяется не тем
519
конкретным (конкретным для каждого случая определения «должного»), что совершил человек (рядовой или властное лицо), а тем, как именно устроена властно-управленческая структура и что именно она определяет в качестве «должного» для того или иного человека или группы лиц.
Само устроение целостной структуры определяет каждому его место. Справедливость и есть следование этому долженствованию — долженствованию онтологической устроенности. «Справедливость — это уклонение от неправильного к истине»1: в этом языковом определении справедливости выверенность общего устроения, его истинность оказываются решающим критерием. Не случайно «быть несправедливым» (з̣улм) определяется как «поставить вещь не на ее место» [Багдади 1981: 132]2: не то, которое она не-заслужила сама по себе, своим собственным деянием или недеянием, а то, которое ей не предназначено.
«Нарушение права» в таком понимании есть, собственно, его «отнятость» — во вполне «ощутимом» смысле. Когда право, как мы бы сказали, «ущемлено» или «неудовлетворено», это означает, что оно «имеется в другом месте» (т. е. не в том месте, где ему следует быть) или что оно «отсутствует»3. Право (х̣ак̣к̣), иначе говоря, наличествует у «другого», и справедливость будет состоять в «возвращении» этого права-х̣ак̣к̣ его законному «обладателю», на его законное место. Как определения справедливости, так и многочисленные формулировки фикха указывают нам на это понимание «права». Право не есть степень свободы для осуществления своих интересов; право есть некоторая «наличность», «присутствующая данность». Поэтому, например, человек «воздает Богу должное» не просто фактом Его признания, а «отдавая» Ему всё «положенное» (этим «положенным» и оказываются ритуалы и обряды, определяемые первым из разделов фикха — ‘иба̄да̄т). Контраст последнему, как мне представляется, составляет известное рассуждение Августина, в котором «отдание Богу должного» выстраивается по точной аналогии с «отданием должного» как справедливым обменом. Бог «имеет право» на то, чтобы быть почитаемым, и если это абстрактное право удовлетворено, справедливость в республике наличествует или, во всяком случае, удовлетворено ее первейшее условие. А в разбираемом нами
520
случае понимания права в арабо-мусульманской культуре важно не «право Бога» как такового, который мог бы рассматриваться сам по себе — важна «сцепка» человек-Бог, только в пределах которой и существуют «права Бога» (х̣ук̣ӯк̣ ’алла̄х).
12. Справедливость есть онтологическая устроенность и выстроенность: удачное «завязывание» узла структуры (неважно, онтологической или социальной). Два следствия этого понимания могут интересовать нас здесь.
Во-первых, это то, что может быть названо нормативностью справедливости. Быть и быть справедливым оказываются почти синонимами. Это, конечно, не значит, что любое бытие справедливо: такое утверждение просто отнимало бы у справедливости всякий смысл. Но справедливо нормальное бытие: не идеальный максимум, а нормативная правильность. Именно поэтому следование правилу есть следование истине и желательный optimum: свобода, предполагающая не-предзаданный поиск и отклонение от определенного образца, нежелательна и разрушительна. Этот императив достаточно ярко проявился в интеллектуальной культуре классического периода. В «Гражданской политике» ал-Фа̄ра̄бӣ «свободный град» попадает в разряд «Невежественного Града»: свобода однозначно ассоциируется с незнанием начал устроения жизни. Пример из области, казалось бы, далекой от философии, выявляет то же стремление «прилепиться» к утвержденному образцу: то, что в нашем языке стало устойчивым словосочетанием (за которым стоит не менее устойчивый смысловой комплекс) «поэтическая вольность», в арабской поэтике описывается как «вынужденность» (д̣арӯриййа̄т): отклонение от правила есть неизбежная и прискорбная необходимость, а не свободный поиск нового. То не-отклонение от «правила», о котором говорит ал-‘Ашма̄вӣ в связи с вопросом о гармонии и справедливости, имеет ту же природу: речь не о законе в чисто-юридическом понимании, речь о «правильной выстроенности» и правильном завязывании узлов структуры.
Искомая правильность, обеспечивающая справедливость, состоит в таком «связывании» сторон, при котором ни одна из них не забирает «чужого», предоставляя своему партнеру вполне проявить себя в этом «связывании» (вот почему, кстати говоря, правильно завязанный узел и оказывается наилучшим: в нем больше всего проявляются разнообразные «силы» сторон). Поэтому, во-вторых, отклонение от справедливости заключается в неточном соблюдении срединности завязывания узла, когда мы видим «перекос» в ту или другую сторону. Тогда одна из сторон оказывается подавлена другой; это подавление/подчинение — г̣алаба, таг̣аллуб — и есть несправедливость. Одна из сторон при таком «перекосе» заслонена, затемнена другой: з̣улм букв. «тьма» и есть несправедливость. Несправедливость-тьма к тому же и затемняет ясность истины: з̣улм — это заслонение истины-х̣ак̣к̣.
Эти два термина, которыми нередко выражалось в средневековье понятие «несправедливость»1, подводят нас к пониманию смысловой наполненности понятия
521
«срединность». Х̱айр ал-’умӯр авсат̣у-ха̄ «лучше всего срединное» — эта максима, освященная авторитетом Мухаммеда, проходит через все классическое мышление1. Середина, в которой сливаются и гармонизируются два противостояния, середина, в которой две отделенные и противопоставляемые (термин мук̣а̄бала) единицы сливаются, чтобы образовать осмысленное единство. Подлинный центр — здесь, в этой середине и срединности. Эта середина — область процессуальной сцепленности противоположностей, необходимо-предполагающих друг друга.
Если использовать образ чашечных весов (один из архетипических образов и западного, и арабо-мусульманского сознания), то можно сказать, что внимание западного сознания обращено на сами чашки и их содержимое, классического арабо-мусульманского — на усредняющий и уравновешивающий стержень2. В первом случае смысл в том, чтобы одно уравнялось другим: как определить точность такого уравнивания и как рассчитать единственно верное (точечное) решение — вот задача теории. Во втором случае важен сам факт уравновешенности противолежащего, каковая уравновешенность возможна только за счет центрирующего и усредняющего стержня: как именно двое противопоставляемых могут быть связаны в уравновешенное единство, каковы условия этого связывания — вот задача, которую решает теоретическая мысль здесь.
13. Наилучшее онтологическое устроение и наиболее справедливо — это лишь следствие глубинных связей рассмотренных понятий. Нам нетрудно и обнаружить подтверждение этого в понятии и‘тида̄л, как будто соединяющем эти два полюса (онтологический оптимум и справедливость). Однокоренное с разбираемым здесь
522
‘ада̄ла, понятие и‘тида̄л можно переводить как «умеренность» или «гармоничность». В применении к устроению человека или составу смеси первоэлементов понятие и‘тида̄л означает «лучшее из возможного»1. Весьма интересно, что это «наилучшее» оказывается никак не максимумом и не наибольшим, но — наисрединным. «Срединность» и «оптимальность» зафиксированы в своей слиянности и в терминологическом употреблении классического языка. Например, «умеренный» климат, находящийся ровно посередине между полюсами крайностей, именуется му‘тадил. Вспомним в этой связи, что ал-Ма̄вардӣ возводит понятие ‘ада̄ла к понятию и‘тида̄л — справедливое срединно.
Оно срединно потому, что именно срединное оптимально. Интуиция оптимальной усредненности — одна из самых существенных в арабской культуре. Оптимально для жизни (вспомним: истина жива, и арабская метафизическая мысль считает жизнь важнейшим атрибутом Истины, предшествующим даже ее единству) то, что не требует перенапряжения. Мотив снижения бремени обязательного — один из устойчивых и повторяющихся в исламской мысли. Снижение числа молитв с 50 до 5, осуществленное самим Богом; снижение превосходства армии противника, при котором собственное войско может бежать с поля боя, с 10-кратного до 2-кратного, осуществленное Мухаммедом; далее, заступничество Мухаммеда за грешников и, наконец, не-вечность адских мук2 — все это свидетельства «усредненности» и «мягкости» исламского мировоззрения (в принципе не зовущего к запредельному), его идеала соответствия природно-возможному (что иногда ошибочно расценивают как «гуманизм»). Это мировоззрение исключает императив предельного напряжения сил для достижения чего бы то ни было. Героическая смерть во время джихада — явление все же иного порядка. Другой пример: армию, согласно факихам классического периода, нельзя переутомлять, и темп марша определяется вовсе не боевыми потребностями, а возможностями слабейшего воина. То же можно сказать и об упомянутом факте определения того предела превосходства сил врага (двукратное), после которого мусульманин может уйти с поля боя. «Не переусердствовать чересчур» — одна из максим ислама. «Бог вменил вам в обязанность только то, что по силам»3 — понятие непосильного (скажем, «непосильное бремя» послушания или служения — столь развитый в христианской культуре мотив) есть безусловно отрицательное понятие в исламском контексте.
523
Примером иного понимания «усредняющей», или «оптимизирующей», справедливости может служить понимание термина ‘ада̄ла (справедливость) в фикхе, вероучении и исламской этике. Практически единой была точка зрения, согласно которой «справедливым» считается человек, не совершающих больших грехов (каба̄’ир) и не упорствующий в малых (с̣аг̣а̄’ир); различные авторы могли добавлять к этому те или иные требования, не менявшие сути дела1. Такая «справедливость» упоминается в качестве одного из основных условий для человека, занимающего то или иное положение во властно-управленческой структуре (или даже выступающего свидетелем в суде): речь идет о «справедливости» как соблюдении право-обязанностного комплекса х̣ук̣ӯк̣ самого главного, наверное, «узла» такой структуры — узла «человек-Бог».
Конечно, положение о предпочтительности срединного «очень напоминает» известное учение о золотой середине. Более того, аристотелевская концепция была прекрасно известна и неоднократно воспроизводилась в средневековых сочинениях арабоязычных авторов. Не только внешнее (во всяком случае, словесное) сходство, но и исторические факты, казалось бы, говорят в пользу если не отождествления, то по меньшей мере сближения определенных положений исламской этики и концепции золотой середины. И все же мне представляется достаточно очевидным, что аристотелевское учение, в том числе варианты его воспроизведения в заимствованиях, и исламское стремление к усредненности представляют собой нечто совершенно различное по своей логико-смысловой природе. Золотая середина в учении о пороках о добродетелях оказывается серединой (точно, или точечно, выверенным положением) между избытком и недостатком, которые оба составляют равно нежелательные состояния. Середина здесь, собственно, середина только в этом смысле — она в то же время оказывается максимумом, если речь вести о собственно добродетели. Таким образом, понимание добродетели как середины совершенно согласуется с пониманием ее у Аристотеля как максимума. Исламская усредненность, как она видится в термине ‘ада̄ла в данном его понимании (несовершение больших грехов и преобладание добрых дел над малыми грехами), — это середина между максимумом и минимумом (наибольшей осуществленностью и совершенным отсутствием) того, что с аристотелианской точки зрения было бы названо добродетелью. Она определяется не как точка, лежащая между порочным излишеством и столь же порочным отсутствием некоего качества, а как усредненность, по одну сторону которой — абсолютная, или максимальная, добродетель, а по другую сторону — абсолютный, совершенный порок. Что касается других значений категорий ‘ада̄ла и ‘адл, которыми мы и были заняты в этой статье (их можно назвать социальными, в отличие от данного, религиозно-этического, хотя такие характеристики очень условны), то они объясняются логико-смысловой природой понимания срединности в арабо-мусульманской мысли, ориентированной на процессуально-действенную эпистему: середина — это то
524
место, где завязывается взаимодействие контрагентов, и эта точка не имеет отношения к идее максимума какого-то качества.
14. Мы увидели понимание справедливости в арабской культуре как совмещающее (или непосредственно сливающее) истинность (как утвержденность и незыблемость), усредненность как способ этой фиксации и утверждения, «право-обязанность» как фиксированный комплекс узла властно-управленческой структуры, умеренность как онтологический оптимум и «справедливость» как моральное качество, необходимое человеку, играющему центральную (то есть, собственно, фиксирующую, утверждающую и усредняющую) роль в системе.
Справедливость здесь — это не способ уравнять1 шансы отдельных атомов общества, стремящихся к максимизации своих «доходов» (и потому неизбежно входящих в противоречие друг с другом, поскольку максимизировать их нельзя иначе как за счет другого); справедливость — это модус умеренного и слаженного жития. Справедливость-‘ада̄ла во многом сводится к поддержанию гармоничности (и‘тида̄л). Интересно, что не-ущемление прав другого здесь вводится через понятие и‘тида̄л — ближайший онтологический коннотат ‘ада̄ла. Человек, естественно, должен быть «справедливым», коль скоро он играет существенную роль в «обеспечении» этого модуса. Онтологически-справедливое означает, что справедливое есть. Его не требуется достигать особым, крайним усилием. Более того, оно есть, пока мы его не нарушили.
Для того, что может быть названо «западным» подходом к справедливости, характерно, что она понимается как исчислимая. От Аристотеля до Дж. Роулса эта характеристика «справедливого» неизменно присутствует. Справедливость с этой точки зрения — это равное воздаяние. В зависимости от того, как именно понимается равенство (точнее, что принимается в расчет для установления равенства, каковы вносимые в «исходное абсолютное равенство» поправки и коррективы) и что именно и за что воздается, мы получаем то или иное учение о справедливом устройстве общества или справедливом ведении дел.
Принципиально в обсуждаемом контексте то обстоятельство, что такая справедливость не существует, пока она не установлена. Справедливое устройство общества — дело законодателя. Оно почти всегда понимается как идеал (подчас недостижимый), а не как реальность. Но это в любом случае идеал, к которому должны стремиться люди и который они должны пытаться осуществить. Эта импликация заложена в самой сути западного понимания справедливости. Идеальная справедливость и есть то самое «запредельное», к которому должен стремиться человек, неважно, считает ли он его достижимым или нет. Что этот идеал может быть еще и рационально расчислен (будь то в аристотелевском определении справедливости
525
как математической пропорции обмена или в социальных утопиях любого толка), лишь естественным образом подкрепляет это его понимание. В конечном счете справедливое общество — Utopia, то, что никогда не имеет места. Движение к ней — вот что составляет суть общественной жизни.
Это непрестанное движение по ассимптоте принципиально посильно людям. Это движение — результат целенаправленных и сознательных усилий людей. Независимо от того, имеем ли мы дело с разновидностями теорий естественного права или с легальным позитивизмом (независимо от того, вечен ли и неизменен открываемый нами закон или он лишь и только таков, как мы его установим), справедливость понимается как точное, единственно точное соответствие этому истинному положению дел. Эта точность, собственно, есть точечность: любое отклонение в сторону (больше или меньше) уничтожает справедливость.
15. Вернемся к словам ал-‘Ашама̄вӣ, процитированным в начале статьи. Теперь мы можем более определенно сказать, что именно привлекло в них наше внимание. Это — перенос акцента с я-взаимодействия на мы-взаимодействие. Важно не то, как именно я взаимодействую с остальными членами общества (или как нечто взаимодействует с остальными элементами любой рассматриваемой структуры); важно то, какие мы-связанности в ней возможны. Общество не есть конгломерат, или совокупность, индивидов, связанных со мной теми или иными отношениями. Общество — это система мы-узлов структуры. Справедливость состоит не в том, чтобы я отдал всем остальным им причитающееся и получил свое; справедливость состоит в том, чтобы каждый мы-узел структуры был завязан правильно и не нарушалась гармонизирующая срединность.
16. Этим проблема понимания не разрешена (собственно, и не предполагалось, что сказанное станет ее разрешением). Теперь она, вероятно, только может быть поставлена. Ибо проблема состоит в том, почему мы все-таки стремимся понять одно и то же, хотя понимаем это по-разному?
Человеческое единство — это единство интенции понимания. Мы можем говорить об одном — это уже немало; но понимаем одно и то же мы все по-разному. (Наше единство — это единство разных пониманий одного и того же. Что одно и то же для всех нас важно и имеет смысл — вот в чем наше единство. Что этот смысл для нас может оказаться разным — вот в чем наше «собственное лицо».) Понятие одно и то же, кажется, совсем не тривиально. То, что сказано здесь, — лишь подход к возможности его выяснения. Пока что мы можем лишь сказать, что «быть одним и тем же» — значит не «быть одной сущностью», а быть результатом сходной интенции понимания.
Мы двигались к прояснению «того же» как «совсем не того же», чтобы затем прийти к пониманию его как «не совсем того же», и, наконец, — как «того же — иначе».
Сказанное было попыткой выяснить понятие в контрасте с понятием, предполагаемым как известное. Понятие выясняется в рассуждении, в котором в фоновом
526
режиме присутствует то же, но иное понятие. Рассуждение возможно только за счет этого фона; и если другое — «базовое», или «фоновое», — понятие и не видно, оно тем не менее составляет основу происходящего. В этом не было бы ничего особенного, если бы выясняемое не было тем же, что фоновое. Мы выясняем не понятие «A» на фоне понятия «Б»; мы выясняем понятие «A» на фоне понятия «A». Понятие ‘ада̄ла, ‘адл (справделивость) — на фоне понятия «справедливость». То, что подлежит выяснению — это внутренняя смысловая логика [выясняемого] понятия «A» (‘ада̄ла, ‘адл), понимание которой возможно только «на контрасте», или «на фоне», понятия «А» («справедливость»).
Что значит, однако, выяснять понятие «A» на фоне понятия «A», или выяснять понятие на фоне того же понятия? Не есть ли это выражение — просто бессмыслица?
Понятие «A» может быть выяснено на фоне понятия «A», понятие может быть выяснено на фоне того же, только если оно оказывается тем же — иначе.
Это иначе и составляло предмет нашего внимания: как «то же» может быть «тем же» — иначе?
Выясняя основания иного понимания справедливости в исламской мысли, мы выясняли конкретно-содержательный аспект этой инаковости. Но за содержательностью, обосновывая ее, стоит логический аспект проблемы. Понятие оказывается тем же иначе благодаря иной логике смысла.
Так в своей инаковости то же понятие предстало перед нами чужим.
Но только в полновесности своего статуса чужого чужое может быть действительно понято. Чужое остается непонятым, пока она предстает как свое, хотя и кажется при этом понятным. «Быть понятным», возможно, в каких-то случаях противоположно «быть понятым». Прежде чем понять чужое, следует понять его чуждость — его отчужденность от своих оснований понимания. Понять, однако, всегда значит при-своить, ибо нельзя понять, не сделав своим. Столкновение обязательности сохранения чуждости и непременности ее уничтожения в присвоении — парадоксальная коллизия понимания.
Чужое замыкает тот круг понимания, который начинается с видения понятного. Между понятным и чужим лежит чуждое — непонятое понятное, вдруг заявляющее о своей непонятости столь резко и дерзко, что изумленно отчуждает нас от себя. Понятное внезапно предстает как чуждое.
Если понятное — это другое, представленное нами в качестве своего, другое, некритически и без выяснения вопроса о его инаковости присвоенное нами, то чуждое — это другое, открывающее свою инаковость так внезапно или в таком контрасте с представлявшейся прежде присвоенностью, что в этой открывшейся инаковости сгорает без остатка всякая освоенность этого другого.
Чуждое может остаться чуждым навсегда — тогда, когда мы оставляем надежду понять другое. Но чуждое может и показать нам свою освоенность после отчужденности — тогда, когда мы оказываемся способны увидеть его как иное свое. Тогда чуждое превращается в чужое: в чужое как понятое не-свое; или: в чужое как освоенное чуждое.
 |

|
527
Общий подход
Сравнительные исследования в области истории философии посвящены выяснению сходств и различий между философскими традициями, которые развивались относительно независимо или, напротив, под влиянием друг друга; в последнем случае задача дополняется выявлением источников и путей заимствования идей, понятий, концепций и той трансформации, которую они при таком заимствовании претерпевают. Кажется, именно так понимают свою задачу все, или по меньшей мере большинство, ученых, работающих в этой области. Многообразие подходов к методологии сравнительных исследований, которое мы наблюдаем в настоящее время, вытекает в конечном счете из того, как понимается возможность установить различия или схождения между философскими учениями и какие пути ведут к этой цели. Конечно, понимание средств достижения цели в конечном счете зависит и от понимания самой цели. Но, как бы ни были различны понимания возможности установления сходств и различий, их объединяет одно: все они оказываются ответом на вопрос, как уловить нетождественность философских систем и как передать ее на языке исследователя.
Задача сравнительного историко-философского исследования мыслится, таким образом, как двуединая. Между первой и второй частями этой задачи и в самом деле существует непосредственная связь, причем способ решения первой части задачи влияет и на способ решения, а точнее, на способ постановки второй части задачи.
Задаваясь вопросом о том, как уловить различие между философскими учениями или отдельными идеями, насколько можно судить, не обращают внимания на то, что оказывается различием, а точнее, каким именно является улавливаемое различие. Принято считать, что различие между сравниваемыми системами или понятиями является содержательным. Содержание понятия «знание», например, очевидным образом различается в учениях средневековой арабской и западной традиций, и сравнительное исследование озабочено установлением этого содержательного различия, для чего и применяются многоразличные ме
528
тодики описания случаев и контекстов употребления, анализа источников и эволюции, выяснения роли понятия в системе категорий, выработанных традицией, и его связи с другими понятиями и т. п. Совершенно очевидно, что такая постановка задачи предполагает с неизбежностью возникновение дилеммы «язык исследователя — язык описываемой системы»: чем больше мы приближаемся к «собственному содержанию» исследуемой традиции, чем более содержательно адекватным ей языком мы ее описываем (технически это выражается чаще всего в отказе от перевода терминов, в использовании транслитераций или намеренно неоднозначных переводов, разрастании комментариев к терминам и т. д.), тем больше мы удаляемся от «собственной» (что реально всегда означает «западной» или «европейской») традиции и тем больше теряем возможность непосредственного содержательного взаимодействия с ней, тем самым парадоксальным образом размывая почву возможности содержательного сравнения двух традиций, — приближение к содержательной адекватности одному неизбежно удаляет нас от содержательной адекватности другому. Если же мы принимаем сугубо и сознательно «язык исследователя» (= «язык западной традиции») для описания исследуемой традиции, например арабской, мы неизбежно встречаемся с такими «нестыковками» этого языка и описываемой смысловой системы, что это заставляет нас по крайней мере частично встать на первый путь. Фактически же исследователи в своей практической сравнительной работе занимают компромиссную позицию между двумя полюсами, причем любой из таких компромиссов оказывается заведомо уязвим для критики оппонентов — не слишком, впрочем, настойчивой, поскольку все так или иначе осознают и неизбежность, и ограниченность подобных компромиссов. Слышащиеся иногда призывы к выработке метаязыка сравнительного исследования, который позволил бы преодолеть эту дилемму, мало кем воспринимаются всерьез, поскольку если затруднен перевод содержания понятий сравниваемой традиции в ту систему, что принята в языке исследователя, то тем более проблематичен содержательный перевод того и другого в некую третью систему, которую нас призывают сконструировать.
Я не случайно столь настойчиво подчеркиваю акцент на содержательности, который характерен для разбираемого подхода к сравнительным исследованиям. Если эта сторона и не оговаривается явно в тех методологических проработках, которые предлагают авторы, придерживающиеся этого подхода, она тем не менее в них присутствует. А может быть, и тем более — ведь лишь принимаемое безусловно и не подвергаемое сомнению нет нужды оговаривать особо.
Но именно в этой очевидности я и выражаю сомнение. С моей точки зрения, содержательная сторона рассматриваемых в сравнительных исследованиях различий должна быть отличаема от логической. Различия, иначе говоря, не всегда сводятся к различию содержаний — они могут заключаться также в различии логик смыслополагания. Многие содержательные различия могут быть объяснены через различие логик, тогда как обратное сведéние логики смыслополагания к содержательности оказывается невозможным.
529
Поэтому задача сравнительно исследования заключается, во-первых, в различении логического и содержательного аспектов схождений-расхождений сравниваемых учений, систем, понятий; во-вторых, в выявлении различий в логиках смыслополагания в сравниваемых случаях (или установлении их отсутствия); в- третьих, в максимально возможном объяснении содержательных различий через различие логик смыслополагания (если таковое установлено). Кроме того (в-четвертых), можно ставить вопрос о том, как содержательность определена логикой смыслополагания в общем случае, вне проблематики сравнительных исследований.
Хотя я не могу здесь останавливаться на этом особо, тем не менее очевидно, что описание логики смыслополагания выполняется иными языковыми средствами, нежели описание содержательности, причем язык, описывающий логику смыслополагания в разных философских традициях, может стоять в одинаковом отношении к языкам самих философских традиций, не будучи при этом ни одним из них. Построение метаязыка сравнительного исследования поэтому возможно как описание логик смыслополагания.
Предпринимаемое исследование построено на этих началах.
Тексты
Начнем с того, что сопоставим два рассуждения.
I, *СИМПЛИКИЙ. Комм. к «Физике», 1011, 19 (к 239 b 5): Аргумент Зенона, предварительно постулировав, что 1) всякое [тело], когда оно занимает равное себе пространство, либо движется, либо покоится; 2) ничто не движется в [отдельное] «теперь»; 3) движущееся [тело] всегда находится в равном самому себе пространстве в каждое отдельное «теперь», — по-видимому, умозаключал так: летящая стрела в каждое отдельное «теперь» занимает равное себе пространство, а следовательно, и в течение всего времени [полета]. Но то, что в данное «теперь» занимает равное себе пространство, не движется, так как ничто не движется в [одно] «теперь». Но то, что не движется, покоится, так как все либо движется, либо покоится. Следовательно, летящая стрела, пока она летит, покоится в течение всего времени полета [Фрагменты 1989: 310].
II. ’Абӯ ал-Хуз̱айл говорил, что движения и покой — это иное, нежели возникновения (аква̄н) и соприкосновения. Движение тела из первого места во второе возникает в нем, когда оно во втором месте, в состоянии1 его возникновения (кавн) в нем, и является его перемещением из первого места и покиданием оного. Тело покоится во втором месте, если проводит там два момента времени. Итак, для [пере]движения из некоего места необхо-
530
димы два места и два момента времени, а для покоя — [одно место и] два момента времени [Ашари 1980: 355]1.
В первом случае, как без труда догадался читатель, речь идет о знаменитой апории Зенона «Стрела». Из нескольких существующих версий изложения этой апории я выбрал именно эту, поскольку в ней, кажется, наиболее отчетливо сформулированы посылки и стадии умозаключений. Хотя эта версия принадлежит комментатору Аристотеля, вряд ли можно сомневаться в допустимости предложенной в ней интерпретации зеноновской мысли и правильности реконструкции логики размышления.
Вторая цитата имеет гораздо меньше шансов быть узнанной, разве что весьма небольшим числом специалистов. Автор рассуждения — ’Абӯ ал-Хуз̱айл ал- ‘Алла̄ф, один из выдающихся представителей мутазилизма — первого из оформившихся направлений классической арабской философии, раннего этапа развития калама. Узнаваемость цитаты свидетельствует о ее роли в культуре, но никак не об объективной сравнимости с тем или иным интересующим нас рассуждением. Может быть, не так уж и плохо, что эта цитата трудноузнаваема в нашей культуре: тому, что не вполне примелькалось, легче составить контрастный фон. А я именно и хочу соположить два рассуждения так, чтобы на их контрасте — если таковой, конечно же, имеется, так что установление его действительного наличия составляет отдельную задачу, — высветить те основания, которые делают эти рассуждения возможными.
Постановка вопроса
Статья о Зеноне Элейском в «Философском энциклопедическом словаре» заканчивается следующими словами: «Апории Зенона не утратили своего значения и для современной науки, развитие которой связано с разрешением противоречий, возникающих при отображении реальных процессов движения». Автор этих строк исходил из убеждения, которое, очевидно, разделяют многие: действительно совершающийся процесс движения может быть отражен подлинно благодаря тому, что мы, открывая противоречивость тех или иных отображений этой действительности и устраняя их (поелику это возможно) или указывая на них (если устранение окажется или покажется, по тем или иным причинам, невозможным), будем тем самым по меньшей мере приближаться к подлинности отображения. При этом предполагается, что оценка степени приближенности к этой подлинности возможна.
Очевидно, что если бы это было так, то подлинность отображения была бы уже некоторым образом достигнута; и даже не некоторым, а решающим образом, поскольку позволяла бы судить о неподлинности прочих способов отображения,
531
а значит, служила бы в определенном смысле критерием истины. Но нас в данном случае заботит даже не этот парадокс, заключающийся в том, что для того, чтобы оценить степень неадекватности нашего нынешнего знания, нам требуется абсолютный критерий подлинности, тем самым заведомо превышающий меру наших нынешних, неадекватных по нашему собственному определению, знаний. Пусть — хотя это в высшей степени проблематично — этот парадокс может быть тем или иным способом разрешен, и мы в силах определить процедуру оценки относительной подлинности, не нуждающуюся в экспликации абсолютной точки отсчета. Правильным ли в таком случае оказывается представление, лежащее в самом основании тезиса о «постепенном приближении к полной подлинности», сам образ линейного нарастания подлинности отображения? Является ли приближение-к-подлинности движением с единым направлением, единой точкой отсчета, единым критерием приближения к цели?
Представление о возможности «постепенно приблизиться» к подлинному отображению действительности покоится на определенных «очевидностях», которые обосновывают нечто гораздо большее, чем одно только это представление, и если от него самого в данной конкретной форме многие все же откажутся, то в других положениях, обосновываемых ровно теми же «очевидностями», сегодня на самом деле мало кто сомневается. Сравнительные исследования философских традиций «Запада» и «Востока» при всем многообразии предлагаемых методологических подходов все же ведутся работающими в этой области учеными так, как если бы сама возможность проведения сравнительных исследований была уже твердо установленным фактом и оставалось бы лишь найти наиболее приближенные к истине — или, если угодно, наиболее эффективные — пути их проведения. Между тем такая возможность отнюдь не является очевидностью, и уверенность в ее наличии похожа на добродушное полагание желанного действительным. Утверждая априорную возможность сравнительных исследований, мы тем самым полагаем, что смыслы, выстраиваемые в разных культурах, принципиально сравнимы. Речь не идет о том, что они различны; как раз различие может быть установлено только относительно некоторой общей точки отсчета, которая и будет служить в таком случае основанием сравнения; а значит, о различии смыслов, выстраиваемых разными культурами, можно с полным основанием говорить только после того, как такая общая точка установлена. Между тем наличие подобного общего основания смыслопостроения в различных культурах, относительно которого и измерялись бы все расхождения, вовсе не очевидно. Вопрос о наличии такой общей точки, позволяющей осмысленно сравнивать тезисы и положения, сформулированные разными культурами, и будет поставлен нами — применительно к двум традициям, античной и классической арабской.
Вопрос, который мы задаем процитированным текстам, может быть, таким образом, сформулирован так: являются ли два способа представления движения, которые мы встречаем в процитированных отрывках, соизмеримыми? Выстраиваются ли они на одной линии, заданной основанием соизмерения (если они соизмеримы), или же
532
они некоторым фундаментальным образом параллельны, так что на самом глубинном уровне возможность найти общую исходную точку отсутствует? Отметим, что речь не идет о том различии, которое принято описывать как различие парадигм, в том смысле, в каком обычно понимается научная парадигма. Парадигмальная фундированность знания предполагает все же возможность переформулировки задач из той формы, которая была возможна в прежней парадигме, в диктуемую новой парадигмой форму, пусть такая переформулировка и сопровождается потерями и выпадениями отдельных классов задач (компенсируемыми обычно приобретением новых классов). Именно принципиальная возможность переформулировки, пусть переформулировка, повторим, сколь угодна неполна, помещает разные парадигмальные этапы в русло единой традиции1.
Но именно о возможности подобной переформулировки я и задаю вопрос в нашем случае. Соизмеримость может быть в конечном счете понята и как переформулируемость. Значит, вопрос может звучать и так: возможна ли в принципе формулировка зеноновской апории в той системе представлений, исходя из которых формулируются положения о движении, выдвинутые ал-‘Алла̄фом? Отметим, что речь не идет о том, останется ли зеноновская апория парадоксом при такой переформулировке; вопрос заключается в том, может ли система представлений, делающая возможной формулировку апории, равно как и предложенное оппонентами Зенона ее разрешение (о нем речь у нас впереди), быть воспроизведена в той системе представлений, которая делает возможной формулировку положений калама о движении?
Теперь, кажется, мы достигли той формулировки вопроса, которая позволит провести исследование именно так, как мы того хотим, — а именно, соположить два текста таким образом, чтобы они благодаря взаимному контрасту прояснили основания друг друга. Ибо именно возможность (или невозможность) формулировки тезисов одного текста исходя из оснований другого выявит соизмеримость или докажет несоизменимость двух положений, расположив их линейно либо поместив на параллельных направлениях мысли.
Метод исследования
Апории, сформулированные Зеноном, послужили предметом пристального внимания уже в древности9. Практически для всех апорий оппонентами Зенона, и прежде всего Аристотелем, были предложены решения. Впрочем, мы можем говорить о решении апорий Зенона только в том случае, если под «решением»
533
понимается и запрет на определенные мыслительные операции, причем, как выяснится, как раз такие запреты представляют для нас особый интерес, поскольку они формулируются именно для того, чтобы избежать явного нарушения безусловно-правильных положений. Поэтому, исследуя подобные запреты, мы тем самым будем иметь дело с положениями, которые, как считается, не могут быть подвергнуты сомнению никогда. Выяснив, что именно относят к числу таких безусловно-правильных положений Зенон и его оппоненты, мы перейдем к положениям о движении, выдвинутым ал-‘Алла̄фом и его коллегами. Нас будет заботить поставленный вопрос: могут ли эти положения быть сформулированы, если принять за безусловно-правильные те исходные основания рациональности, которые признают таковыми Зенон и его оппоненты? В случае, если мы получим отрицательный ответ на этот вопрос, нас заинтересуют его причины. Тогда нам придется выяснить, почему именно нам не удается сформулировать тезисы ал-‘Алла̄фа и других мутазилитов в системе исходных представлений о рациональности, характерных для античности. Вероятно, в таком случае мы сможем обнаружить конфликт этих представлений с собственными основаниями рациональности, характерными для классической арабской культуры. Если нам удастся сформулировать последние в явной форме, мы сможем сравнить две системы представлений о безусловно-правильном, характерные для двух культур, и прояснить характер конфликта, возникающего между ними. И уже на основании этого понять, насколько соизмеримы, и соизмеримы ли вообще, обсуждаемые тезисы, касающиеся движения.
Исследование
Разобьем наше исследование на две части. Сначала предоставим слово каждой традиции в отдельности, чтобы она могла говорить от своего имени с нами; затем мы дадим слово им обеим, чтобы они смогли поговорить друг с другом — с нашей помощью. Таким образом, мы выслушаем два монолога и диалог.
Монологи
Античность
Естественно, что в своем исследовании мы выйдем за пределы тех двух текстов, что были упомянуты вначале, и привлечем другие отрывки, имеющие отношение к обсуждаемой теме. При этом, однако, то, с чего мы начали, будет постоянно оставаться в поле нашего зрения.
Зенон выдвигает свои апории, доказывая положения своего учителя Парменида о том, что мыслить множественное более нелепо, нежели мыслить единое. Это не значит, впрочем, что «единое» для самого Зенона оказывается ясным или неапоричным понятием. Зенон утверждает лишь, что это понятие лучше, поскольку оно
534
ведет к менее абсурдным положениям, нежели противоположный тезис противников Парменида о том, что сущее множественно.
Рассматривая аргументы Зенона и контраргументы его оппонентов (прежде всего Аристотеля), мы можем условно классифицировать их в зависимости от того, какого рода положение выдвигается в качестве исходного, так что противоречие ему, достигаемое Зеноном в процессе рассуждения, служит основанием апории. В целом выделяются два класса апорий: основанные на софизмах и основанные на паралогизмах. В первом случае Зенон, с точки зрения его оппонентов, смешивает разные понятия в одном, за счет чего и достигается нелепый вывод. Во втором случае смешения понятий не происходит, и аргументация Зенона признается вполне верной, но исходное допущение, на котором строится вся цепочка доказательств, объявляется невозможным. Для нас важно, что и в том и в другом случае общим для Зенона и его оппонентов оказывается уверенность в безусловной верности некоторых тезисов, которые служат последней и недоказываемой опорой аргументации. Именно такая уверенность и составляет основание диалога между Зеноном и его оппонентами, именно она и обосновывает его возможность. Уверенность в том, что Зенон извращает правильные положения (в случае софизмов) и использует правильные положения правильным образом, но кладет в основание рассуждения ложную исходную посылку (в случае паралогизмов), и движет желанием оппонентов прояснить смешение понятий, составляющее суть извращения в первом случае, и запретить исходное допущение, ведущее к невозможным следствиям — во втором. Эти недоказываемые и универсально-признаваемые тезисы мы и назовем предельными основаниями рациональности: они составляют предел возможности доказательств и определяют, что считается безусловно правильным, а что безусловно нелепым. Именно благодаря признанию этих оснований и возможна в конечном счете формулировка апорий Зенона (равно как и предлагаемые оппонентами их решения).
Попытаемся найти эти предельные основания рациональности, признаваемые Зеноном и его оппонентами, анализируя его апории и их решения. Начнем с тех, которые могут быть отнесены к классу софистических.
К числу наиболее простых относится апория Зенона о несуществовании «места» сущих, если они множественны. Вот что мы встречаем в качестве ее опровержения:
24. АРИСТОТЕЛЬ. Физика, ∆ 3.210 b22: Апорию Зенона — если место есть нечто, то в чем оно будет? — решить нетрудно. Ничто не мешает первому месту быть в чем-то другом, но не как в месте и т. д.
*СИМПЛИКИЙ. Комм. К этому месту, 562, 3: Аргумент Зенона, якобы упразднявший реальность места, формулируется так: «Если есть место, то оно будет в чем-то, так как всякое сущее в чем-то. Но что в чем-то, то и в месте. Следовательно, и место будет в месте, и так до бесконечности. Следовательно, места нет».
535
Там же, 563, 17=ЕВДЕМ, фр. 78 Wehril: К тому же выводу ведет, очевидно, и апория Зенона. Он постулирует, что все, что есть, должно быть «где». Но если место принадлежит к тому, что есть, то где оно будет? Разумеется, в другом месте, другое — в третьем и т. д. [...] Зенону мы возразим, что [выражение] «где» многозначно. Если он постулировал, что все, что есть, должно быть «в месте», то постулат неверен: ни о здоровье, ни о мужестве, ни о тьме других [сущих] нельзя сказать, чтобы они были «в месте». И точно так же [этого нельзя сказать] о месте, коль скоро оно таково, как определено выше. Если же «где» имеет другое значение, то и место будет «где»: граница тела находится «где-то» на теле, а именно на краю.
АРИСТОТЕЛЬ. Физика. ∆ 1. 209 а 23: Далее если само [место] есть нечто сущее, то где оно будет? Апория Зенона требует объяснения: если всякое сущее в месте, то ясно, что и у места будет место, и получится прогресс в бесконечность.
*ФИЛОПОН. Комм. к этому месту, 510, 2: Далее, говорит [Аристотель], апория Зенона также требует объяснения и нуждается в ответе. Если все сущие в месте, как полагали некоторые, а место принадлежит к сущим, то, следовательно, и место будет в месте, второе — в третьем, и так до бесконечности. Ср.: Там же, 599, 1: «Если всякое сущее где-то, — говорил Зенон, — а место есть нечто, то, следовательно, и место будет где-то, поэтому место будет в месте, и так до бесконечности» [Фрагменты 1989: 306].
Софистический аргумент, вводящий в заблуждение многозначностью термина «где», употребляемого в отношении «места», легко отводится Аристотелем, разъясняющим эту многозначность. Требование говорить об одной и той же вещи в одном и том же отношении в пределах одного утверждения направлено против возможности таких софизмов.
Частным случаем соблюдения такого требования однозначности можно считать различение потенциального и актуального состояний. Этот прием стоит упомянуть отдельно:
25. Аристотель. Физика, Z 9: 239 b 9: Есть четыре аргумента () Зенона о движении, которые доставляют трудности тем, кто пытается их решить. Первый — о невозможности движения, так как перемещающееся [тело] прежде должно дойти до половины, нежели до конца. Этот [аргумент] мы разобрали выше. См.: АРИСТОТЕЛЬ. Физика, Z 2. 233 a 21: Поэтому аргумент Зенона исходит из ложного постулата о том, что невозможно в конечное время пройти бесконечное число [протяженных величин] или коснуться бесконечного числа [точек] одну за другой. И длина, и время, и вообще всякий континуум называются «бесконечными» в двух смыслах: либо по делению, либо по экстремальной протяженности. Стало быть, коснуться в конечное время «бесконечных по количеству» [величин] невозможно, а «бесконечных по делению» — можно, так как само время «бесконечно» в этом смысле. Поэтому оказывается, что [движущиеся тела] проходят бесконечность и касаются бесконечного числа [точек] в бесконечное, а не в конечное время и [сами при этом] «бесконечны», а не конечны [Там же: 307].
536
Отметим, что различение потенциального и актуального играет особую роль в рассмотрении вопросов делимости величин. Согласно Аристотелю, любая величина делима потенциально до бесконечности, тогда как актуальная разделенность ее всегда имеет предел.
Итак, оппоненты Зенона предлагают решение его апорий, построенных на софистической многозначности терминов, и в частности смешении актуального и потенциального. Различение потенциальной и актуальной делимости соотносится с предлагаемым Аристотелем решением другого класса апорий, построенных на паралогизмах, к которым принадлежит и интересующая нас «Стрела».
27. АРИСТОТЕЛЬ. Физика, Z 9, 239 b 30: Третий [аргумент], только что упомянутый, гласит, что летящая стрела стоит на месте. [Этот вывод] вытекает из постулата о том, что время состоит из [отдельных] «теперь»: без этого допущения умозаключение невозможно. Ср.: Там же, 239 b 5: Зенон допускает паралогизм. Если всякое [тело], говорит он, покоится там, где оно движется, всякий раз, как занимает равное [себе пространство], а движущееся [тело] всегда [занимает равное себе пространство] в [каждое] «теперь», то летящая стрела неподвижна. Но это ложь: время не состоит из неделимых «теперь», равно как и никакая другая величина [Фрагменты 1989: 309].
Согласно Аристотелю, время потенциально делимо до бесконечности, а потому отсутствует атомарная временнáя величина. Если бы такой недлящийся атом времени существовал, то он, совершенно очевидно, в силу своей нулевой длительности в сложении с себе подобными не мог бы производить временнýю длительность. В этом отношении интересен следующий отрывок из «Метафизики», где Аристотель упрекает Зенона за неоправданное допущение в применении тезиса о том, что из ничего не возникает нечто, вполне соглашаясь с самим этим тезисом:
Кроме того, если само-по-себе-единое неделимо, то, согласно положению Зенона, оно должно быть ничем. В самом деле, если прибавление чего-то к вещи не делает ее больше и отнятие его от нее не делает ее меньше, то, утверждает Зенон, это нечто не относится к существующему, явно полагая, что существующее — это величина, а раз величина, то и нечто телесное: ведь телесное есть в полной мере сущее; однако другие величины, например плоскость и линия, если их прибавлять, в одном случае увеличивают, а в другом нет; точка же и единица не делают этого никаким образом. А так как Зенон рассуждает грубо и так как нечто неделимое может существовать, и притом так, что оно будет некоторым образом ограждено от Зеноновых рассуждений (ибо если такое неделимое прибавлять, оно, правда, не увеличит, но умножит), то спрашивается, как из одного такого единого или нескольких получится величина? Предполагать это — все равно что утверждать, что линия состоит из точек [Аристотель 1976: 114].
Нетрудно увидеть, что те предельные основания рациональности, с которыми согласен Зенон и которые не оспариваются и его оппонентами, представлены
537
положением об исключенном третьем и тезисом о том, что сложение нулевых величин не производит величину1. Различие между этими положениями и тем, что Аристотель и его последователи оспаривают в зеноновских апориях, очевидно. Любое сущее либо едино, либо множественно, и это положение об исключенном третьем остается безусловно верным как для Аристотеля, так и для Зенона, многократно повторяющего его в своих рассуждениях; весь вопрос в том, чтобы установить однозначность терминов «единство» и «множественность» относительно «одного и того же» сущего. Точно так же стрела либо движется, либо покоится в любой момент времени, и именно потому, что это положение безусловно верно, не существует, говорит Аристотель, такого «момента времени», в который о ней можно было бы говорить, что она «не движется», а значит, время не атомарно, не складывается из неделимых «теперь». Этот тезис хорошо согласуется и с тем, что сложение нулевых величин не может дать величину. Аристотель совершенно справедливо упрекает Зенона, формулирующего свою апорию, в паралогизме: ведь тем самым он допускает возникновение длительности из сложения нулевых величин, что сам же в другом месте (я имею в виду его апорию «Просяное зерно») отрицает.
Говоря о законе исключенного третьего и положении о том, что сложение нулевых величин не производит величину, я вовсе не утверждаю, что выделили все тезисы, которые могут быть отнесены к предельным основаниям рациональности, как их представляла античность. К примеру, я не говорю здесь о принципе абсурдности прогресса в бесконечность, который был упомянут в одном из процитированных отрывков; возможно, какие-то другие тезисы также остались за пределами нашего внимания. Я хочу лишь подчеркнуть, что отмеченные два положения, безусловно, относятся к разделяемым античностью представлениям о предельных основаниях рациональности.
Мы, далее, говорим собственно о них потому, что именно эти тезисы важны для сравнения зеноновской «Стрелы» с представлениями мутазилитов о движении. Нетрудно видеть, что формулировка зеноновских апорий возможна только в том случае, если эти тезисы считаются безусловно верными. Дело совершенно не меняется от того, что эти апории могут быть отвергнуты, поскольку такое решение как раз и заключается в демонстрации непоследовательности Зенона, на том или ином шаге отступающего от правильного применения этих тезисов, тогда как сами тезисы у Аристотеля, опровергающего Зенона, не только не подвергаются сомнению, но напротив, уточняются и разъясняются.
538
Мутазилизм
Насколько сравним мутазилизм с той эпохой философствования, которая послужила предметом нашего внимания в предыдущем разделе? Мутазилизм — первое оформившееся и заявившее о себе постановкой собственных философских проблем направление классической арабской философии. Ранний этап мутазилизма1 (а именно о нем и будет у нас идти речь) хронологически предшествует полному оформлению и расцвету арабского перипатетизма. Не будет большим преувеличением сказать, что типологически ранний мутазилизм представляет собой как бы аналог досократического периода в арабском философствовании, во всяком случае доаристотелевского. Но именно как бы: мутазилизм полон энергии и стремления ставить и обсуждать вопросы, которые в таком обилии открываются для взгляда, делающего первую в истории данной культуры попытку универсального осмысления мира, желая найти на них ответ и будучи уверенным, что ответ непременно отыщется при более настойчивом рассмотрении, — притом что Аристотель уже прекрасно известен культуре и самим мутазилитам; но арабский перипатетизм еще не овладел вполне философской сценой, и в сообществе интеллектуалов того времени2 все еще идут горячие очные споры, в которых в бесконечном столкновении мыслимых (и почти немыслимых) точек зрения выясняется смысловое строение понятий, возможные отношения и связи между ними. Эти споры, их ход и, так сказать, организация показывают нам, на какой основе возможно взаимопонимание между мутазилитами, а также другими мыслителями того времени, участвовавшими в этих диспутах, показывают, чтó для них считается универсально приемлемым, каковы те общие точки отсчета, которые делают возможными их полемику и диалог, позволяя выяснить именно то, что я назвал предельными основаниями рациональности. Нам предстоит присмотреться к их рассуждениям с тем, чтобы выделить в них интересующие нас тезисы.
Говоря о том, что мутазилизм типологически можно уподобить досократическому периодому греческого философствования, я вовсе не хочу сказать, что сходство это распространяется и на содержание их учений. Напротив, обратившись к полемике мутазилитов, мы как раз не обнаружим в них тех ходов мысли, которые продемонстрировала античность и повторения которых мы могли бы ожидать в данном случае. Это наше ожидание оправдано двумя соображениями. Во-первых,
539
проблемы, вставшие перед мутазилитами, схожи с теми, что стояли перед Зеноном и его оппонентами. Это проблема того, как одно и то же может быть одновременно единым и множественным, вопросы атомизма и проблемы описания движения (временнóго изменения пространственных характеристик тела). Во-вторых, мутазилиты вовсе не находились в неведении относительно вариантов решения подобных проблем, выдвинутых в досократический и постаристотелевский периоды античного философствования. Весьма характерно, что изложение взглядов мутазилитов на ту или иную проблему нередко сопровождается у ал-Аш‘арӣ указанием на то, что последователи Аристотеля придерживались в данном вопросе таких-то взглядов. Скажем, при обсуждении вопросов атомизма встречаем такое упоминание характерного аристотелевского тезиса:
Некоторые философствующие1 говорили, что частица делима и что это деление актуально имеет предел, но потенциально и в возможности у деления предела нет [Ашари 1980: 318]2,
причем этот взгляд лишь констатируется и помещается рядом с разноголосицей мнений мутазилитов и других исламских мыслителей, никак в этой полемике не участвуя, а лишь будучи упомянут ради полноты обзора, как бы в отчете добросовестного архивариуса. Очевидная потребность в наработанных решениях наряду с их доступностью делает объяснение их неиспользования отдельной историко-философской проблемой. Дело ведь в том, что для классической арабской интеллектуальной культуры преобладающей (хотя не исключительной) была установка на максимально возможное использование унаследованного от других культур знания, которое не отвергалось просто лишь на том основании, что оно «не наше». Такая позиция неслучайна, но вдаваться в ее причины здесь нет ни возможности, ни надобности. Отметим лишь, что игнорирование чужой мудрости или изменения, вносимые в состав заимствуемых учений, не бывали результатами пренебрежения или злого умысла; практически всегда на то имелись веские причины.
Как мы могли убедиться выше, различение актуального и потенциального было одним из важных решений, предложенных античностью ради того, чтобы обеспечить корректность следствий в рассуждениях, основывающихся на применении
540
тезисов, которые мы отнесли к предельным основаниям рациональности. Такое различение поэтому связано не только с собственно содержанием логических и онтологических учений, которых придерживается та или иная философская школа, но и с более фундаментальной необходимостью сохранить корректность первооснов, на которых строится в данной культуре представление о рациональном. Тот факт, что мутазилиты проходят мимо этого тезиса, фиксируя его, но никак не реагируя на его наличие, заставляет нас задуматься о его значении для сохранения тех оснований рациональности, на которых строятся их рассуждения.
Для решения софистических апорий в античности было выдвинуто также требование однозначности используемой в суждении терминологии. Это требование, сыгравшее столь важную роль в развитии греческого философского мышления, в арабском теоретическом дискурсе, безусловно, соблюдается, — но в силу иных причин, прежде всего в силу требований теории указания на смысл (дала̄ла ‘ала̄ ал-ма‘на̄). Эта практически универсально принятая теория раценивает слово (калима) как указание «высказанности» (лафз̣; это звуковая или графическая сторона слова) на «смысл» (ма‘нан). Данная теория хорошо интерпретируется в П-логике, где указывающее («высказанность», явное, то, что объективировано и может быть передано другому) связано с тем-на-что-указано («смысл», скрытое, то, что в принципе не может быть обнаружено как таковое) процессом «указывание» (дала̄ла). Поскольку такое процессуальное единство закономерно связывает противоположные стороны, т. е. высказанность и смысл, естественным следствием второго закона П-логики (см. с. 198 и далее) стала герменевтическая привычка видеть эту связь, обращать на нее внимание и переходить ко второму, т. е. к «смыслу» (который как таковой никогда не может быть объективирован), узнав первое, т. е. «высказанность». Вот почему выяснение всех нюансов «смысла» (ма‘нан), на который указывает та или иная «высказанность», входит в привычку арабских теоретиков, а соблюдение однозначности такого указания становится общим правилом. Однозначность терминологии оказывалась естественным следствием этой позиции, достигаемым без эксплицитной формулировки самого императива однозначности. Вопросы «каков смысл того, что...» были очень характерны для рассуждений мутазилитов. Это не значит, конечно, что все теоретики употребляли термины в одном и том же значении; это означает, что в случаях расхождения эти разные значения бывали четко фиксированы, а тем самым фактически устранялась почва для намеренных софизмов. Кроме того, для классической арабской культуры характерно очень тонкое языковое чутье, реагирующее на малейшие флуктуации словесных смыслов. Помноженное на синонимическое богатство арабского языка, оно дало феномен необычайно тонкого и точного разведения нюансов понятий и закрепления близких, но все же различающихся значений за разными терминами. В тех случаях, когда термин все же мог истолковываться в разных смыслах, эти смыслы тщательно фиксировались и разводились и специально оговаривалось, какие следствия вытекают из применения термина в каждом из возможных случаев
541
понимания1. Таким образом, арабское теоретическое мышление в силу характера П-логики, требующей (в применении к пониманию слова) постоянного внимания к точности «смысла» (ма‘нан), не было склонно к намеренным софизмам, а развитое языковое чутье оберегало от ненамеренных2.
Таким образом, если мы не встречаем апорий софистического толка в арабо-мусульманской мысли, это не свидетельствует напрямую о различиях в основаниях рациональности в сравнении с античностью. Вместе с тем причиной такого отсутствия следует считать П-логику, требовавшую постоянного внимания к согласованности «высказанности» и «смысла» и формировавшую дискурсивные привычки в арабо-мусульманской культуре.
Перейдем теперь к апории «Стрела». Как мы помним, Зенон исходил из того, что сложение нулевых величин не производит величину. Соглашаясь с этим и, более того, исходя из этого же, Аристотель утверждает, что предположение о том, что время складывается из атомарных «теперь», неверно; время — континуальная величина, потенциально бесконечно делимая, но не дающая в результате этого деления актуальный безразмерный атом времени.
Примерим эту логику выстраивания понятия к представлениям ранних арабских мыслителей о времени. Вот что сообщает нам об этом ал-Аш‘арӣ:
Они разошлись в вопросе о времени.
Одни говорили: время — это то, что разделяет действия. Это — предел между одним действием и другим. С каждым [моментом] времени возникает действие. Другие говорили, что время — это то, что ты назначаешь в качестве такового для вещи. Например, сказав: «Я пришел [в момент] прибытия Зейда», ты прибытие Зейда сделал временем своего прихода. Они считали, что [моменты] времени — это движения небесной сферы, поскольку Бог (Славен Он и Велик!) назначил их
в качестве времени для вещей. Так говорил ал-Джубба̄’ӣ. А иные говорили: время — это акциденция, и мы не рассуждаем о том, что это такое, и не исследуем его истинность.
Они разошлись в вопросе о том, бывает одно время для двух вещей или нет. Одни это допускали, а другие отрицали.
Они разошлись в вопросе о том, допустимо ли существование вещей не во времени. Одни это допускали, а другие отрицали.
Изложенные нами мнения о времени принадлежат приверженцам ислама [Ашари 1980: 443].
542
Мы имеем три мнения о том, что такое время.
Последнее из них (время — акциденция) нас мало заинтересует, поскольку его защитники фактически просто отказываются обсуждать это понятие.
Второе, вероятно, можно было бы счесть в значительной мере напоминающим учения фала̄сифа о движении небесных сфер, служащих для отсчета времени. В самом деле, позже Ибн Сӣна̄ скажет:
В соизмерении со временем век движения (дахр ал-х̣арака) — причина времени, а двигатель — причина движения, следовательно, двигатель — причина причины времени, а значит, двигатель — причина времени. Но не всякий двигатель, а двигатель кругового [движения], и двигатель не всякого кругового [движения], а того, которое не принудительно [Ибн Сина 1954: 28].
Но сходство это оказывается скорее внешним, упускающим существо дела; в глубине мы увидим расхождение. Если для фала̄сифа движение небесных сфер является причиной времени, то ал-Джубба̄’ӣ, которому и принадлежит второе мнение, говорит о том, что движение само является «моментами времени». Заметим, что он вовсе не указывают на ту сущностную черту времени, которая так важна для фала̄сифа, утверждающих, что время —
это то, благодаря чему бывает такое «до» (к̣абл), вместе с которым не бывает «после» (ба‘да). Этой «до-востью» (к̣аблиййа) оно обладает самостно, другое же — благодаря ему; то же касается и «после-вости» (ба‘диййа). Эти «до-вости» и «после-вости» непрерывны без предела [Там же: 26].
И это не случайно. Для фала̄сифа время — континуальная и самостоятельная величина, к которой некоторым образом оказываются причастны вещи. Для арабского мыслителя время оказывается соотнеснием двух действий. Движения небесной сферы, о которых говорит ал-Джубба̄’ӣ, играют роль действия, соотнесенного с тем, для которого мы хотим определить время, и в этой своей функции ничуть не отличаются от другого действия — «прибытия Зейда». «Прибытие Зейда» — это некое действие, назначенное в качестве времени (вак̣т) для другого действия — «моего прихода». Ал-Аш‘арӣ упоминает мнение своего учителя ал-Джубба̄’ӣ «отдельной строкой» скорее из почтения к наставнику, нежели в силу того, что оно действительно существенно отличается от тезиса, который ал-Аш‘арӣ упоминает первым.
На тесную связь между вак̣т (время) и фи‘л (действие) указывает и Ибн Манз̣ӯр. Он пишет:
وتقول : وَقَتَه فهو موقوت اذا بين للفعل وقتا يفعل فيه
Можно сказать: он определил время (вак̣ата) чего-то, так что это — определенное по времени (мавк̣ӯт), если указал для некоего действия время (вак̣т), в которое оно совершается [Ибн Манзур, 2:108].
543
Вак̣ата — глагол, который вслед за Х. К. Барановым я передаю как «определить время», хотя понятно, что в оригинале нет морфологически выраженного значения «определить». Вак̣ата скорее — «овременить», если бы такой неологизм был позволен. Действие «овременено» (мавк̣ӯт), если для него назначено некое «время» (вак̣т). Само слово вак̣т является масдаром (именем действия) для глагола вак̣ата, и если вак̣ата — «овременять (действие)», то вак̣т — это «овременение (действия)»1.
Это проясняет первое из упомянутых ал-Аш‘арӣ определений времени («время — это то, что разделяет действия»). Время в том смысле «разделяет» действия (ал-фарк̣ байна ал-а‘ма̄л), что оно, «овременяя» их, позволяет отделить одно от другого.
В этих толкованиях понятия вак̣т важно, что скорее действие, чем время, составляет некую первичную действительность. Время назначается для действий и распределяет действия, отделяет одно от другого, — но действия как будто предшествуют времени в том смысле, что они должны иметься, чтобы время (вак̣т) было назначено. Именно это, пожалуй, объединяет и упомянутые ал-Аш‘арӣ толкования времени, и понимание слова «время» в арабском языке, как его разъясняет Ибн Манз̣ӯр. Действия не помещаются в некое континуальное вместилище-время, как то, в общем и целом, характерно для западного понимания времени, где следствием такого понимания оказывается геометризация времени, когда время мыслится как некая линия, протянутая из прошлого в будущее и размеченная точками-событиями2. Здесь дело обстоит как будто наоборот: события, действия представляют собой первичную действительность, а время определяется на их основе.
Рассмотрим с этой точки зрения аргумент «о стоянии (вук̣ӯф) Земли» (привожу отрывок полностью).
Они разошлись в вопросе о стоянии Земли.
Одни из приверженцев единобожия (’Абӯ ал-Хузайл [ал-‘Алла̄ф] и другие) говорили, что Всевышний Бог упокоил (саккана-ха̄) ее, и упокоил мир, и поставил ее стоять ни на чем.
Иные говорили, что Всевышний сотворил под миром устремленное ввысь тело, которому от природы свойственно подниматься вверх, причем работа (‘амал) этого тела по подниманию — как работа мира по опусканию. И вот, когда это пришло к умеренности и взаимному сопротивлению, мир остановился, и остановилась Земля.
544
А иные говорили, что Всевышний Бог сотворяет в каждый момент времени под Землей некое тело, а затем, в следующий момент времени (фӣ ал-вак̣т ас̱-с̱а̄нӣ), уничтожает его и в состоянии (х̣а̄л) его гибели сотворяет другое тело. На этом теле и стоит Земля. Это тело не может упасть в состоянии своего возникновения и не нуждается в месте, за которым было бы закреплено, поскольку вещь не может двигаться или покоиться в состоянии своего возникновения.
Иные говорили, что Всевышний Бог сотворил Землю из двух тел: тяжелого и легкого в равной мере, а потому Земля установилась.
А что говорили об этом люди прежде тех, мы упомянули в нашей книге «О чем говорили безбожники», где идет речь о небесной сфере и том, как стоит Земля [Ашари 1980: 326].
Как ни интересны прочие мнения, для нас в данном случае значение имеет лишь одно — то, в котором модель неподвижного стояния Земли использует понятие «время». Согласно этой модели, Земля в каждый данный момент времени стоит на некоем теле. Казалось бы, ничего нового: старая знакомая история про Землю, которая стоит на слонах, те на черепахе… и т. д., и т. п.1 Такая идея стояния на поддерживающих друг друга опорах хороша, но проблема в том, что она предполагает последнюю опору, которая ни на что не опирается. Если эту мифологему попытаться осмыслить рационально, с точки зрения вопроса, может ли эта схема быть использована для объяснения неподвижности Земли, мы столкнемся с парадоксальным представлением об опоре, ни на что не опирающейся.
Так ли в данном случае? Возникает ли такой парадокс? Оказывается, нет. Попробуем разобраться, почему.
Время здесь — это череда моментов времени, которые дискретны и следуют один за другим. При этом с каждым моментом времени сопоставлены два события. Это, во-первых, уничтожение тела, держащего Землю и сотворенного в предыдущий момент времени, и, во-вторых, сотворение такого тела заново. Заметим, что, хотя это не оговаривается явно, тем не менее ясно, что длительность «внутри» такого момента времени отсутствует. Это подчеркивается, во-первых, вводимым здесь термином «состояние» (х̣а̄л): состояние мгновенно, оно фиксирует вещь в ее данной неизменности, а момент времени (вак̣т) оказывается соединением двух таких «состояний» — состояния уничтожения тела и состояния его сотворения заново. Это же подтверждается, во-вторых, тем, что здесь же в качестве очевидного выдвинут тезис о том, что «вещь не может двигаться или покоиться в состоянии своего возникновения». Этот тезис, кажется, несовместим с принципом исключенного третьего; к этому мы еще вернемся. Сейчас же обратим внимание на другое: отрицать принципиальную возможность движения тела «в состоянии его возникновения» можно только в том случае, если само это «состояние» не длится, поскольку
545
в противном случае отрицание принципиальной возможности движения было бы абсурдным.
Итак, мы получаем, что момент времени — это соположенность двух недлящихся «состояний», или «действий». В данном случае первое из них представлено уничтожением, второе — сотворением.
Зафиксировав это, мы увидим, почему именно такая модель вполне объясняет «стояние» Земли и как именно такое объяснение достигается. Поскольку тело, на котором стоит Земля и которое обеспечивает ее покой, возникает в каждый момент времени, а в состоянии возникновения оно ни движется, ни покоится, такое тело может служить опорой для Земли, само не нуждаясь ни в какой опоре.
Мы обнаружили два ключевых тезиса, благодаря которым достигнуто объяснение. Первое: момент времени — это два события, уничтожение и возникновение. Второе: возникшее тело не движется и не покоится в момент своего возникновения.
Оба этих тезиса нуждаются в прояснении, поскольку они не представляются очевидными. Как могут два события быть сопоставлены с одним моментом времени, притом что этот момент — не длящийся? Как мы видели выше, для арабской мысли характерно соотнесение действия и времени, их взаимное определение. Но здесь момент времени соотнесен с двумя, а не с одним действием. При этом эти два действия, уничтожение и сотворение, образуют, вне всякого сомнения, последовательность. Это подчеркнуто повторением слова с̱умма «затем», указывающим, согласно разъяснениям Ибн Манз̣ӯра, на последовательность, в которой следующие друг за другом события (действия) ясно отделены одно от другого и наступают одно за другим [Ибн Манзур, 12:81]1. Кроме того, новое тело Бог сотворяет, как это подчеркнуто в приведенной цитате, «в состоянии гибели» прежнего тела, уничтоженного предшествующим действием. Эта последовательность дополнительно подчеркнута в параллельном месте (см. ниже, с. 551, параллельное место из «Мак̣а̄ла̄т») повторением союза «затем» (с̱умма): Бог уничтожает тело под Землей, а затем, в состоянии его небытия, сотворяет новое. Последовательность, следование одного за другим ясно подчеркнуто; и тем не менее такое следование не создает временную последовательность, оно «укладывается» в один атомарный момент времени-вак̣т.
546
Это стоит особо отметить и взять на заметку, т. к. объяснение времени как «счета», т. е. как выражения следования одного за другим, встречается нередко. В нашем случае очевидный пересчет действий, совершаемых одно за другим, не создает времени как вместилища этих действий; он создает время как стяжку этих действий. Этот вопрос имеет прямое отношение к контрасту С- и П-логик с их базовыми интуициями и пониманием границы.
В мутазилизме теория атомарного времени объясняла простой с виду факт изменчивости мира. Этот вопрос также имеет отношение к нашей теме. Здесь можно выделить общее, относящееся к описанию любого изменения, и частное, связанное с особенностями теорий мутазилитов. Начнем с первого.
Если мы описываем изменение в терминах привхождения акциденции в субстанцию, то такое описание будет непарадоксальным только в том случае, если время атомарно и состоит из недлящихся моментов. Тогда привхождение новой акциденции и уничтожение старой безболезненно помещается в один из таких атомарных моментов времени. Если время континуально и в нем нет отдельных атомарных «теперь», то появление новой акциденции и уничтожение старой оказывается ускользающим событием, неухватываемость которого хорошо описывается парадоксом дихотомического деления (см. рис. 1).
Рис. 1
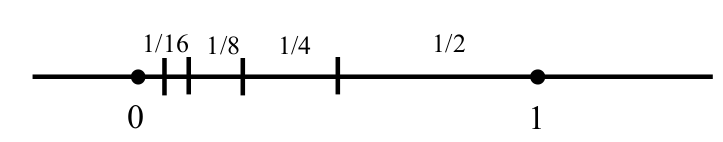
Пусть в точке «0» субстанция имеет атрибут «А», а в точке «1» — атрибут «Б». В какой точке происходит смена атрибута «А» на «Б»? Начнем делить отрезок «01» пополам, начиная с точки «1» и продвигаясь в направлении точки «0». Результатом деления будет сперва половина, потом — половина от оставшейся половины, потом — половина от оставшейся четверти и т. д. Мы получим арифметическую прогрессию (1): 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … 1/2n, где n — порядковый номер члена прогрессии. Такая прогрессия, как известно, имеет своим пределом удвоенное значение первого ее члена. Это значит, что длина нарастающего отрезка, берущего начало в точке «1», который мы покроем таким делением, будет непрерывно и бесконечно увеличиваться, приближаясь к точке «0», но никогда не достигнет ее. Мы будем сколь угодно близки к ней, но никогда не сможет ее достичь.
Точки «0» и «1» могут интерпретироваться и как точки пространства, и как точки на линии времени (моменты «теперь»). Если линия «01» — это линия времени, то мы можем спросить, когда субстанция меняет атрибут «А» на атрибут «Б». Если это пространственная линия, то мы спросим, где происходит такая смена атрибута: где Ахиллес, стоящий в точке «0» (покоящийся там), меняет свой атрибут «покой» на «движение», пускаясь вдогонку за черепахой, занимающей точку «1»? Во всех точках, покрытых прогрессией (1), включая точку «1», он уже является
547
движущимся, тогда как в точке «0» он является покоящимся. Где происходит смена покоя на движение, где начинается движение, где впервые он получает атрибут «движущийся»? И, соответственно, когда? На этот вопрос невозможно ответить в рамках той модели, которую мы построили, — модели континуального времени и пространства, в которой нет атомарных моментов времени и атомарных точек пространства, хотя есть точки пространства и есть моменты времени (но пространство и время не состоит из них). Завершая рассмотрение решений зеноновских парадоксов, предложенных в западной мысли, А. Койре замечает:
Позволим себе закончить парадоксальной на первый взгляд констатацией: движение и покой как таковые не начинаются и не завершаются — хотя они имеют начало и конец, — потому что ни в движении, ни в покое нет ни первого, ни последнего мгновения. Не существует также мгновения, непосредственно следующего за каким-либо мгновением движения или покоя, как не существует мгновения, непосредственно предшествующего ему. Но этот парадокс нас пугать не должен, ибо мы знаем, что это оборотная сторона непрерывности, законченной связности движения в себе самом [Койре 1985: 48].
Однако парадоксальность изменения касается не только описания движения, она захватывает вообще любое изменение. Как описать изменение цвета, размера, вкуса и т. д.? В любом таком описании мы неизбежно столкнемся с тем же парадоксом: если вещь в точке времени «0» имеет атрибут «А», а на всем пространстве открытого отрезка, начинающегося в точке «1» и покрытого прогрессией (1), она имеет атрибут «Б», то когда она меняет один атрибут на другой? Мы имеем точку «0» и приближающуюся к ней, бесконечно растущую, но не соединяющуюся с этой точкой область, покрытую прогрессией (1): эти две области времени останутся навсегда разделены. Это значит, что мы должны совершить скачок, чтобы из точки «0» перепрыгнуть в область, покрытую прогрессией (1): без такого скачка через временной зазор наша субстанция не сможет измениться, не сможет поменять атрибут «А» на атрибут «Б». Но совершить такой скачок невозможно, поскольку он не позволен представлением о континуальности времени: попасть из точки «0» в точку «1» можно, только пройдя все промежуточные точки. Но если так, то изменение оказывается невозможным.
Этого затруднения попросту не возникает, если мы принимаем теорию атомарного времени. Тогда в любой момент времени действователь (у мутазилитов это — Бог или человек, у ашаритов — только Бог) уничтожает все акциденции мира и возвращает их: эти два действия совершаются в один неделимый атом времени. Тогда изменение описывается как уничтожение данной акциденции «А» и возникновение вместо нее акциденции «Б». Никакой проблемы с описанием изменения мы не встречаем.
Перейдем теперь ко второму моменту, связанному с особенностями онтологии мутазилитов. Понимая субстанцию не как сущность, а как нечто «самостоятельное» (к̣а̄’им би-нафси-хи), как только носитель акциденций, они в число таковых
548
включали и онтологические состояния вещи: пребывание (бак̣а̄’), возникновение (х̣удӯс̱), гибель (фана̄’), уничтожение (и‘да̄м) и т. д. Далее, акциденцию можно приписать субстанции, но акциденцию нельзя приписать другой акциденции. Очевидно, например, что «сладость» не бывает «белой» или «рассыпчатой», но что все три акциденции должны быть приписаны носителю — сахарной субстанции, а не друг другу. Точно так же и по той же логике никакой акциденции нельзя приписать акциденцию «гибель», акциденцию «возникновение» или акциденцию «пребывание». Из этого следует ошеломляющий вывод: мир вообще не может меняться, поскольку никакое качество не может возникнуть или погибнуть, и, более того, мир не может обладать никаким качественным разнообразием, поскольку никакое качество не может «пребывать»1, если (1) время не атомарно и (2) все акциденции не производятся в каждое мгновение действователем. Если мир представляет собой некое собрание субстанциальных вещей, каждая из которых обладает набором акциденций, то в континуальном времени эти акциденции не могут ни пребывать, ни исчезать. Ведь акциденция не может иметь акциденцию «пребывание», а значит, никаких акциденций просто не может быть. Они могут только напрямую производиться действователем, причем именно в атомарные моменты времени, поскольку тогда для акциденции нет необходимости «пребывать», т. е. обладать другой акциденцией: произведенная в данный момент времени, она уничтожается в следующий, так что никакая акциденция не пребывает, т. е. не существует двух мгновений подряд. Таким образом, в каждое мгновение уничтожаются все акциденции, сотворенные в предыдующий момент времени, а затем сотворяются новые: мир пульсирует, мигает с каждым мгновением.
Для этой теории принципиально, что мгновение понимается как «объединитель» двух действий. Но как два действия (уничтожение и возникновение) «помещаются» в атомарный момент времени? Ведь очевидно, что, если бы момент времени именно что «вмещал» их, т. е. служил для них таким же вместилищем, каким для тел служит пространство, то он не мог бы быть неделимым, поскольку мы всегда можем провести линию, разграничивающую два рядоположенных тела в пространстве, и по аналогии мы можем разграничить два рядоположенных действия, тем самым разделив атомарный момент времени. Это совершенно очевидно, и очевидность эта подсказана, более того, навязана интуицией ограниченного, очерченного со всех сторон пространства, фундирующей С-логику (см. с. 166 и далее). Если теории мутазилитов, использующие понятие атомарного мгновения-вак̣т2, построены в С-логике, а значит, опираются на эту интуицию, то их нельзя
549
не признать самопротиворечивыми, построенными на очевидном нарушении исходных, интуитивно очевидных допущений. Однако есть и другая возможность интерпретации. Она предоставлена в наше распоряжение П-логикой. Если момент времени-вак̣т объединяет два события, сцепляя их и выступая в качестве их процессуальной стяжки, то никакого нарушения очевидности, никакого парадокса внутренней делимости неделимого момента времени не возникает. П-логика опирается на другую интуицию (см. с. 184 и далее), которая вовсе не связана с пространством и не предполагает пространственно-ориентированную визуализацию времени. Для П-логики атомарный момент времени-вак̣т оказывается безусловно простым и, главное, неделимым, поскольку П-логика, в отличие от С-логики, исключает делимость объединяющего две противоположности члена конфигурации противоположения-и-объединения. Род (С-логика) не только может, но и должен быть разделен на виды; однако в П-логике процессуальная стяжка не может быть разделена, поскольку такое деление разрушает и ее, и всю конфигурацию: с ее разделением распадаются и противоположности. Если момент времени-вак̣т служит такой процессуальной стяжкой двух противоположных действий — уничтожения и возникновения, то он безусловно прост и безусловно неделим, вместе с тем соединяя два «подчиненных» ему события.
Таким образом, в П-логике возможна непротиворечивая и органичная интерпретация понятия атомарного мгновения, соединяющего два рядоположенных действия. Если мы не принимаем гипотезу о том, что смыслополагание подчиняется здесь императивам П-логики, мы вынуждены выбрать в качестве платформы интерпретации С-логику. Другого попросту не дано, во всяком случае до тех пор, пока мы не выявили другие логики смысла и не сформулировали их положения (но если это случится, мы должны будем выбирать из большего числа логик, каждая из которых может быть принята за основу интерпретации). Одна из двух логик, С- логика или П-логика, неизбежно должна быть принята за нормативную для интерпретации, за ту, которая определяет очевидности и задает предельные основания рациональности. Это не значит, что требования, определяемые логикой смысла, взятой в качестве платформы интерпретации, ни в чем не будут нарушаться в интерпретируемом тексте; это значит, что нарушения будут зафиксированы в отношении именно данной логики, взятой за основу интерпретации, и вытекающих из нее требований.
Теория атомарного времени легла в основу онтологии развитого философского суфизма в варианте, предложенном Ибн ‘Арабӣ1. Приведу отрывок из «Гемм мудрости», где удачно подчеркнуты основные моменты: атомарность момента времени, лишенного длительности; стянутость этим моментом двух событий — уничтожения и возникновения; рядоположенность этих событий, подчеркнутая словом с̱умма «затем».
550
Вот это рассуждение Ибн ‘Арабӣ в контексте обсуждения известного чуда, совершенного сподвижниками царя Соломона, которые «в одно мгновение» переместили трон царицы Савской Билк̣ӣс из ее дворца во дворец Соломона:
В тот самый миг узрел воочию Соломон (мир ему!) трон царицы Билк̣ӣс пред собой в твердой уверенности, дабы не представлялось ему, будто он постиг трон, а тот стоит на [прежнем] месте своем, не переместившись. Да и не было, по-нашему говоря, в то единое мгновение перемещения, а было низведение его (трона. — А. С.) в несуществование и возвращение ему существования, так что почувствовать это мог только тот, кого ознакомил с сим Бог; о том речение Божье «нет, они в недоумении о новом творении»1, и не бывает для них такого времени, в которое не видели бы они того, что предстает им видимым2. И если это так, как мы изложили, то момент низведения его (я имею в виду трон) в несуществование с его места был тем самым моментом, когда предстал он пред Соломоном в своем существовании — вследствие возобновления Творения с каждым Дыханием. До такой степени об этом не знает никто, да ведь человек и не чувствует в душе своей, что в каждом Дыхании его нет, а затем он есть. И не говори, что «затем» (с̱умма) означает «отставание во времени» (мухла), ибо сие неверно; словом «затем» арабы в определенных случаях указывают на предшествование высшей ступени (рутба ‘алиййа)3. Как сказал поэт:
Заколебалось… затем закачалось4.
Здесь момент колебания и есть, несомненно, момент качания колеблющегося: есть «затем», а отставания во времени нет5. Так же и возобновление Творения
551
с каждым Дыханием: момент несуществования тот же, что момент существования подобия, как при возобновлении акциденций у ашаритов [Ибн Араби 1980: 155—156].
Мы можем отметить теперь замечательный контраст этих построений с положением перипатетизма о времени. Когда Ибн Сӣна̄ говорит, что время — «это то, благодаря чему бывает такое “до”, вместе с которым не бывает “после”», он вводит аристотелевское понимание границы как разделяющей и исключающей совпадение, что и фиксируется запретом «совместности» двух рядоположенных действий. Но для позиции мутазилитов и Ибн ‘Арабӣ именно и характерно утверждение о том, что два рядоположенных действия «совместны», но при этом следуют один за другим и образуют вместе один момент времени.
Лучшая и непротиворечивая, осмысленная интерпретация этого возможна, как было сказано, в П-логике. Если настаивать, что данное положение должно интерпретироваться в С-логике, мы неизбежно столкнемся с вопросом о том, почему все мыслители, придерживающиеся концепции следующих друг за другом без отставания, т. е. неразделимых, событий, придерживаются столь «странной» концепции неразделимой последовательности.
Во второй части сочинения ал-Аш‘арӣ1 встречаем изложение того же вопроса о «стоянии» Земли:
Высказывание о том, что Земля стоит ни на чем.
Люди разошлись в этом вопросе. В основном придерживающиеся единобожия говорили, что Бог может поставить Землю ни на чем и что Он поставил ее ни на чем. Так говорил ’Абӯ ал-Хуз̱айл [ал-‘Алла̄ф] и прочие.
Другие говорили, что Творец не описывается способностью поставить Землю ни на чем и двигать ее ни в чем. Нет, Он в каждый момент времени сотворяет под ней некое тело, которое затем после его существования уничтожает, затем, вместе
552
с его несуществованием1, сотворяет другое тело, на которое ставит Землю, и так далее бесконечно. Дело в том, что, как они считают, если тело существует [два момента времени]2, оно обязательно должно быть движущимся или покоящимся, а движущееся может двигаться только относительно чего-то, а покоящееся — покоиться только на чем-то [Ашари 1980: 571].
Этот отрывок почти полностью повторяет то, что мы уже читали выше. Здесь, однако, указано, как именно сополагаются состояния несуществования и сотворения (отметим еще раз устойчивость именно этого порядка). Второе оказывается «вместе» (ма‘а) с первым. Это «вместе» и фиксирует соположение двух действий, благодаря которому возникает «время» как атомарный неделимый момент—стяжка этих двух действий.
Диалог
Мы проделали бóльшую часть работы, необходимой, чтобы дать возможность двум традициям поговорить друг с другом по интересующему нас вопросу о движении. Нам остается, собственно, посмотреть, получится ли такой разговор.
Помимо того текста, с которого мы начали, стоит привлечь к рассмотрению и другие отрывки, в которых излагаются взгляды мутазилитов на движение.
Мутакаллимы3 разошлись в вопросе о том, каков смысл движения и покоя и где вместилище этого в теле: в первом ли месте или во втором.
Одни говорили, что движение — это возникновение (кавн). Все движения — это устремления4, и одни из них — перемещение (интик̣а̄л), другие — иное. Так
553
говорил ан-Наз̣з̣а̄м. Он считал, что если тело движется из одного места в другое, то движение возникает в первом: это те его устремления, которые делают необходимым его возникновение (кавн) во втором, а его возникновение (кавн) во втором — это движение тела во втором [месте].
Мух̣аммад б. Шабӣб утверждал [наличие] движения и покоя и заявлял, что они оба — возникновения (аква̄н) и что возникновения бывают движениями, а бывают покоем. Если человек передвинулся во второе [место], то его устремление (и‘тима̄д) — в первом месте, и оно сделало необходимым его возникновение во втором месте, перемещение и прекращение (зава̄л) [в первом месте], если тело оказалось во втором [месте]. Ведь языковеды называют тело прекратившим [находиться в первом месте], переместившимся, передвинувшимся1 из первого [места] только в том случае, если оно перешло во второе место2. Итак, смысл [движения] возник в нем, когда оно находилось в первом месте, а имя «прекращение» оно (движение. — А. С.) получило в состоянии его возникновения во втором месте ввиду расширительности языка, — а мы ведь говорим на языке так, как на нем говорят люди. Возникновение во втором месте может быть движением, а может быть покоем. Если это движение, то оно делает необходимым возникновение в третьем месте, а [если это покой, то]3 оно является покоем во втором [месте].
…Бишр б. ал-Му‘тамир говорил, что движение возникает не в первом месте и не во втором, однако благодаря ему тело передвигается из первого во второе место [Ашари 1980: 353—355].
Независимо от различия точек зрения мутазилитов на то, что такое движение и что такое покой, можно отметить одну общую черту: «движение» (равно как
554
и «покой») определяется только в соположенности двух моментов времени и, соответственно, состояния тела в двух местах. Это понимание выражено уже в той формулировке вопроса, которой ал-Аш‘арӣ обозначает проблему определения движения, спрашивая, «в первом ли месте или во втором» месте возникает движение и покой. «Состояние» тела, рассмотренное в один момент времени, не может быть отнесено ни к «движению», ни к «покою», точнее, оно может оказаться как тем, так и другим.
Примем в качестве платформы интерпретации С-логику. Мы должны теперь соизмерить высказывания мутазилитов с требованиями, которые выдвигаются в качестве предельных, необосновываемых оснований рациональности, заданных допущениями С-логики. Среди таковых будет и соблюдение закона исключенного третьего в обоих его формулировках, в т. ч. в императивной1. Очевидно, что перечисленные мнения мутазилитов, а тем более мнение ал-‘Алла̄фа, процитированное в начале, не удовлетворяют этой формулировке. Эти позиции требуют двух моментов времени для того, чтобы предицировать телу движение или покой, тогда как для одного момента времени такая предикация оказывается невозможной.
Нам придется предложить какие-то объяснения этому «странному» факту. Среди наиболее очевидных и напрашивающихся будет такая гипотеза: мутазилиты демонстрируют нам стадию наивного мышления, с невысоким теоретическим уровнем. Свидетельством этого служит признаваемый самим Мух̣аммад б. Шабӣбом факт зависимости их построений от обыденного языка, когда значения слов, устанавливаемые лексикографами, выступают в качестве критериев правильности теоретических построений. Кроме того, установить движение на основе сравнения положения тела в два момента времени — довольно очевидная операция наивного мышления: нечто движется, если меняет свое положение, а установить это мы можем, сравнив два «последовательные» положения тела; если они совпадают, тело покоится, если нет — оно движется.
Этот вывод о наивности, зависимости от обыденного языка и нетеоретичности мышления мутазилитов непременно должен быть сделан, если мы хотим объяснить характер их высказываний, оставаясь в пределах допущений С-логики, принятой в качестве платформы интерпретации. Тогда такого рода гипотезы ad hoc оказываются неизбежными, и нередко объяснения подобных феноменов в востоковедных исследованиях сводятся к выдвижению таких гипотез,
555
откровенному или завуалированному1. Востоковеды обычно приступают к «работе с материалом» впрямую, не отдавая себе отчета в том, какую логико-смысловую платформу интерпретации они выбирают по умолчанию, и думая, будто работают «непосредственно» с материалом. Но работать с материалом напрямую нельзя; всегда есть посредник в виде той логики, которая задает норму смыслополагания, определяет крайние, предельные (принимаемые сами собой, без обоснования) основания рациональности. И если мы не отдаем себе отчета в том, какая именно логика принята за основу интерпретации, мы рискуем не понять, что имеем дело не с материалом «как таковым», а с тем его образом, который получен в системе допущений данной логики смысла, принятой за платформу интерпретации. Выводы никогда не бывают обоснованы напрямую материалом, и только им; они всегда обоснованы образом изучаемого материала, созданным с системе допущений базовой логики интерпретации.
Примем теперь в качестве платформы интерпретации П-логику. Мы окажемся тогда в рамках системы требований, определяемых базовыми допущениями этой логики. Изменится весь ландшафт; но главное в данном случае то, что второй закон П-логики (аналог закона противоречия, заданного С-логикой) получит формулировку, которая требуется в данном логико-смысловом пространстве (см. об этом выше, с. 198). П-логика требует непременного наличия противоположности и сцепленности с ней; а третий ее закон (аналог закона исключенного третьего в С-логике) гласит, что единство взаимно-полагающих (согласно второму закону) противоположностей возможно только как их сцепленность, как их связанность. Тогда мы совершенно иначе расценим привязанность процитированных мутазилитов к двум моментам времени и двум положениям тела в пространстве при рассмотрении движения и покоя. Это окажется не отражением наивного понимания движения и покоя; это станет соблюдением необходимого, нормативного в рамках П-логики требования. (С другой стороны, можно сказать и так: П-логика создает условия для такой рационализации наивных представлений о движении и покое, которая дает возможность избежать парадоксов, возникающих при рационализации движения на основе С-логики и вскрытых зеноновскими апориями.) Мы должны иметь две противоположные, взаимно-обусловленные стороны для того, чтобы могло возникнуть их единство. Два положения тела в пространстве и выступают в роли таких сцепленных противоположностей, тогда как движение и покой оказываются сцепливающими их смыслами, обеспечивающими их единство.
Требования, накладываемые П-логикой, очевидным образом не совпадают с теми, что принимает в качестве безусловной посылки полагания смысла
556
«движение» Зенон. Для него такие требования заданы допущениями С-логики. Здесь всякое тело либо движется, либо покоится в любой момент времени, в том числе и атомарный. Именно потому, что это безусловно верно, Аристотель (и последующая традиция) запрещает атомарность времени, точнее, запрещает возникновение времени в результате суммирования атомарных «теперь». Но для мутазилитов и последующей арабской традиции в лице суфизма тело не движется и не покоится в один атом времени. И даже не так. Состояние тела в один момент времени оказывается тем же самым и для «покоя», и для «движения». Но для интерпретации в П-логике «движение» и «покой» — это всегда сцепленность двух состояний тела, а вовсе не характеристика тела, определяющая любое одно его состояние (его состояние в одиночный момент времени). А для интерпретации процитированных текстов с точки зрения С-логики рассмотрение двух положений тела при определении покоя и движения — лишь следствие привязанности к наивным представлениям и недостаточности теоретического уровня.
П-интерпретация дает более последовательное, нежели С-интерпретация, и не требующее гипотез ad hoc разъяснение взглядов мутазилитов. Однако в любом случае, независимо от платформы интерпретации, взгляды мутазилитов таковы, что апория Зенона не может быть сформулирована в их системе отправных представлений о том, как должен выстраиваться смысл «движение» или смысл «покой». И дело не в том, что она не может быть сформулирована как апория; она не может быть сформулирована даже и как уже разрешенное затруднение (как это делает Аристотель) в силу того, что участвующие в ее построении понятия не могут быть сконструированы в системе представлений, разделяемых мутазилитами. Если мы интерпретируем их представления в системе допущений C-логики, мы должны признать, что мутазилиты еще не поднялись до осознания тех проблем, которые вскрыты Зеноном: оставаясь в пределах наивно-языковых представлений о движении и покое, они не достигли теоретического осмысления этой проблематики, а значит, их взгляды невозможно сопоставлять с зеноновскими1. Мы в таком случае помещаем античность и мутазилитов на одной линии, поскольку ставим обсуждение и тех и других на платформу одной и той же С-логики. Это задает линейную преспективу, и мы сравниваем мутазилитов и античных мыслителей непосредственно, исходя из одних и тех же допущений. Если же интерпретировать их представления в системе допущений П-логики, то невозможность сформулировать апорию Зенона приобретает позитивный, а не негативный смысл. Тогда мы
557
открываем возможность другого, альтернативного осмысления движения и покоя, не менее логичного, нежели предложенное Зеноном и его оппонентами; тогда построения мутазилитов приобретают собственный смысл, а не превращаются в недостаточно такие-то... (недостаточно теоретические, недостаточно продуманные и т. п.1).
Отметим сугубо логический характер ситуации, которую мы рассматриваем. Невозможность применить закон исключенного третьего в его императивной формулировке к рассмотренным построениям мутазилитов в данном случае не следует смешивать с той ситуацией, которая описывается первым законом ньютоновской физики. Этот закон предполагает, что субъект не имеет возможности отличить свой покой от равномерного прямолинейного движения с помощью какого-либо физического критерия. И дело даже не в том, что здесь речь идет только об одном виде движения. Дело в том, что и в данном случае возможность логически отличать покой от движения безусловно сохраняется, не претерпевая ущерба от невозможности их физического различения. Ведь первый закон Ньютона не запрещает описывать любое прямолинейное равномерное движение, неотличимое для самого движущегося предмета от его покоя, как покой относительно некоторой точки отсчета и движение относительно другой точки отсчета, так что требование исключенного третьего вполне выполняется и в данном случае. Первый закон Ньютона скорее сообщает нам, что установить абсолютную точку отсчета, необходимую для соблюдения однозначности терминологии, невозможно физическими средствами; из этого, однако, вовсе не следует, что это невозможно и логически.
Итак, в случае построения теорий мутакаллимов положение об исключенном третьем в его императивной формулировке не является тем императивом, который безусловно диктует свою власть и заставляет формулировать содержательный тезис о неатомарности времен. Для Аристотеля и его последователей тезис о неатомарности времени подчинен тому представлению о безусловно-рациональном, которое разделяется всеми. Для мутазилитов, напротив, движение только и возможно в соположении двух моментов времени, и именно от этого они никак не могут отказаться. Соположение двух моментов, двух «состояний» тела оказывается не содержательной теорией, которая выстраивается на каком-то основании и может обсуждаться, но, напротив, самим основанием, на котором строится понятие «движение». Именно это положение о соположенности двух «моментов» (двух «состояний») занимает в мысли рассмотренных мутазилитских муслителей то место, какое в размышлении Зенона и его оппонентов занимает тезис об исключенном третьем. И это естественно, поскольку в П-логике требование непременной сцепленности
558
двух противоположностей третьим, объединяющим их смыслом занимает то же место, что закон исключенного третьего в системе допущений С-логики1. Даже когда мутазилиты говорят, что «тело либо движется, либо покоится», оказывается, что они вовсе не имеют в виду — «в любой момент времени»; между тем это добавление принципиально для Зенона и его оппонентов. Здесь телу в любой момент времени может быть предицировано либо движение, либо его противоположность, и если тело существует, одно из этих двух утверждений непременно окажется истинным. Именно в силу непреложности такой процедуры выстраивания содержания понятий Аристотель считает паралогизмом предположение о том, что время складывается из недлящихся «теперь».
Почему же для Зенона и его оппонентов столь принципиальным оказывается положение о том, что всякое тело движется либо покоится в любой момент времени?2 Более того, не будет преувеличением сказать, что и для последующей мысли указание на «любой момент времени» в многочисленных вариантах формулировок и переформулировок апорий Зенона остается непременным. Для античности характерно указание на «каждый момент времени» через формулировку «когда занимает равное себе пространство»: именно в «момент времени» тело занимает равное себе пространство. Эта связь хорошо видна в такой, например, переформулировке зеноновской «Стрелы»:
*ФИЛОПОН. Комм. к «Физике», 816, 30 (к 239 b 5): Все, говорит он, что находится в равном самому себе пространстве, либо покоится, либо движется, однако двигаться в равном самому себе пространстве невозможно; следовательно, оно покоится. Стало быть, летящая стрела, находясь в каждый из моментов [«теперь»] времени, в течение которого она движется, в равном себе пространстве, будет покоиться. Но раз она покоится во все моменты [«теперь»] времени, число которых
559
бесконечно, то она будет покоиться и в течение всего времени. Однако, согласно исходной посылке, она движется. Следовательно, движущаяся стрела будет покоиться [Фрагменты 1989: 310].
Для современных формулировок этой апории характерно прямое указание на «любой момент времени»; нет необходимости приводить здесь тексты, доказывающие это, поскольку они вполне доступны каждому1.
Можно было бы сказать, что указание на «любой» момент времени предполагает, что рассматривается именно «один и тот же» момент времени и тем самым лишь выполняется требование Аристотеля рассматривать одну и ту же вещь в одном и том же отношении. Но дело, кажется, не только в этом. Чтобы понять это, зададим следующий вопрос. Можем ли мы предположить, что тело не движется ни в один из двух моментов времени, рассматриваемых отдельно, но движется в два момента времени, рассматриваемые совокупно? Иными словами, можем ли мы, исходя из фундаментальных тезисов, которых придерживается Зенон и его оппоненты, воспроизвести ту теорию движения, которую выдвинул ал-‘Алла̄ф и которая прослеживается у других мутазилитов?
Этот вопрос имеет для нас значение еще и по следующей причине. Могут возразить, что дело не в контрасте оснований рациональности, а лишь в том, что понимание движения различно, и если для античных мыслителей тело движется либо покоится в любой момент времени, то для мутазилитов — в любые два момента времени. Различие учений здесь налицо, так же как налицо-де сохранение принципа исключенного третьего в обоих случаях.
Это возражение было бы верным и дело действительно сводилось бы к содержательной разнице учений, которые различались бы лишь концептуально, будучи построены на одной и той же логике, если бы «два момента времени» для мутазилитов представляли собой неразложимое единство, так что нельзя было бы даже задавать вопрос о том, что происходит с телом в один момент времени и каким образом возникают два момента времени; если бы, иначе говоря, «любые два» момента времени играли бы для ал-‘Алла̄фа и других мутазилитов ровно ту же роль, что «любой» момент времени, о котором говорит Зенон и другие античные мыслители. Но это не так. Мы не можем ограничиться рассмотрением в одном случае двух моментов времени совокупно, а в другом — каждого момента времени отдельно; мы должны
560
сравнивать положения, сформулированные для отдельного момента времени в каждом случае. А поскольку для ал-‘Алла̄фа тело, зафиксированное в пространстве и занимающее, как выражается Зенон и его оппоненты, «равное себе пространство» в любой из двух моментов времени, не движется и не покоится ни в один из них, рассматриваемый отдельно, однако движется либо покоится в оба момента времени, то я и спрашиваю, может ли именно такая позиция быть сформулирована на основе принятых античностью оснований рациональности или она окажется с этой точки зрения невозможной. Тем самым вопрос о возможности переформулировки тезисов о движении, принятых в двух традициях, ставится как взаимный. Ведь недостаточно было бы показать невозможность формулировки тезисов античности в системе допущений, характерных для мутазилитов, не показав и обратного.
Итак, случайно ли упоминание о «любом моменте времени» в формулировках зеноновских апорий, которых придерживается западная традиция на протяжении практически всего периода своего развития, или оно вытекает из каких-то фундаментальных особенностей принятых в этой традиции процедур смыслопостроения?
На этот вопрос можно ответить следующим образом. Представление о времени как о последовательности, в которой есть «до» и «после», причем «до» и «после» не совпадают, разделены, предполагает понимание момента «теперь» как недлящегося, поскольку иначе «до» и «после» совместились бы. Такой момент «теперь», одиночный момент времени, индивидуализирует тело — субъект предикатов «движение» или «покой». Говорить о движении или покое для тела в один момент времени — это требование того же порядка, что брать одну монету из отделения для золотых или не-золотых монет в шкатулке скупца. Было бы абсурдным утверждать, что только для двух вытащенных монет можно установить их золотистость или отрицать ее, будто бы мы должны непременно вытащить на свет две монеты из любого отделения шкатулки, дабы убедиться, что каждая из них — золотая либо не-золотая; напротив, это по необходимости верно для любой единичной моменты. Логика предикации остается той же самой в данном случае и опирается на те же базовые очевидности: в пределах С-логики абсурдно утверждать, что движение или покой могут быть установлены только для двух моментов времени и не могут быть установлены для одного1.
Интересно дополнить рассмотрение логики формирования понятий «момент времени», «движение» и «покой» рассмотрением понятий, связанных с категорией пространства.
561
Среди мнений, высказанных мутазилитами, было и такое: одиночный атом не является пространственно-определенным. Отдельная неделимая частица не обладает пространственными характеристиками; пространство возникает в соположенности атомов, лишенных пространственных характеристик. Конкретные разработки этого тезиса были различными; одни считали, что отдельная неделимая частица лишена пространственных характеристик полностью, другие наделяли ее одним измерением. Соответственно различались модели той минимальной конфигурации частиц, которая может существовать (поскольку отдельная частица, лишенная всех или части пространственных характеристик, существовать как таковая не может). Вот одно из подобных мнений, весьма характерное:
Он (ан-Наз̣з̣а̄м. — А. С.) передает, что другие говорили, что частица имеется, но существует не благодаря самой себе, и что она существует посредством не менее чем восьми атомов. Тот, кто спрашивает об одной из таких частиц, спрашивает о ее отдельном [существовании], тогда как отдельно ее не бывает. Однако она познается. Речь здесь идет о восьми, ибо восемь обладают длиной, шириной и высотой. Длина [образована] двумя частицами; длина к длине (т̣ӯл ила̄ т̣ӯл) дают плоскую протяженность1, имеющую длину и ширину, а плоская протяженность к плоской протяженности дают сторону, имеющую длину, ширину и высоту [Ашари 1980: 316—317]2.
Заметим, что в понимании возникновения пространства выдерживается та же модель образования смысла в соположенности двух единиц, ни одна из которых не обладает этим смыслом. Это бессмысленно с точки зрения С-логики, которая требует предицировать родовое понятие всем видам и индивидам, подпадающим под род. Однако это не только осмысленно, но и необходимо в системе допущений П-логики, где единство двух сцепленных противоположностей внеположно им и не содержит их «внутри» себя так, как участок пространства содержит «в себе» свои подучастки.
Заметим также, что образование «плоскости» (басӣт̣ ) как соположение двух «длин» мыслится в данном случае не по модели, аналогичной декартовым координатам, где две одномерные оси пересекаются под прямым углом (или углом, определяемым как прямой), но как соположение непересекающихся параллельных линий, лежащих «рядом» друг с другом. Точно так же «плоскость к плоскости» означает не пересечение двух плоскостей под прямым углом, образующее третье измерение, а накладывание одной плоскости на другую как параллельную. В обоих случаях новое измерение образуется в соположенности двух элементов, не обладающих этим измерением, причем соположенность эта такова, что не предполагает, вообще говоря, возникновения нового измерения из сложения сополагаемых
562
элементов, как сложение понимается в арифметике. В декартовой модели две одномерные оси могут пересекаться под любым углом, образуя плоскость, но только не быть параллельны; само расположение одномерных осей как пересекающихся уже предполагает третье измерение, так что, вообще говоря, мы не можем сказать, что плоскость возникает благодаря пересечению двух одномерных осей. В случае декартовой модели мы имеем ту же самую невозможность получить нечто из ничто, с которой мы имели дело и в случае сложения недлящихся «теперь», так что плоскость должна уже иметься, чтобы мы могли говорить о рядоположенности параллельных прямых, каждая из которых не обладает третьим измерением и сложение которых не дает плоскость.
Мы рассмотрели только одно мнение, касающееся возникновения пространства в соположении внепространственных частиц. Было бы несправедливым, однако, лишить читателя возможности убедиться, насколько характерным было такое мнение. Приведу поэтому обширный отрывок из уже цитировавшегося произведения ал-Аш‘арӣ, который посвящен изложению взглядов мутакаллимов на вопрос о том, что такое тело. В целом можно выделить два принципиальных подхода к определению этого понятия. Одни определяют тело через понятия субстанции и акциденции, другие — через пространственные характеристики. Именно последний подход нас и интересует; хотя и первая позиция не лежит вовсе в стороне от обсуждаемого нами вопроса, поскольку понятие «субстанция» трактовалось мутазилитами, как правило (в отличие от «аристотелианцев» и «христиан»), как «неделимая частица». Определение тела через пространственные характеристики, которое дают ранние исламские мыслители, интереснейшим образом параллельно (именно в прямом смысле этого слова: параллельно то, что не пересекается, то есть не имеет общих точек, хотя и расположено сколь угодно «близко») классическому перипатетическому. При этом интересно, что они дают его, вовсе не будучи в неведении о позиции аристотелианцев. Более того, в теоретическом дискурсе раннего ислама с его поразительным разбросом мнений фактически воспроизводилось и это перипатетическое определение: тело — это то, что обладает тремя измерениями и частицы чего могут делиться до бесконечности (ан-Наз̣з̣а̄м), причем было известно, что «философы» (то есть фала̄сифа, арабские перипатетики) приводили примерно такое же определение. Тот, кто имеет представление об обычной амплитуде мнений мутазилитов по какому-либо вопросу, не будет удивлен тем, что и такая возможность определить тело была воспроизведена ими. Однако несравненно более значимым для ранних мутакаллимов оказывается стремление определить тело через процедуру, обеспечивающую возникновение пространственных характеристик в той или иной конфигурированности внепространственных частиц. Читатель имеет возможность ознакомиться полностью с изложением их мнений по этому вопросу и сам решить, какая стратегия смыслопостроения оказалась для них предпочтительной.
В вопросе о том, что такое тело, мутакаллимы держались двенадцати мнений.
Одни говорили: тело — это то, что способно принять акциденции: движение, покой и тому подобное. Любое тело способно принять акциденции, и все,
563
что способно принимать акциденции, — тело. Они утверждали, что неделимая частица — это тело, способное принимать акциденции. Таков же смысл «субстанции» — она способна принимать акциденции. Так говорил ’Абӯ ал-Х̣усайн ас̣-С̣а̄лих̣ӣ. Державшиеся этого мнения утверждали, что частица принимает все роды акциденций, однако составление не называется [составлением], пока не будет другого составления. Но и одно составление допустимо в частице, хотя мы, сообразуясь с принятым в языке, не называем его составлением. Они говорили, что языковеды считают, что не может быть «соприкосновения» с ничто, поскольку соприкосновение называется этим именем, когда имеется соединение данного с чем-то другим. А если бы не это, то даже если вместе с данным нет ничего другого, Всевышний мог бы сотворить его (составление. — А. С.) в данной вещи, когда оно бы имелось в ней, но не имелось в другом. Они приводили в пример человека, двигающего челюстями: если у него во рту что-нибудь есть, мы скажем, что он жует, а если во рту ничего нет, пережевыванием это не называют.
Некоторые говорили, что тело является таковым только благодаря составленности и соединенности. Они считали, что если одна неделимая частица соединится с другой, то каждая из них будет телом в состоянии соединенности, поскольку каждая составлена с другой. Разделившись, они обе перестанут быть телом. Так говорили некоторые багдадцы, кажется, ‘Ӣса̄ ас̣-С̣ӯфӣ.
Некоторые говорили, что смысл «тела» — что оно составное, и наименьшее тело — из двух частиц. Они считали, что из двух соединившихся частиц ни одна не является телом, но тело — обе они вместе и что составление не может быть в одной [частице]. Одна [частица] может принимать цвет, вкус, запах и все [прочие] акциденции, за исключением составления. Так говорил как будто бы ал-Иска̄фӣ.
Они считали ошибкой мнение о том, что к двум таким частицам может присоединиться третья, поскольку каждая из двух уже занята другой, а когда она занята, места для иной не остается. Ведь если две частицы будут иметь одно и то же место, окажется, что вещь соприкасается с бóльшим, чем она сама1, а если допустить это, то весь мир уместится в ладони. Поэтому они говорили, что вещь не соприкасается с бóльшим, чем она сама. Так говорил ’Абӯ Бишр С̣а̄лих̣ б. ’Абӣ С̣а̄лих̣ и его последователи.
’Абӯ ал-Хуз̱айл [ал-‘Алла̄ф] говорил, что телом является то, что имеет право, лево, перед, зад, верх и низ. Наименьшее тело — шесть частиц, из которых одна — право, другая — лево, одна — перед, другая — зад, одна — верх, другая — низ. Он говорил, что одна неделимая частица [соприкасается]2 с шестью себе подобными, движется, покоится и соединяется с другими. Он допускал в ней возникновение (кавн)3
564
и соприкасание, но считал, что она не может принять цвет, вкус, запах и вообще никакие акциденции, кроме упомянутых, пока не соединятся названные шесть частиц; если они соединятся, то это уже тело, и оно уже может принять все нами сказанное.
Некоторые мутакаллимы говорили, что в обе неделимые частицы сразу внедряется составление и что одно составление может быть в двух местах. Так говорил ал-Джубба̄’ӣ.
Му‘аммар говорил, что тело — это [нечто] длинное, широкое, высокое и что наименьшее тело [состоит из] восьми частиц. Если частицы соединяются, необходимо [возникают] акциденции, поскольку частицы необходимо вызывают их по своей природе. Каждая частица вызывает в себе внедряющиеся в нее акциденции. Он считал, что когда одна частица примыкает к другой, возникает длина, что ширина имеется оттого, что к оным двум примыкают еще две, а высота возникает от накладывания четырех частиц на четыре частицы. Таким образом, восемь частиц являются телом, имеющим длину, ширину и высоту.
Хиша̄м б. ‘Амр ал-Фуват̣ийй говорил, что тело — это тридцать шесть неделимых частиц. Дело в том, что он считал тело [состоящим из] шести столпов (рукн), а каждый столп считал шестью частицами. То, что ’Абӯ ал-Хуз̱айл [ал-‘Алла̄ф] называл «частица», то Хиша̄м считал «столпом». Он говорил, что частицы не могут соприкасаться, а соприкасаются столпы и что столпы эти, из коих каждый [состоит из] шести частиц, таковы, что эти шесть частиц не соприкасаются друг с другом и не отделяются [одна от другой]1, но это допустимо только для столпов. А сам столп может принимать все акциденции — цвет, вкус, запах, жесткость, мягкость, холод и тому подобное.
Некоторые говорили: языковеды называют телом то, что имеет длину, ширину и глубину, и не ограничивают число его частиц, хотя бы число это и было определенным.
Хиша̄м б. ал-Х̣акам говорил, что смысл «тела» — «существующее». Он говорил: говоря «тело», я подразумеваю, что оно существующее, что оно вещь и что оно само-стоятельное.
Ан-Наз̣з̣а̄м говорил, что тело — это [нечто] длинное, широкое, высокое и что число частиц его не является определенным, ибо у каждой половины есть половина и у каждой частицы — часть. Философы, определяя тело, говорили: широкое высокое.
‘Абба̄д б. Сулайма̄н говорил, что тело — это субстанция и неотъемлемые от нее акциденции, а те акциденции, которые могут быть отняты, не являются телом, будучи иным, нежели тело. Оно говорил: тело — это место, и доказывал, что Всевышний не является телом, говоря, что если бы Он был телом, Он был бы местом; он также доказывал это, говоря, что если бы Он был телом, у Него была бы половина.
Д̣ира̄р б. ‘Амр говорил, что тело — это акциденции, составившиеся и соединившиеся, ставшие и утвердившиеся, сделавшиеся телом, способным принимать внедряющиеся в него акциденции и изменяться. Это те акциденции, которые сами или их противоположности всегда наличествуют в телах, например жизнь
565
и смерть, из коих что-то одно всегда имеется в теле, цвета и вкусы, из которых что-то одно в каждом роде неотъемлемо от тела, вес: тяжесть или легкость, также жесткость, мягкость, жар, холод, влажность, сухость, также твердость. А что (само или его противоположность) отделимо от тела, то не является его частью, например могущество, боль, знание, невежество [Ашари 1980: 301—306].
Мы уже отметили, что стратегия выстраивания смысла «пространство», которой придерживаются мутазилиты, существенно отлична от той, которую перипатетическая школа перенимает от аристотелевской традиции. Это видно и из сравнения мнения «философов» и вторящего им ан-Наз̣з̣а̄ма с мнениями других мутакаллимов в вышеприведенном тексте. Позже Ибн Сӣна̄ отчетливо зафиксирует этот контраст, воспроизводя в «Указаниях и наставлениях» аристотелевское учение о пространстве и времени, о различии актуальной и потенциальной делимости тел и т. д. [Ибн Сина 1968: 166—167 и далее]1. Характерно его замечание о том, что прямая не возникает благодаря «движению точки»; напротив, чтобы точка могла двигаться, прямая уже должна иметься. Каждое «меньшее» измерение определяется как граница «большего» и его предел: плоскость — как предел трехмерного тела, линия — как предел плоскости, точка — предел линии. Плоскость не может быть получена из «сложения» параллельных положений движущейся линии, как сама линия не может быть получена из сложения последовательных положений движущейся точки [Там же: 241—248]. Воспроизводя логику аргументации античности, опирающуюся на представление о том, что из сложения ничто не возникнет нечто (так что сложение точек, имеющих нулевое измерение, не даст нам одномерную линию), Ибн Сӣна̄ (а вместе с ним и античная традиция, положения которой он воспроизводит) оказывается в положении, именно параллельном, но никак не противоположном, атомистическим теориям мутазилитов. Ведь и для них одномерный пространственный объект не возникает из «сложения» безразмерных атомарных точек, равно как плоскость возникает не из «сложения» одномерных линий. Во всяком случае, не из такого сложения, которое мы называем арфиметическим и которое опять-таки основано, как шкатулка скупца, на образе пространственного вместилища: так единицы помещаются одна рядом с другой, образуя все вместе число, так куски хлеба, нарезанные для бутербродов, составят все вместе исходный батон. У мутазилитов не так: одномерность возникает как соположенность того, что не существует отдельно, вне этой соположенности; одномерность не является сложением самостоятельных безразмерных объектов. Это же касается и возникновения прочих измерений: плоскость возникает не из арифметического («хлебного») сложения линий, как и объем — не из сложения плоскостей. Скорее это можно уподобить тому, как две капли сливаются в одну: они не прикладываются
566
одна к другой и не сохраняются в образовавшейся большой капле как исходные капельки, — и хотя, конечно, эта аналогия не до конца верна, она все же дает некоторое представление о сути дела.
В рассуждениях мутазилитов весьма примечательны два обстоятельства: во- первых, реально существует только трехмерная конфигурация частиц (неважно, насчитывает ли она шесть, восемь или даже тридцать шесть атомов), тогда как отдельный безмерный, одномерный, двумерный объект не существует, а для некоторых (Хиша̄м ал-Фуват̣ийй) даже и немыслим; во-вторых, речь ведется о возникновении измерения в конфигурировании двух, но не трех или многих, частиц. Это заставляет предположить, что конфигурирование безразмерных частиц, порождающее измерения, характеризуется определенными закономерностями. В таком конфигурировании участвуют две, и именно две частицы; конфигурирование таково, что не захватывает одновременно, скажем, три, четыре или пять частиц. Заметим, что, когда трехмерное пространство возникает в конфигурации восьми безразмерных частиц, конфигурирование состоит из трех шагов, в каждом из которых участвует именно пара элементов, так что каждое измерение возникает как соположенность двух элементарных частиц либо того, что играет в отношении данного измерения их роль (для «плоскости» — две «линии», для трехмерного пространства — две «плоскости», причем каждая из «линий» — это опять-таки сконфигурированность двух неделимых частиц, а каждая из «плоскостей» — сконфигурированность двух «линий»). Уже хотя бы поэтому такое конфигурирование не является сложением: для операции сложения число слагаемых безразлично и не меняет сути самой операции. Определенным подтверждением этого служит и то мнение, с которым мы уже встречались и которое гласит, что одна частица может соединяться только с одной, но не с двумя или большим числом частиц. Воспроизведем этот отрывок:
Они считали ошибкой мнение о том, что к двум таким частицам может присоединиться третья, поскольку каждая из двух уже занята другой, а когда она занята, места для иной не остается. Ведь если две частицы будут иметь одно и то же место, окажется, что вещь соприкасается с бóльшим, чем она сама, а если допустить это, то весь мир уместится в ладони. Поэтому они говорили, что вещь не соприкасается с бóльшим, чем она сама. Так говорил ’Абӯ Бишр С̣а̄лих̣ б. ’Абӣ С̣а̄лих̣ и его последователи [Ашари 1980: 302].
Интересно, что это мнение возможно только в том случае, если считать, что соединение частицы с другой исчерпывает ее пространственную валентность1. Частица уже «занята», «задействована» (мушг̣ал) другой, которая «задействовала» ее (ашг̣ала-ху), и присоединение третьей возможно только в том случае, если третья
567
окажется «там же», где вторая. Именно такое присоединение третьей частицы к двум оказывается здесь абсурдным «сложением нулей», каковое сложение, конечно же, и дает ноль, так что весь «мир умещается в ладони».
Но это означает, в свою очередь, что конфигурирование двух безразмерных частиц, которое дает пространственную протяженность, не является арифметическим сложением. Сложение субстанциальных единиц дает в сумме ровно то, что было в исходном состоянии: получившееся число равно сумме единиц, и если исходными были нули, сумма не будет отличаться от нуля. Однако суммирование противоположностей в пределах допущений П-логики даст совсем другой эффект: возникновение нового в сравнении с исходными смысла, который связан с объединением противоположностей и выступает как их «сцепка». Такой сцепкой для двух безразмерных атомов становится первое изменение пространства («линия»); для двух «линий» — «плоскость», т. е. то, что сцепляет и скрепляет воедино две «линии»; а для двух «плоскостей» аналогичным образом — трехмерное «тело». Но подобное суммирование в П-логике, приводящее к образованию нового, возможно, только если исходные противоположности сконфигурированы в соответствии с требованиями этой логики, как процессуальные противоположности.
Заключение
Подведем итог. Мы исследовали логику понятий «время», «пространство», «движение», «покой», представленных в рассуждениях ранних арабских мыслителей, сравнивая их построения с теми, что принадлежат представителям античности. Я исходил из того, что построения античных мыслителей выполнены в соответствии с допущениями С-логики, в том пространстве осмысленности, которое задано ее требованиями. Это не значит, что любое рассуждение согласуется с тремя Аристотелевыми законами или с другими положениями, которые играют здесь роль предельных оснований рациональности (например, принцип достаточного основания в его трактовке в соответствиями с принципами С-логики, такими как необходимость субстанциального посредника при передаче любого воздействия). Это значит, что любое рассуждение проверяется критиками на соответствие этим предельным основаниям рациональности. Апория «Стрела» представляет в этом плане особый интерес, поскольку ее формулировка не нарушает оснований рациональности, что заставляет Аристотеля вводить содержательно выраженные постулаты (время не слагается из атомарных «теперь»), чтобы избежать парадоксальных выводов Зенона.
Эта апория не может быть сформулирована, если мы рассуждаем в пределах допущений, принятых ранними исламскими мыслителями, тезисы которых мы разбирали (теория атомарного времени, теория движения и покоя как «стяжки» двух моментов времени, возникновение пространства большей размерности в результате особого конфигурирования пар элементов меньшей размерности). Тексты мутазилитов, как и любые тексты на естественном языке, могут быть прочитаны и поняты
568
(осмыслены) на основе двух базовых логик: С-логики и П-логики. Это относится, безусловно, и к текстам античных мыслителей: хотя мы исходили из того, что они выстроены на основе С-логики, их также можно было бы прочитать на основе П-логики (это стало бы интересным упражнением). Но дело в том, что С-логика принимается «по умолчанию» европейским исследователем, и именно она составляет обычно (осознаваемый или неосознаваемый) «фон» интерпретации. Поэтому мне было важно показать, как выглядят тексты мутазилитов при их прочтении на основе этой логики: мы увидели, что неизбежным следствием С-интерпретации становится принятие гипотезы о наивности, нетеоретичности их построений, что попросту выводит эти тексты из круга научно-интересных для осмысления проблематики движения, пространства и времени, а также любого изменения (после этого они могут представлять разве что исторический интерес). Если в качестве основы интерпретации принимается П-логика, эти же тексты становятся последовательными и осмысленными: они предлагают логически правильную концепцию атомарного времени и пространства, обосновывая движение, равно как и любое изменение, логикой процесса и рассматривая его как процессуальную стяжку двух противоположных сторон. Если предельные основания рациональности заданы для рассмотренных нами исламских мыслителей допущениями П-логики, они, безусловно, отличаются от тех, что играют аналогичную роль для античных теоретиков, располагаясь целиком в иначе заданном мыслительном пространстве.
Что сообщают о действительности эти две несовместимые, альтернативные концептуализации пространства, времени, движения и изменения, выполненные на основе С- и П-логик? Они выстраивают для нас миры-вещей: мир вещей-субстанций и мир вещей-процессов. Действительность, скорее всего, не представлена ни тем ни другим; действительность, я думаю, стоит мыслить как событие. «Тело движется» — это событие; в языке оно выражено глаголом. Но «тело есть движущееся» — это образ события, созданный в субстанциально-ориентированном пространстве С-логики. Ал-Джисм мутах̣аррик вводит для нас процессуальный образ событий, созданный на основе допущений П-логики. Это — два образа, предполагающие каждый свое устройство предикации, свои законы логики и свои основания рациональности. Но событие, которое они отражают, — одно и то же, одинаковое для обоих. Мир-событий отличается от миров-вещей своей текучестью; событие «тело движется» невозможно схватить и зафиксировать, оно всегда ускользает и всегда уже не там, где мы хотим его утвердить. Миры-вещей, субстанциальных и процессуальных, дают возможность такого схватывания; но схватываем мы именно вещи, а не события, образы действительности, а не саму действительность. Вместе с тем технология выстраивания этих вещных образов события просчитываема, а значит, и событие по крайней мере приглашает нас к тому, чтобы открыть его.
 |
8.1.4 Светоносный мир: логико-смысловой анализ оснований философии ас-Сухравардӣ* |

|
569
Шиха̄б ад-Дӣн Йах̣йа̄ ас-Сухравардӣ (1152/3—1191), известный как «Шейх озарения» (шайх̱ ал-ишра̄к̣), положил начало направлению арабо-мусульманской философии, известному как ишракизм, или философия озарения. Его «Мудрость озарения» (Х̣икмат ал-ишра̄к̣) стала основополагающим сочинением ишракизма.
Ас-Сухравардӣ предпринимает грандиозную попытку выстроить новую философию. Эта философия должна быть названа новой потому, что разрабатывает интуицию мира как светоносного, а не как субстанциального или процессуального (что характерно соответственного для греческого и арабского взглядов на мир).
Не всякая попытка бывает удачной. Величие мысли ас-Сухравардӣ не в том, что его усилие увенчалось успехом (нам предстоит убедиться, что это не так); ее величие в том, что такое усилие вообще было предпринято.
Моя задача здесь заключается в том, чтобы набросать основные моменты движения Шейха озарения по этому пути.
Начнем с прояснения ведущей интуиции. Сразу скажу, что едва ли можно сомневаться, что взгляд на универсум как светоносный связан с древнеиранским культурным наследием. Это довольно очевидно; но дело не в констатации исторической связи, дело в том, чтобы разобраться по существу, в чем суть этой интуиции и какие следствия из нее вытекают.
Суть основополагающей интуиции мира как светоносного заключается в том, что вещь понимается как осветленность, как высветленность. Хотя ас-Сухравардӣ нередко употребляет категории «существование» (вуджӯд) и «сущее» (мавджӯд), нам не следует считать их свидетельством того, что он видит мир как бытийствующий. Частое (в самом деле очень частое) использование этих категорий говорит лишь об «инерции пера», о том, что в ход пускаются устоявшиеся обороты, пришедшие из лексикона фальсафы (вспомним, сколько текстов в духе этой школы сочинил Шиха̄б ад-Дӣн). В первой части «Мудрости озарения» ас-Сухравардӣ ясно выражает отношение к категории «существование» как бессмысленной, т. е. такой, смысл которой не присутствует в самих вещах. Вещь, говорит он, это «самость» (з̱а̄т), т. е. сама вещь, и прибавлять к ней категорию «существование» — значит допускать нелепость (подробную аргументацию, которую нет возможности повторять здесь,
570
см. в {56}—{60}): категория «существование» может использоваться как понятие ума, но она ничего не сообщает о мире.
Поэтому светоносность нельзя осмысливать как некое качество вещи, прибавляемое к ней самой как к существующей, т. е. как к некоторой субстанции. Это не так: по мысли ас-Сухравардӣ, везде, где мы встречаем нечто, мы имеем дело с самой светоносностью, с самой просветленностью.
Понятия «светоносность», «просветленность», «высветленность» в силу своей внутренней логики предполагают, что речь идет не о чистом свете, не о свете как таковом. Они подсказывают как минимум две идеи: во-первых, чего-то противоположного свету или, во всяком случае, светом не являющегося, и во-вторых, идею победы света и его преобладания над своей противоположностью. Эти две идеи не являются неверными или излишними, и приведенные русские переводы арабских терминов нӯриййа, истина̄ра, анвариййа1, употребляемых ас-Сухравардӣ, подсказывают, где завязывается главный проблемный узел выстраиваемой ишракистской философии.
Яростная критика Шейха озарения в адрес перипатетиков (машша̄’ӯн) и последовательное отвержение всех субстанциальных форм (как и в целом общих понятий) вызваны, на мой взгляд, не теми или иными теоретическими соображениями, а вывод об их отсутствии не является у Шиха̄б ад-Дӣна результатом некоего рассуждения, тщательного продумывания и взвешивания аргументов. Дело в другом: ас- Сухравардӣ в данном случае не принимает саму платформу, на которой строятся эти (и вообще такого рода) положения. Отвержение не становится у него опровержением, поскольку последнее как раз предполагает такую общую платформу. Не стоит удивляться поэтому, что соображения, высказанные Шейхом озарения против защитников субстанциальных форм, по меньшей мере слабы, если рассматривать их с точки зрения самих этих защитников (т. е. если принять их платформу).
Отвергая субстанциальные формы, ас-Сухравардӣ хочет гораздо большего, чем просто поспорить с перипатетиками: он стремится заложить иной фундамент взгляда на вещь, нежели тот, на котором стоит пришедшая от «древних» (к̣удама̄’) традиция. И пусть нас не обманывают высказанные в самом начале «Мудрости озарения» уверения Шиха̄б ад-Дӣна, будто развиваемые им взгляды ничем не отличаются от тех, что всегда бытовали у столпов философии, а до них — у пророков вплоть до Заратуштры. Заглубление в древнеиранскую традицию нужно принять всерьез, поскольку именно там следует искать корни развиваемой ас-Сухравардӣ интуиции вещи, но утверждение в духе philosophia perennis вряд ли вызовет больше чем улыбку.
Иное понимание вещи — вот, я думаю, отправная точка для Шейха озарения. Возражая перипатетикам, он спорит с пятнадцативековой традицией, тогда как сам
571
стремится заложить новую — такую, у которой только в будущем могла бы появиться какая-то теоретическая разработанность. Вот почему Шиха̄б ад-Дӣн так настойчиво апеллирует к интуиции (х̣адс), неоднократно указывая, что именно на ней основываются главные положения философии озарения. Эту отсылку к интуиции следует отличать от многочисленных свидетельств мистико-визионерского плана, которые встречаются в «Мудрости озарения». Безусловно, ас-Сухравардӣ обладал даром мистических прозрений, но если бы его главная книга была лишь их фиксацией, ее философская ценность стремилась бы к нулю. Апелляция к интуиции вещи как светоносной — это фундаментальной важности попытка увидеть мир иначе, чем его видели греки и арабы.
Мы пока говорим об интуиции; но интуиция, коль скоро речь идет о философском тексте, должна получить категориальное выражение. К этому сейчас и перейдем. Мы увидим, насколько тернистым для Шейха озарения окажется этот путь; насколько трудным для него станет категориальное оформление интуиции светоносной вещи.
«Светоносная вещь» — сложное понятие, в котором мы можем различить по меньшей мере три смысла: свет, свойство его нести и вещность. Начнем с первого. Рассмотрим понятие «свет» само по себе, а затем проследим, удастся ли ас- Сухравардӣ слить его с другими двумя; насколько удачной, иначе говоря, окажется попытка построить понятие «светоносная вещь».
Что же такое «свет» (нӯр, тж. д̣ав’)?
Свет — это явленность (з̣ухӯр), или явленное (з̣а̄хир)1. Если мы спросим: «Явленность чего?», наш вопрос пройдет мимо цели. Он будет задан неверно, поскольку такая формулировка предполагает — в качестве своего основания — представление о субстанциальной вещи, т. е. именно то, которое отвергнуто ас-Сухравардӣ. Нет, свет — не явленность-чего-то; свет — это явленность как таковая.
«Явленность как таковая» еще не слишком далеко уводит нас от чистой интуиции; и не случайно ас-Сухравардӣ говорит в {107}, что свет не нуждается ни в каких определениях. Эта интуиция, впрочем, близка любому, во всяком случае, любому, кто обладает зрением. Ведь свет как чистая явленность и есть тот самый свет, который все мы схватываем, открывая глаза днем.
Было бы ошибкой сказать, что мы видим свет, если бы при этом мы подразумевали, что видим что-то еще наряду со светом. Думая так, мы опять превращаем свет в субстанциальную вещь, представленную силе зрения наряду с другими подобными вещами. Нам следует постоянно избегать соблазна мыслить свет так, как мы привыкли мыслить субстанции. Свет — чистая явленность; свет — не некая вещь, которую мы видим наряду с другими субстанциями; скорее можно сказать, что свет — это сам факт того, что мы видим, т. е. сам факт явленности.
572
Свет, таким образом, не является объектом, он не может быть схватываем субъектом как отдельный и отделенный от него; и вместе с тем свет как явленность, несомненно, имеет отношение к тому, что мы привыкли называть познанием. Свет как открытость и явленность и есть познанность; но это не познанность объекта, который всегда в той или иной степени прячется от субъекта, будучи скрыт завесой материи или вовсе отделен непроницаемой стеной как вещь-в-себе. Свет как явленность и открытость не допускает никакой разделенности и никакого посредника; свет — это совершенное, полное познание.
Такое световое, полноявленное познание ас-Сухравардӣ вслед за Ибн Сӣной и называет х̣адс «интуиция». Интуиция исключает орудие познания, какой-либо «путь», который познающий проходит навстречу познаваемому, а также какую-либо ошибочность знания. Как в случае, когда перед Шейхом озарения стоит задача дать нам понять, что такое свет, прибегая к свидетельству интуиции, а не рациональных определений, так и сейчас, когда надо дать знать, что такое сама интуиция, интуиция как таковая, он также (вслед за Ибн Сӣной) обнаруживает счастливую возможность прибегнуть к примеру, который совершенно внятен и близок любому. Всякий интуитивно познает свое «я», свою «самость» (з̱а̄т), и никто не в силах отрицать этот факт интуитивного схватывания собственной «яйности» (ана̄’иййа).
Это всегда сопровождающий нас пример того, как «работает» интуиция. Ей может быть открыто не только «я», но и все остальное: понятие ид̣а̄фа ишра̄к̣иййа «озаренческая сопряженность», развитое в ишракизме последователями Шейха озарения, указывает на это. Озарение — это «лучистый свет», говорит ас-Сухравардӣ {149}, и если свет нашей яйности сопрягается со светом других вещей, они не могут не быть явлены нам так же, как нам явлено наше «я». Вот почему любая вещь, мир в целом и в своих частностях может быть полностью открыт интуиции. Но чтобы правильно истолковать эту мысль, мы должны по-прежнему помнить, что речь идет не о субстанциальных бытийствующих вещах, а о вещах как явленном свете.
Подведем итог сказанному. Мы сумели, прибегая только к интуиции, объяснить, что такое свет как явленность (чтобы понять это, надо лишь открыть глаза светлым днем) и что такое свет и явленность как познание (для этого надо лишь обратить внимание на явленность нашего «я» самому себе). Эти примеры убедительны, поскольку они, конечно же, общедоступны и не могут, по-видимому, быть истолкованы кем-либо не так, как другими.
Безусловной заслугой ас-Сухравардӣ оказывается тот факт, что он указывает на два универсально-значимых примера интуитивного (непосредственного) постижения1. Он дает нам понять, что интуиция — не субъективное и принципиально не передаваемое другим переживание. Наоборот, интуиция интерсубъективна.
573
Способность к интуитивному познанию — общая способность всех людей, она не менее универсальна, чем способность к разумному познанию, и дает не менее общезначимые результаты. Этим интуиция в ее авиценново-сухравардиевой трактовке принципиально отличается от того, что мы привыкли именовать мистическим прозрением, видением и тому подобными словами.
Напомню, что мы стремимся понять, каким может быть концептуальное оформление интуиции светоносной вещи, включающее смыслы света, способности нести его и вещности. Сказанное отвечает на вопрос о том, как ас-Сухравардӣ истолковывает категорию «свет». Но мы еще не говорили ни о категории «вещь», ни о том, как «свет» и «вещь» могли бы сочлениться в «светоносность».
В {108} Шейх озарения говорит о «том, что» (ма̄), употребляя категории «он(о)» (хува) и «самость» (з̱а̄т), а в {109} использует понятие «вещь» (с определенным артиклем: аш-шай’, the thing) как собирательное, обозначающее всю совокупность вещей вообще. Текст «Мудрости озарения» построен так, как если бы введение категории «вещь» не составляло никакой проблемы, как если бы автор не испытывал никаких затруднений в том, чтобы от категории «свет» сразу перейти к категории «вещь». Такая легкость призвана убедить нас, что свет может быть назван вещью, что о свете можно говорить как о составляющем самость вещи — так, как если бы это было тривиальным и чуть ли не самоочевидным.
Между тем способность говорить о вещи — едва ли не одно из главных (если не главное) завоеваний человека, на котором, возможно, зиждется и вовсе наша способность говорить. Ведь мы говорим не словами, мы говорим предложениями: слово понятно многим животным, но вряд ли предложение понятно кому-то, кроме человека. В предложении есть то, чего нет в слове: связность. Именно связность составляет стихию осмысленности, а владение связностью отличает и выделяет человека из всего окружающего мира. Но речь завязывается на основе и вокруг того, что принято называть подлежащим, т. е. на основе и вокруг вещи. Вот почему понятие «вещь» оказывается едва ли не исходным, едва ли не первоосновным в развертывании осмысленности.
Поэтому нельзя согласиться с той легкостью, с которой ас-Сухравардӣ вводит «вещь» в свой текст. Употребить этот термин в самом деле нетрудно; что действительно трудно, так это придать ему смысл.
Что такое вещь — не просто как брошенное слово, не просто как чистая номинальность; что такое вещь как основа разворачивания осмысленности, как основа смыслополагания? Что необходимо, чтобы «вещь» из чистой номинальности, из всего-лишь-имени превратилась в осмысленность, более того, задала разворачивание осмысленности?
Понятие «вещь» предполагает прежде всего, что мы отличаем данную вещь от любой другой. Субъектность (в смысле средневековой философии) неотъемлема от вещи: вещь — это то, что не является никакой другой вещью. Однако такое отличение не может быть проведено без того, чтобы мы прежде не различили вещь, иначе говоря, не наполнили ее внутренним содержанием.
574
«Вещь», таким образом, — это та песчинка, вокруг которой нарастает жемчуг осмысленности. «Вещь» — это то, с чего мы начинаем разворачивание осмысленности. Каким будет понятие вещи — так и будет развернута осмысленность.
Различение вещи и ее отличение от других вещей — это два магистральных направления выстраивания осмысленности. Все, что мы говорим, сводится к выполнению этих двух задач. (То, что не может быть к ним сведено, не может быть и высказано.) Эти две задачи, в свою очередь, обнаруживают зависимость: что не различено, не может быть и отличено. Различение вещи — база смыслополагания.
Как же можно различить вещь?
Вещь не может полагаться на беспредельном. Само по себе полагание вещи означает полагание предела: вещь — это некая локальная центрированность. Бес-предел-ность чистого света, чистой явленности, беспредельность, исключающая какой-либо предел, тем самым не позволяет задать никакую различенность, равно как никакую отличенность. Мы не можем говорить ни о раз-личенности, ни об от-личенности: и различенность, и отличенность предполагает вещность, а значит, о-предéл-ённость.
Чистый свет, о которым говорит ас-Сухравардӣ как о единственной реальности, свет, абсолютный с двух точек зрения: 1) своей простоты: он никак внутренне не различен и не может быть различен; 2) своей беспредельности: ничто внешнее не кладет предел свету, потому что ничего внешнего нет, — свет, таким образом, беспредельный в обоих аспектах, внутреннем и внешнем, чистый абсолютный свет не может быть осмыслен. Мы не можем сказать, чтó он такое: любое «чтó он такое» предполагает «чтойность», т. е. именно вещность; а полагать вещь — значит непременно полагать предел, поскольку вещность всегда — о-предéл-ённость1.
О вещи, точнее, о вещности вещи часто говорят как о чем-то само собой разумеющемся. Однако вещность вещи, появившись в нашей речи, сигнализирует, что мы имеем право говорить о вещи; а такое право должно быть как минимум заявлено, если не подтверждено.
Заявляет ли о таком праве ас-Сухравардӣ и, далее, подтверждает ли его? Отвечая на этот вопрос, мы сможем понять, было ли успешным исполнение его грандиозного замысла — построить новую философию, которая видит мир как светоносный.
Мы до сих пор говорили о свете (нӯр), понимая под этим термином свет как таковой, или свет вообще. Такая трактовка этого термина согласуется с его понятийным наполнением: мы видели, что свет не может быть дифференцирован никак, ни за счет внутренних, ни за счет внешних факторов, — попросту говоря, потому, что такие факторы начисто отсутствуют в силу абсолютной абсолютности света.
575
Но ведь вот какое дело: ас-Сухравардӣ употребляет термин нӯр не только в единственном, но и во множественном числе, говоря об анва̄р «светах»1.
Оправдывает ли Шейх озарения использование термина анва̄р «светы» во множественном числе? Ничуть! Поистине удивительна та легкость, с которой он обходит какое-либо объяснение самого факта введения этого термина. Текст ас- Сухравардӣ построен так, как если бы употребление термина анва̄р «светы» было само собой разумеющимся и не только не требовало, но и не заслуживало никакого внимания.
Однако дело в том, что, если нӯр «свет» можно трактовать так, как то соответствует интуиции света как чистой явленности, абсолютной неразличенности, то для термина анва̄р «светы» это совершенно исключено. И дело здесь даже не в том, что нӯр «свет» предполагает единство, тогда как анва̄р «светы» — множественность. И единство, и множественность вторичны в отношении вещности: мы прежде полагаем вещность того, о чем говорим, а уж потом рассуждаем о единстве или множественности. Проблема в том, что анва̄р «светы» не могут не предполагать от-личенность одного света от другого, а такая отличенность требует их вещности. Свет обязан оказаться вещью, чтобы можно было употребить термин нӯр во множественном числе.
Так мы нащупываем разрыв в ткани Сухравардиевой мысли: свет, заявленный (и разъясненный!) как интуиция, как база для понимания светоносного мира, оказывается непригодным к тому, чтобы обнаружить свою вещность и тем самым выполнить возлагаемую на него Шейхом озарения обязанность стать основой описания мира. Свет не может обнаружить свою вещность потому, что слишком абсолютен; абсолютен настолько, что никакими ухищрениями не удастся задать на нем предел: ас-Сухравардӣ заботится о том, чтобы устранить любую такую возможность, подчеркивая несхватываемость света.
Вот почему мы должны сделать вывод, который кому-то покажется неожиданным: термин анва̄р «светы» у Шейха озарения не является множественным числом термина нӯр «свет»! Точнее, не является как понятие, поскольку с точки зрения языка, безусловно, эти два слова относятся друг к другу как единственное и множественное число. Однако анва̄р «светы» нельзя считать — коль скоро речь идет не об арабском языке вообще, а о понятийном языке ас-Сухравардӣ — умножением нӯр «света», поскольку в нӯр «свете» просто нечего умножать: умножить можно только вещь, а проблема как раз в том, что нӯр «свет» до конца сопротивляется тому, чтобы предстать как о-предéл-ённая вещь.
576
Но откуда же берется вещность в анва̄р «светах», если ее нет в нӯр «свете»? Правильно: взяться она ниоткуда не может. Ас-Сухравардӣ просто молчаливо подсовывает читателю термин анва̄р как сам собой разумеющийся, заодно протаскивая вместе с ним никак не оправданную вещность. Так открывается первая и самая существенная брешь в создаваемой Шейхом озарения картине мира: анва̄р «светы» на самом деле никак не связаны с нӯр «светом», и все, что говорилось об интуиции света и ее оправдании нашим опытом, никак не приложимо к анва̄р «светам». Неприложимо потому, что все рассуждения о нӯр «свете» строились на его абсолютной абсолютности, т. е. абсолютном отрицании его вещности, тогда как анва̄р «светы» невозможны без того, что уничтожает такую абсолютность: они невозможны без полагания предела, задающего их вещность.
Между тем мир, как он представлен ас-Сухравардӣ, выстроен именно из анва̄р «светов», но никак не из нӯр «света»: можно было бы сказать, что это мир-светов, но не мир-света. И если анва̄р «светы» не обоснованы интуицией, которая стоит за термином нӯр «свет», то чем они вообще обоснованы?
Вернемся немного назад. Открывая глаза, мы схватываем свет как явленность. Это разъяснение, приблизившее свет к нашему непосредственному, интуитивному пониманию, обнаруживает вместе с тем свою двусмысленность. Дело в том, что свет, который мы постигаем как чистую явленность в нашем, физическом мире, всегда имеет какой-то источник. Даже не видя такой источник, мы знаем о его существовании; даже если солнце — за тучами, мы не сомневаемся, что светит именно солнце, и если лампа закрыта покрывалом, это не утаит от нас наличие фитиля. Иначе говоря, источник света и сам свет мы, скорее всего, будем склонны различать, и примеры солнца и лампы — тому свидетельство.
Это подспудное и вместе с тем для любого человека совершенно очевидное различение и стоит за разведением нӯр «света» и анва̄р «светов». Поскольку источник света и испускаемый им свет мы различаем неосознанно: для этого не требуются какие-то специальные теоретические изыскания, и можно было бы сказать, что для любого очевидно, что как не бывает дыма без огня, так же не бывает света без чего-то светящего, — то и представление о светах как светящих светах формируется в нашем сознании безболезненно.
Здесь, однако, надо сделать существенную оговорку. Образ светильника и испускаемого им света, заимствованный из физического мира, не просто слишком груб, чтобы описать представление о свете; он еще и принципиально сбивает с толку. Дело в том, что ас-Сухравардӣ, как я говорил в начале, исходит из интуиции светоносного мира, а не мира, состоящего из вещей-субстанций. Если истолкование света как вещи составляет для Шейха озарения принципиальное затруднение, это еще не значит, что он легко соскользнет на путь, принципиально несовместимый с его исходной интуицией, — на путь субстанциальной трактовки света. Нет, это категорически неверно, и на протяжении всего текста «Мудрости озарения» ас- Сухравардӣ всячески избегает такой трактовки и отметает такую возможность. Как будто очевидный образ светильника-и-света, который, я думаю, на подсознательном уровне стоит за представлением
577
о множественных светящих светах, на уровне теоретического осмысления блокируется Шейхом озарения, поскольку предполагает соскальзывание к субстанциальной картине мира, что принципиально неприемлемо для автора «Мудрости озарения»1.
В самом деле, обратившись к тексту книги, мы увидим, что, говоря о свете, ас- Сухравардӣ, с одной стороны, приводит пример Солнца и других светоносных тел (т. е. чего-то, что отлично от света — {109}), говорит и о шу‘а̄‘ «луче» {99—100}, и о нӯр шу‘а̄‘ийй «лучистом свете» {149}. Но, с другой стороны, терминологически Шиха̄б ад-Дӣн нигде не различает источник света и «сам» свет. Это принципиально, и «луч», собственно, является не чем иным, как фигурой, вызванной к жизни световой причиной {99}. Точно так же огонь — не что иное, как одна из фигур, а фигуры имеются только благодаря свету10, более того, огонь обладает световой самостью (см. {200}, {201}), в связи с чем ас-Сухравардӣ особенно тщательно опровергает положения перипатетиков об огне как элементе {195—198}. Это принципиально потому, что исходная интуиция света исключает любую субстанциальную его трактовку; именно поэтому ас-Сухравардӣ так борется против всего, что связано с пониманием света, огня или луча как субстанциальных. В качестве примера такой борьбы, имеющей целью отмести возможность субстанциальной трактовки света, к уже сказанному можно прибавить и его теорию зрения (согласно Шейху озарения, нет ни луча, исходящего из глаза, ни форм, отпечатывающихся в глазу, видение — это встреча (мук̣а̄бала) света вовне и света внутри человека, действующего в нем как сила зрения (см. {101—104}, {145}, {160}, {228}, — опять у нас остается, по сути дела, один только свет), а также теорию цвета {100}.
Вот почему корректной и соответствующей мысли самого ас-Сухравардӣ я считаю высказанную выше трактовку термина анва̄р «светы» именно как светящих-светов, а вовсе не как некоего светильника и испускаемого им света: в последнем случае мы имеем нечто не-световое, служащее источником света, тогда как в первом остаемся по-прежнему в поле интуиции чистого света, к которой теперь добавлена интуиция действенности. Свет оказывается светящим, и эта действенность, без всякого обоснования и даже без объявления внесенная Шейхом озарения в изначальную интуицию света как абсолютной явленности, составляет исключительное содержание категории нӯр ал-анва̄р «Свет светов».
«Свет светов» — удивительный термин, как будто закрывающий ту брешь между категориями нӯр «свет» и анва̄р «светы», о которой я говорил. Свет светов у ас-Сухравардӣ играет с парадигмальной точки зрения ту же роль, что в современной ему философии играло понятие «Первое» (ал-’аввал), «Первая Вещь» (аш-шай’ ал-
578
’аввал) и тому подобные, т. е. роль Первоначала. Свет светов является светом par excellence; но в качестве такового, т. е. именно света, он как будто вбирает в себя все светы. Если бы это действительно было так, ас-Сухравардӣ удалось бы закрыть означенную брешь. Посмотрим, так ли это.
Итак, свет — не только абсолютная явленность, свет еще — абсолютная действенность. Свет светит; но в этом как будто очевидном утверждении скрыт подвох. В самом деле, является ли действие «светить» чем-то отличным от самого света?
Оставаясь строго в рамках заявленной изначальной позиции ас-Сухравардӣ и избегая соскальзывания в субстанциальность или процессуальность1, мы должны были бы ответить отрицательно. Свет как чистая явленность и есть освещенность, свечение и освещение: эти различные языковые формы суть с этой точки зрения синонимы. Но если так, то Свет светов останется просто — Светом; он, иначе говоря, останется абсолютной явленностью, исключающей что-либо иное; он будет, строго говоря, не Первоначалом, а просто — Всем.
Вот почему Шейх озарения дает на поставленный вопрос положительный ответ. Свет светов светит; и свет, истекающий от Света светов, является чем-то иным, нежели сам Свет светов.
Повторю, что это — минимальная «порция» вещности, вносимая ас-Сухравардӣ как будто незаметно, невзначай. Вещность введена здесь не по праву, она лишь заявлена, но никак не обоснована (ее обоснованием служило бы, как уже говорилось, задание предела). Платой за это становится бессмысленность так достигнутого результата, бессмысленность в прямом значении этого слова: невозможность наполнить смыслом, выстроить осмысленность. Ведь мы должны от-личить Свет светов от истекающего от него света; но как мы можем выполнить эту операцию отличения, если прежде не смогли раз-личить свет, тот чистый свет, который и является Светом светов? Без такого различения мы не можем осмысленно заявлять вслед за ас-Сухравардӣ, что истекающий от Света светов свет — нечто иное, нежели он сам.
Вот почему этот тезис остается у Шейха озарения чистой номинальностью, чистой словесной формулой, которая не может быть осмыслена. Нӯр ал-анва̄р «Свет светов» лишь номинально закрывает брешь между нӯр «светом» и анва̄р «светами», на самом же деле термин анва̄р «светы» присоединен здесь к «Свету» не по праву, без осмысленного обоснования.
В самом деле, каждый может провести несложный мысленный эксперимент. Представим себе комнату, заполненную светом, и запретим привносить в эту картину какое-либо представление о светильнике. Сможем ли мы сказать, что светит сам этот свет, заполняющий комнату? Сможем ли мы отделить светящий-
579
свет от истекающего-света, или освещенного-света?1 Конечно же, нет. Это невозможно, если — исходя из интуиций С-логики — не представлять свет в виде «пучка света», в виде некоторой световой «тростинки» и тому подобное. Но все такого рода представления будут вносить в нашу световую картину субстанциально понятую вещность, поскольку и «пучок», и «тростинка» — вещи-субстанции, заданные в своих пределах и этими пределами определенные. Основываясь на П- логике, мы могли бы говорить о «свечении» как некоем протекании света, однако фиксация такого протекания потребовала бы от нас указать на две его стороны: на светящий-свет и освещаемый-свет. Мы и здесь должны были бы задать предел, сделав это в соответствии с требованиями П-логики и обеспечив проекание процесса «свечение» как зафиксированного между двумя сторонами — инициирующей и приемлющей. В любом случае мы должны были бы задать предел, сделав это в соответствии с требованиями С- или П-логики. Однако задание предела — именно та операция, которую невозможно провести в отношении света, как это понятие введено Шейхом озарения.
Свет, истекающий от Света светов, ас-Сухравардӣ называет Первым, Приближенным светом (см. {136—137}, {142}). Как только мы получили два света и расположили их в линейной последовательности (воз)действия, дальнейшее смыслодвижение не представляет особой трудности. Свет светов светит, и это его свечение и есть Первый, Приближенный свет. Приближенный свет, поскольку он свет, тоже светит; но, будучи вторым после Света светов, он также и освещаем. Свет светов — только светящий, а Приближенный свет, будучи светящим, является вместе с тем и освещаемым: эта освещенность именуется термином ишра̄к̣ «озарение». «Озарение» — это «встреча» светящего-света и освещенного-света.
Первый, Приближенный свет, таким образом, имеет два аспекта, которые не будет ошибкой назвать активным и пассивным (см. {142}). Он и светит, и освещается. Его свечение порождает следующий свет, который также и светит, и освещается (т. е. озарен). Этот, третий в ряду свет будет освещен уже двумя предшествующими ему светами. И так далее: чем дальше мы продвигаемся по цепочке, тем большим количеством вышестоящих светов освещен (или, что в данном случае то же самое, озарен) каждый следующий свет.
Быть освещенным — пассивный аспект. Используя термин фальсафы (восходящий в конечном счете к кораническому языку), ас-Сухравардӣ называет его аспектом «нужды» (ифтик̣а̄р). Нам не следует, однако, поддаваться соблазну вчитывать в этот термин традиционные значения. Его следует видеть так, как его видит сам ас-Сухравардӣ. Противопоставляя активный и пассивный аспекты света, т. е. его свойство светить и свойство быть освещенным, он вводит минимальную степень различенности.
580
Это — второй шаг смыслополагания, который Шейх озарения делает после введения вещности светов как их отличенности друг от друга. Как и от-личенность, раз-личенность лишь заявлена, вставлена в текст, так сказать, явочным порядком; она не введена по праву. Даже будучи различен как активный и пассивный, свет остается светом, ничуть при этом не меняясь. Эта минимальная степень различенности, которую ас-Сухравардӣ всегда готов взять назад, отозвать с дарованного ей места (поскольку всегда спешит подчеркнуть, что подлинную реальность составляет лишь свет, лишенный в себе какой-либо различенности), позволяет ему развить свою понятийную систему.
Аспект освещенности вышестоящим светом, т. е. аспект нужды, представляет собой нечто негативное, противоположное свету как абсолютной позитивности (явленности, действенности). Эта негативность выражается как «тень» (з̣илл): свет, озаренный вышестоящим светом, «подчиняющим» (к̣ахр) его себе, отбрасывает тень (см. {142}, {156} и др.).
«Тень», отброшенная озаренным светом, если взять ее как чистое понятие, — это «тьма» (з̣улма). Тьма не представляет собой ничего позитивного; она, иначе говоря, не представляет собой нечто. Тьма — это просто слабость света, это тот факт, что более сильный свет озаряет более слабый. На помощь Шейху озарения приходит неоплатоническое толкование тьмы как отсутствия. Мы, иначе говоря, по-прежнему не имеем ничего реального наряду со светом; у нас по-прежнему имеется только свет, поскольку чистое отсутствие, тьма, не представляет собой никакого «нечто», как то не устает повторять Шейх озарения.
Свет и тьма, таким образом, лишь по видимости образуют противоположение. На деле же никакого противоположения нет, поскольку нет того, что объединяло бы их: противоположение может быть задано только в пределах чего-то общего, т. е. только в том случае, если задан предел, схватывающий противополагаемое. Но свет в силу своей абсолютности как раз не допускает задания предела, поэтому противоположение «свет-тьма» оказывается мнимым: тьма все время ускользает от нашего схватывания, и Шейх озарения неоднократно это подтверждает.
Пожалуй, наиболее ярким доказательством служит понятие барзах̱ «преграда». Введенное как аналог для традиционного «тела» и определяемое так же, как тело определяется в фальсафе (наличие трех измерений), преграда, хотя и может задерживать свет и даже вовсе заглушать его (т. е. как будто противо-действовать абсолютно действенному свету), тем не менее сама по себе оказывается небытийной — попросту ничем {111}. Преграда происходит от аспекта нужды озаренных светов, говорит ас-Сухравардӣ; но как сам этот аспект небытиен, так же небытийна и производимая им преграда. Шейх озарения остается верен себе и удерживает выстраиваемую им картину мира в пределах исходной интуиции света как чистой явленности.
Минимальная различенность, внесенная в понятие «свет», позволяет вместе с тем как будто обосновать отличение одних светов от других: таким критерием
581
оказывается «интенсивность» (шидда) света1. Градация интенсивности светов — это лестница (внешне очень напоминающая неплатонические ранги бытия) их вертикального соподчинения: чем ниже, тем многочисленнее «аспекты озарения» (джиха̄т ал-ишра̄к̣) ({173}; см. тж. {151}), как говорит ас-Сухравардӣ, и тем больше «слабость» (д̣у‘ф) светов. Эта слабость по мере движения вниз возрастает настолько, что светы перестают быть чистыми, т. е. светами-для-себя (самостоятельными светами), и оказываются светами-для-другого (акцидентальными светами). Что понятие акцидентальности, прикладываемое к свету, заимствовано из арсенала фальсафы, слишком очевидно, чтобы об этом говорить; что не столь очевидно, так это то, что данное понятие в пределах Сухравардиевой мысли является пустым и внутренне несостоятельным. Ведь если субстанция, т. е. тело, небытийна, то акцидентальный свет по сути невозможно отличить от света самостоятельного: такое отличение в конечном счете разрешается в ничто, поскольку всякое различие в свете небытийно, а уж тем более небытийно все, что мыслится как противоположность свету.
Подведем итог. Стремясь выстроить целостную, универсальную картину мира, понятого как светоносность, ас-Сухравардӣ остается верен исходной интуиции света как чистой явленности. Разворачивание осмысленности требует проведения двух операций — различения и отличения, которые касаются вещи как основания такого разворачивания. Задать вещь — значит задать предел и тем самым — о-предéл-ённость, благодаря которой и станет возможным как раз-личение, так и от-личение. Чистый свет исключает такое определивание; используя понятие действенности (свет светит), ас-Сухравардӣ стремится обойти это требование и вводит понятие «светы», различая свет по критерию интенсивности и тем самым отличая одни светы от других. Следствием становится введение понятий «тень» и «преграда», и на этой основе — описание мира. Эти сложные построения, однако, не дают подлинную осмысленность: введенная не по праву, различенность света при ближайшем рассмотрении всегда готова свернуться, оставив нас с абсолютной абсолютностью света, соответствующей исходному его пониманию.
582
 |
8.1.5 Бог-и-мир и Истина истин: логико-смысловой анализ оснований концепции Ибн ‘Арабӣ* |

|
Несколько лет назад я начал готовить второе издание перевода «Гемм мудрости» Ибн ‘Арабӣ. Мой первый перевод, опубликованный в 1993 г., нуждался в уточнении, а главное — в создании комментария. Работа шла, но через некоторое время я понял, что, если буду продолжать в том же духе, мой комментарий по объему сравнится с классическими комментариями к «Геммам». Много раз было сказано, что одну фразу Ибн ‘Арабӣ можно разбирать с учениками целый год; но одно дело знать это теоретически, и совсем другое — почувствовать, как компактный текст разворачивается во все новые построения, открывая упакованные в него смыслы. Порой кажется, что возможности прочтения исчерпаны, — но возвращаешься к тексту и находишь новые.
Безусловно, без указания на все эти возможные прочтения текст «Гемм» остается закрытым, как будто запечатанным от русского читателя. Одна из характеристик хорошо устроенной речи звучит по-арабски бала̄г̣а. Этот термин обычно переводят как «красноречие» или «риторика». Принимая во внимание этимологию арабского термина, его скорее следовало бы передать словом «доходчивость». Классическая арабская филология определяет слово (калима) как «высказанность, указывающую на смысл» (лафз̣ да̄лл ‘ала̄ ма‘нан). Речь (кала̄м) также указывает на смысл (хотя смысл фразы или отрывка текста чаще обозначается словом фа̄’ида). Указывать на смысл — конституирующая характеристика любой речи. «Доходчивой» же является речь, которая не просто указывает на свой смысл, а передает его с особой силой, подчеркнуто, как будто впечатывая этот смысл в сознание слушателя. За счет чего достигается этот эффект?
Отношение между высказанностью и смыслом (на уровне ли слова, фразы или текста) — это отношение между з̣а̄хир «явным» и ба̄т̣ин «скрытым», когда первое ведет ко второму, «указывает» (дала̄ла) на него. Эта связь высказанности и смысла и называется словом (или фразой), и ее наличие обеспечивает «понимание» (фахм), когда в нашем сознании возникает смысл, как только мы слышим высказанность. Эта связь раз навсегда установлена, задана (вад̣‘) — как считало большинство, «Установителем языка» (ва̄д̣и‘ ал-луг̣а) — и одинакова для всех носителей данного языка.
583
Доходчивая речь отличается от обычной тем, что путь от явного к скрытому (от высказанности к смыслу) в ней более сложен. Над общей для всех носителей языка з̣а̄хир-ба̄т̣ин-связью надстраиваются другие переходы к скрытому. Приемы выстраивания таких з̣а̄хир-ба̄т̣ин-конструкций и изучает — для прозаической речи риторика (‘илм ал-бала̄г̣а «наука о доходчивости», ‘илм ал-ма‘а̄нӣ «наука о смыслах»), а для поэтической — поэтика (‘илм аш-ши‘р); это развитые и сложные дисциплины классической филологии. Для нас важно, что приемы з̣а̄хир-ба̄т̣ин-перехода, т. е. наращивания сложности смысловых конструкций, стоящих за явленной стороной речи и превышающих обычные, общие для всех носителей языка закономерности понимания, были подробно исследованы и классифицированы. Они были известны как автору, так и подготовленному слушателю или читателю. Смысл, который тот извлекал в результате применения этих приемов к звучащей или записанной речи, оказывал на него тем большее воздействие, чем более замысловат и нетривиален был путь, ведущий к такому смыслу. Именно на этом основан как эффект «доходчивости» хорошо устроенной прозаической речи, так и ощущение красоты поэзии. Автор заслуживал тем большей похвалы, чем большее число таких з̣а̄хир-ба̄т̣ин-слоев он мог упаковать в свой текст, т. е. чем большее число переходов к смыслу его текст позволял и чем более правильными были такие переходы.
Ибн ‘Арабӣ, без сомнения, был мастером построения текста по этим канонам. Важно подчеркнуть, что достигаемая таким образом многосмысленность текста не является ни украшательством, ни неким приемом эзотерики. Пустое украшательство расценивалось в арабо-мусульманской филологии как «деланость» (такаллуф) речи, что служило отрицательной характеристикой: подлинная красота и доходчивость отличаются от украшательства необходимостью з̣а̄хир-ба̄т̣ин-переходов, т. е. обязательной, закономерной передачей смысла. Эта закономерность известна и автору и слушателю, она не составляет «тайны посвященных», поэтому такой текст будет ошибкой расценивать как эзотерический, т. е. как закрытый от кого-то.
Вот почему раскрыть все слои смысла в тексте Ибн ‘Арабӣ и значит объяснить русскому читателю этот текст, распечатать его для восприятия. Ведь те з̣а̄хир-ба̄т̣ин-переходы, которые очевидны для подготовленного арабского читателя, попросту не могут быть прочитаны русским. Во-первых, потому, что нельзя сохранить возможность всех этих переходов при изменении языка. А во-вторых, даже если бы такая невероятная задача оказалась осуществимой, к восприятию текста по этим законам в принципе не готово сознание русского читателя, воспитанное на других приемах вычитывания смысла из текста. Русский читатель не готов к тому, чтобы без раздумий, «по умолчанию» применить при прочтении и осмыслении текста те ходы, которые подсказываются П-логикой и на втором законе которой (см. с. 198) построена вся механика з̣а̄хир-ба̄т̣ин-переходов.
Я предполагаю выявить внутреннюю логику построений Ибн ‘Арабӣ, которую нельзя не учитывать при любой попытке прочтения его текстов. Начать придется с самых общих, а значит, и самых фундаментальных вещей.
584
Принципиальная новация Ибн ‘Арабӣ заключается в рассмотрении Бога и мира (ал-х̣ак̣к̣ «Истинного» и ал-х̱алк̣ «Творения») как находящихся в отношении з̣а̄хир-ба̄т̣ин-противоположения1. Это означает кардинальную перестройку взгляда как на уровне философской парадигмы, так и, естественно, на уровне развернутого философского учения. Именно это оказывается принципиально непривычным для средневекового сознания, поскольку означает переделку взгляда на мир в направлении формирования философской парадигмы нововременного типа. В этом — непреходящее историческое значение взглядов Ибн ‘Арабӣ.
Сам Величайший шейх, я думаю, прекрасно понимал революционность предложенного им взгляда. Это ясно проявляется, к примеру, в его многочисленных рассуждениях о единичности и двойственности. Термин ’ах̣адиййа «единичность» связан с именем Бога ’ах̣ад «Один», «Единственный», которое служит одним из самых сильных указаний на абсолютную трансцендентность Бога (вспомним Коран 112:1 «Скажи: “Он — Бог — един”» — акцентированное выражение центрального доктринального принципа тавх̣ӣд «обеспечение единственности»). В текстах Ибн ‘Арабӣ этот термин — один из частотных; он связан с понятием «нечетность» (витр, фард, фардиййа — см. начало главы 11 и главу 27 «Гемм») и дополняющим его понятием «чет», «пара», «парность» (шаф‘). Рассуждения о «нечетности» и «парности» у Ибн ‘Арабӣ практически всегда связаны с вопросом о соотношении Бога и мира. Логику этих рассуждений схематично можно представить так: Бог, безусловно, единствен (’ах̣ад), но мир всегда составляет пару, «сопровождая» его единственность и нечетность. Ибн ‘Арабӣ никак не отрицает единственность Бога, он лишь говорит, что мир может существовать только как составляющий для этой единственности пару. Эта пара выстроена по модели з̣а̄хир-ба̄т̣ин. Вот одно из рассуждений, очень ясно подчеркивающих эту мысль:
Знай: разум познает, что Бог обладает самостной единичностью (’ах̣адиййа з̱а̄тиййа). Между нею и тем, чего требуют возможные (мумкина̄т), нет никакой соотнесенности (нисба). Мы об этом говорили. Обладатель разума (‘а̄к̣ил) это знает, и для разума невозможно уразуметь существование мира из этой единичности. А благодаря пятничной молитве он должен вернуться к рассмотрению того существования, которого требует возможное от Обладателя сей единичности, и рассмотреть Его как бога (’ила̄х), требующего обожествляемого (ма’лӯх). Это — другое знание, и оно правильно только благодаря совокупности
585
(джама̄‘а). А это — составление и упорядочивание указаний (адилла). Поэтому пятничная молитва обязательна для разума, который служит атрибутом разумеющего (‘а̄к̣ил).
Женщина ущербна [в сравнении с мужчиной] по разуму и по религии1, и разумение (‘ак̣л), коего ей не хватает, — это разумение сей самостной единичности. Посему пятница (джум‘а, т. е. пятничная соборная молитва. — А. С.) обязательна [именно] для мужчины. Это — собирание (джам‘) знания о той единичности и о том, что Он — бог (’ила̄х). Поскольку разум женщины недостаточен для познания сей единичности, она не обязана соединять (джам‘) ее (единичность. — А. С.) с познанием Бога (’алла̄х) как бога (’ила̄х) [Ибн Араби 1998, 1: 485].
Ибн ‘Арабӣ совершенно ясно говорит о том, что божественная самость как «единичная» (’ах̣адиййа) не может иметь никакой связи с миром. Эта мысль выражена в первых трех фразах отрывка (здесь «то, чего требуют возможные» — это существование (вуджӯд), или появление мира; такая интерпретация подтверждается многочисленными параллелями и в «Геммах мудрости», и в «Мекканских откровениях»). Но главное даже не это, а то, как решается проблема невозможности связать ранг ’ах̣адиййа с несомненным существованием мира. Для этого, говорит Ибн ‘Арабӣ, надо рассмотреть Бога иначе, а именно — как «бога (’ила̄х), требующего обожествляемого (ма’лӯх)».
Под «обожествляемым» Ибн ‘Арабӣ понимает мир, в этом не может быть сомнения. В предыдущей фразе он говорит о том, что «возможные вещи» (мумкина̄т), т. е. вещи мира, требуют от Бога существования: получается, что их связь с Богом может быть понята, только если мы считаем их «обожествляемыми». Под обожествляемостью Ибн ‘Арабӣ вовсе не подразумевает (как это вытекало бы из прямого значения арабского слова и его русского перевода) поклонение миру как богу. Ма’лӯх является страдательным причастием и передает смысл подверженности божественному воздействию: «обожествляемым» мир является в том смысле, что в нем воплощены все божественные имена. О Боге и мире как паре ’ила̄х-ма’лӯх «бог-обожествляемое» Ибн ‘Арабӣ подробно говорит в начале 5 главы «Гемм» (см. [Ибн Араби 1980: 81]), указывая на «двусторонность» (’амра̄н) активного и пассивного, уничтожающую единичность [Там же: 91]. Наконец, он рассуждает о «божественном духовном удвоении (тас̱нийа)» [Там же: 147].
586
Остановимся подробнее на последнем термине. Как нельзя более показательно, что ‘Афӣфӣ игнорирует свидетельство всех трех рукописей, которые легли в основу его критического издания «Гемм» и в которых без разночтений стоит это слово, в пользу предложенного ал-К̣айс̣арӣ исправления (танби’а «возвещение» вместо тас̱нийа «удвоение»): «удвоение» никак не может быть согласовано с той неоплатонической трактовкой Ибн ‘Арабӣ, которую предлагает уже ал-К̣айс̣арӣ1 и которую доводит до предела ‘Афӣфӣ, а вслед за ними повторяют многие современные ученые.
Насколько тенденциозной может быть и традиционная комментаторская, и современная ученая традиция в игнорировании очевидности текстуальных свидетельств ради внедрения и сохранения привычной интерпретации, свидетельствует филологическая история критического издания «Гемм». Сам ‘Афӣфӣ пишет в примечании к этому слову: «Я принимаю чтение ал-К̣айс̣арӣ. Во всех трех рукописях стоит تثنية тас̱нийа — чтение, которое этот комментатор считает ошибочным» [Ибн Араби 1980: 147]. Конечно, не случайно ал-К̣айс̣арӣ избавляется таким странным образом от термина «удвоение» и не случайно ‘Афӣфӣ следует ему, игнорируя единогласное свидетельство рукописей, на которых основывает свое издание «Гемм»: «удвоение» Бога-и-мира не укладывается в неоплатоническую трактовку Ибн ‘Арабӣ, которую развивают эти два автора.
О странности позиции ал-К̣айс̣арӣ и последовавших за ним комментаторов свидетельствует уже тот факт, что слово تنبئة, которым они предлагают заместить تثنية «удвоение», в литературном арабском языке, насколько я могу судить, не присутствует (хотя понятно, что в принципе оно может быть образовано как масдар второй породы от корня н-б-’ по модели таф‘ила). Оно не зафиксировано в средневековых словарях и не употребляется нигде в доступной для анализа классической литературе. Единственное его вхождение мне удалось обнаружить у ал-К̣урт̣убӣ, упоминающего танби’а как масдар глагола набба’а «возвещать», который простонародье (‘а̄мма), по его свидетельству, употребляет в этой
587
форме, т. е. по второй породе, вместо правильной четвертой породы анба’а [Куртуби 1372, 8: 322]. Это проливает свет на источник «исправляющего» чтения ал-К̣айс̣арӣ и показывает, насколько важно для этого и следующих за ним авторов устранить «удвоение» из текста «Гемм», если взамен они готовы предложить слово-фантом.
Одна из ранних рукописей «Гемм» (847 г. х.; Ибн ‘Арабӣ умер в 638 г. х.) дает еще более интересный вариант: ат-тас̱нийа аз-завджиййа, т. е. «парная (а не «духовная»!) двойственность» [Ибн Араби 847: лист 54]. Понятно, что الزوجية (аз-завджиййа «парная») легко превращается в الروحية (ар-рӯх̣иййа «духовная») при утрате всего двух точек. Этот вопрос требует более серьезного исследования рукописей, но даже эти примеры показывают масштаб «редакторской работы», которым, вероятно, подвергся текст «Гемм», а еще более ярко — масштаб аберраций, допущенных в современной западной и отечественной науке об Ибн ‘Арабӣ и вызванных «очевидностями», которые заставили ученых игнорировать свидетельства большинства рукописей ради того, чтобы вчитать монизм неоплатонического толка в концепцию Величайшего шейха. Конечная причина этого — некритическое принятие С-логики в качестве платформы интерпретации, поскольку все эти «исправляющие» прочтения представляют собой не что иное, как гипотезы ad hoc ради сохранения этой интерпретации. П-логика, взятая в качестве основы интерпретации, избавляет от такой необходимости и дает органичное прочтение аутентичной редакции текста Ибн ‘Арабӣ.
В текстах Ибн ‘Арабӣ слово تنبئة не употребляется, зато تثنية «удвоение» встречается в «Откровениях» более 20 раз. Часто речь идет о «двойственности» или «удвоении» не в том смысле, о котором мы говорим, однако по крайней мере два контекста [Ибн Араби 1998, 1: 492; 3: 279] имеют прямое отношение к данной теме. В первом случае удвоение рассматривается как воплощенное в формулах азана (призыва к молитве), где оно трактуется как разделение того, что принадлежит Богу, и того, что принадлежит рабу. Во втором случае речь идет о двойственности Истинного и Творения в утвержденности (с̱убӯт), не в существовании (вуджӯд), и рассматривается переход из состояния утвержденности воплощенности в ее несуществовании в состояние существования: только такая двойственность может объяснить миропорядок (ал-’амр).
Итак, з̣а̄хир-ба̄т̣ин-«двойственность» Бога-и-мира — принципиальное положение, которое Ибн ‘Арабӣ многократно повторяет в своих основных текстах и которое вызывает столь упорное и показательное желание переиначить его и у традиционных комментаторов, и у современных исследователей. Как с этой двойственностью соотносится единичность (’ах̣адиййа) Бога? Логически совместить их (вывести одно из другого или непротиворечиво увязать) невозможно: вспомним, что, когда мы видим двойственность, «исчезает Единичность» [Ибн Араби 1980: 91]. Поэтому две точки зрения могут быть лишь поставлены рядом, взяты как «совокупность» (джама̄‘а), о чем Ибн ‘Арабӣ и говорит, рассуждая о пятничной молитве (однокоренное джум‘а) и ее необязательности для женщин. Впрочем, не будем наводить на Величайшего шейха критику феминистского толка:
588
говоря об ущербности женского разума, который не может совместить божественную единичность с двойственностью Бога-и-мира, двойственностью ’ила̄х-ма’лӯх «бог-обожествляемое», Ибн ‘Арабӣ, вероятно, имел в виду вовсе не женщин, а, как он выразился в другом месте, «теоретиков, чей ум слаб» [Ибн Араби 1980: 67]: уж не предвидел ли он попытки своих комментаторов и исследователей устранить именно эту з̣а̄хир-ба̄т̣ин-двойственность?
Но не будем слишком строги: Величайший шейх сам дает повод для подобных «исправляющих» (а на деле искажающих) прочтений. Выше было сказано, что его понимание соотношения между Богом и миром как выстроенного по модели з̣а̄хир-ба̄т̣ин означает революционную переделку средневекового взгляда. Помимо этой модели, описывающей отношение противоположения в процессуальной смысловой логике, характерной для арабской культуры, использовалась и модель ’ас̣л-фар‘, описывающая соотношение целого и единичного. Это — две разные модели, и возможность их совмещения должна быть специально исследована.
В з̣а̄хир-ба̄т̣ин-паре одна из сторон должна иметь перевес, как будто инициировать завязывание отношения между ними. Это хорошо видно на парадигматическом примере процесса: активная и пассивная его стороны, составляющие з̣а̄хир-ба̄т̣ин-пару, неравноправны в том смысле, что инициатором отношения выступает всегда активная сторона. В паре Бог-мир, выстроенной по законам з̣а̄хир-ба̄т̣ин-противоположения, активной стороной, безусловно, выступает Бог. Онтологически это выражается в том, что только Бог самостно, сам по себе обладает атрибутом необходимого существования; только и именно он передает эту необходимость всем вещам мира, делая и их необходимыми, т. е. существующими самостоятельно. З̣а̄хир-ба̄т̣ин-пара, иначе говоря, имеется благодаря тому, что Бог инициирует существование мира и тем самым создает эту парность.
Именно такой вывод мы должны сделать, если рассматриваем з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношение Бог-и-мир само по себе (мы вскоре увидим, что эта оговорка принципиальна).
В привычных онтологических категориях, одни из которых (один их пласт) возникли еще в сочинениях мутазилитов, а другие (другой пласт) были разработаны ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣной и получили широкое хождение за пределами фальсафы, это отношение между Богом и миром описывается следующим образом:
Нет сомнения, что возникшее (мух̣дас̱) возникло и нуждается (ифтик̣а̄р) в том, что дало ему возникнуть, поскольку само по себе оно (возникшее.— А. С.) обладало возможностью (имка̄н); посему существование его — от иного, и оно связано с тем узами нужды. Тот, Кто служит опорой, непременно должен быть обладающим необходимостью существования благодаря своей самости (ва̄джиб ал-вуджӯд ли-з̱а̄ти-хи), самодовлеюще (г̣анийй) существующим и ни в чем не нуждающимся. Именно Он Своей Самостью даровал сему возникшему существование, а потому оно и соотнесено с Ним. Поскольку Он сделал его самостным, оно необходимо чрез Него. Опираясь на Того, от Кого оно появилось как самостное,
589
оно должно быть по Его форме во всем, в чем с Ним соотнесено, в любом имени и атрибуте, кроме самостной необходимости; ее в возникшем, пусть оно и обладает необходимостью существования (ва̄джиб ал-вуджӯд), не может быть, ибо его необходимость — благодаря иному, а не благодаря самому себе [Ибн Араби 1980: 53].
Здесь отношение между Богом и миром описывается по-прежнему как з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношение. Свидетельством этого служит указание на соотнесенность мира с Богом во всем: мир — «по форме» Бога, говорит Ибн ‘Арабӣ. Исключение из этого з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соответствия — атрибут самостно-необходимого существования: таково единственное абсолютное отличие Бога от мира, которое и обосновывает перевес, отданный божественной стороне в этом соотношении. Однако весь мутазилитско-фальсафный лексикон, который Ибн ‘Арабӣ здесь использует (он любит выражать свои взгляды на языках разных школ и направлений мысли), может создать у читателя впечатление, что Величайший шейх высказывает не более чем привычные взгляды на Бога как абсолютное начало мира, которые не только не предполагают, но и категорически исключают взаимную логическую и онтологическую необходимость Бога и мира (а именно эта взаимность вытекает из модели з̣а̄хир-ба̄т̣ин). Добавим, что Ибн ‘Арабӣ нередко говорит о Боге как об «основе» (’ас̣л) мира, что играет ту же роль: основа логически и онтологически не зависит от своих «ветвей» (фурӯ‘).
Если обратить исключительное внимание именно на этот онтологический язык и интерпретировать его не в той роли, какую он играет в текстах Ибн ‘Арабӣ (где Величайший шейх использует его лишь для того, чтобы показать возможность включения всех прежних дискурсов в поле своей концепции как относительных, выражающих ту или иную сторону дела), а в контексте породивших эту терминологию теорий, то можно легко «убедиться», что Ибн ‘Арабӣ говорит мало нового в сравнении с прежними мыслителями. Правда, придется не обращать внимания на все то, что с этим языком не согласуется (обычно это списывают на «мистический характер» текстов Величайшего шейха, которые-де в принципе не поддаются систематизации и рационализации и в которых может встретиться что угодно), или даже прибегнуть к подчисткам вроде той, с помощью которой из текста «Гемм» удалили тас̱нийа «двойственность» Бога и мира.
В арабской теоретической мысли з̣а̄хир-ба̄т̣ин функционирует как самостоятельная терминологическая пара, выражая способ организации противоположения в процессуальной смысловой логике. Никто не станет оспаривать тот факт, что противоположение — это самостоятельный аспект, который может рассматриваться как будто независимо. Он, однако, не обладает подлинной независимостью: любое противоположение только тогда имеет смысл, когда предполагает собственное единство, «схватывающее» противоположности и задающее тем самым их границу. Нередуцируемый минимум осмысленности представлен не з̣а̄хир-ба̄т̣ин-противоположением, и уж тем более не изолированным термином из этой пары, а целостной конфигурацией противоположения-и-объединения. Мы должны
590
понять, какая категория у Ибн ‘Арабӣ выражает единство Бога-и-мира; чем скрепляется, или в чем воплощается, отношение з̣а̄хир-ба̄т̣ин, связывающее их.
Ясный ответ на этот вопрос мы получаем в первой главе «Гемм»:
Мир пребывает в сохранности, пока в нем сей совершенный человек (’инса̄н ка̄мил)1. Разве не видишь ты, что, если он исчезнет и будет изъят из сокровищницы мира, не останется в ней ничего, вложенного в нее Богом, одно совместится с другим2, весь миропорядок переместится в потусторонний мир и станет навечно (’абадийй) печатью на том мире11? [Ибн Араби 1980: 50]
Без совершенного человека, говорит Ибн ‘Арабӣ, мир исчезнет, поскольку не сможет вести внешнее в отношении Бога, самостное (пусть и дарованное Богом) существование. Иначе говоря, без совершенного человека (’инса̄н ка̄мил) развернутость з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношения между Богом и миром невозможна.
О совершенном человеке было написано немало как самими суфиями, так и исследователями суфизма. Очень ясное, четкое и последовательное осмысление этой категории мы встречаем у Ибн ‘Арабӣ. Совершенный человек в его концепции играет важнейшую онтологическую роль, воплощая процессуальное единство Бога-и-мира, являясь «стяжкой» двух сторон, обеспечивающей единство этого
591
противоположения. (Самое время вспомнить о знаменитом термине вах̣дат ал-вуджӯд «единство бытия» и по-настоящему взглянуть на его смысл; мы сделаем это ниже.)
Далее, термин «совершенный человек» фактически синонимичен в текстах Ибн ‘Арабӣ термину х̣ак̣ӣк̣ат ал-х̣ак̣а̄’ик̣ «Истина истин». Этот термин малоупотребителен в сравнении с другими (что совсем не соответствует его роли): в «Откровениях» мне удалось обнаружить четыре контекста его употребления; правда, об Истине истин подробно говорится в относительно небольшом, но очень важном трактате под названием Инша̄’ ад-дава̄’ир «Составление окружностей». Оставшаяся часть нашего рассуждения будет посвящена данному термину; мы таким образом завершим рассмотрение базовой, нередуцируемой (и в этой смысле минимальной) конфигурации категорий Бог-и-мир/Истина истин, составляющей основание всей концепции Ибн ‘Арабӣ.
При несомненной важности термина х̣ак̣ӣк̣ат ал-х̣ак̣а̄’ик̣ он употребляется в «Откровениях» как будто невзначай, между прочим, в переплетении других рассуждений. Невозможно вырезать из контекста целостную цитату, оставив за бортом все не относящееся напрямую к делу. Поэтому, надеюсь, читатель простит меня за то, что придется обременить его просьбой глубоко вникнуть в текст цитат, чтобы вытянуть на свет искомое зерно понимания.
Вот первая из них:
Человек — один из четырех предметов познания (ма‘лӯма̄т), обладающих воздействием (та’с̱ӣр). Первый предмет познания (ма‘лӯм) для нас — человек. Второй предмет познания — большой мир, служащий формой явного [для] человеческого мира. Человек, являющийся сердцем этой формы (я имею в виду исключительно совершенного [человека], обладателя того ранга), — третий предмет познания. А четвертый предмет познания — Истина истин (х̣ак̣ӣк̣ат ал-х̣ак̣а̄’ик̣), обладающая определяющим воздействием (х̣укм) и на вечность (к̣идам), и на возникновение (х̣удӯс̱). А пятого обладающего воздействием предмета познания, другого, нежели упомянутые, нет [Ибн Араби 1998, 3: 195].
Эта цитата завершает в тексте «Откровений» пространное рассуждение о человеке. Впрочем, мы пока сосредоточимся на термине «Истина истин» и попробуем определить его отношение к другим категориям. Заметим, что Истина истин определяет (х̣укм) и вечное, и временнóе; она как будто сильнее и того и другого.
Однако вечное существование — это существование Бога, или «Истинного», а временнóе — существование мира, или «Творения». Мы можем сделать вывод, что «Истина истин» стоит выше противопоставления Бога и мира, что она одинаково властна в отношении их.
Чтобы развить полученный вывод, обратимся к следующему отрывку:
Смысл (ма‘нан), приемлющий форму тела, и есть то, о чем мы говорим в этом разделе; он подготовлен для этого («смысл» для «принятия тела». — А. С.). А тело, приемлющее фигуру, — это прах (хаба̄’), поскольку именно он самостно приемлет
592
фигуры. В нем появляются все фигуры, при этом ни в какой фигуре нет ничего от него, и он не является воплощенностью фигуры. Столпы (арка̄н) — прах для порождений (муваллада̄т): это естественный прах. Железо и тому подобное — прах для всего, что из него образовано: для ножей, мечей, клинков, молотков, ключей; все это — формы фигур. Подобное называется искусственным прахом. Итак, их [насчитывается] четыре у обладателей разума. Основа же — это всецелое (ал-’ас̣л хува ал-кулл), и именно ей мы отдаем это преимущество.
А мы добавляем [к этому] Истину истин; о ней мы говорили в этом разделе, она объемлет (та‘умм) Творение и Истинного. О ней не говорил никто из теоретиков (арба̄б ан-наз̣ар), кроме Божьих людей. Правда, мутазилиты обратили внимание на нечто близкое, говоря, что Бог [является] «Говорящим» благодаря «говорящести» (к̣а̄’илиййа), «Знающим» благодаря «знающести» (‘а̄лимиййа), «Могущественным» благодаря «могущественности» (к̣а̄дириййа). Они хотели избежать утверждения атрибутов, дополнительных в отношении самости Истинного, очищая (танзӣх) Истинного, пошли этим путем и были близки к тому, как обстоит дело [Ибн Араби 1998, 2: 426].
Эта цитата встроена в пространное рассуждение Ибн ‘Арабӣ, посвященное вопросу об «основе» (’ас̣л) всего находимого в мире. Сначала он говорит о четырех типах, или уровнях, на которых обнаруживается такая основа, и отмечает, что эти четыре типа признаются «обладателями разума». Речь идет о модифицированных аристотелианских натурфилософских представлениях. «Смысл», который способен «принимать форму тела», соответствует аристотелевской первоматерии. Оформленную первоматерию Ибн ‘Арабӣ называет «прахом», поскольку это некое тело. Третий уровень — «столпы»; этот термин применялся в классической арабской философии как синонимичный понятию «первоэлемент» (хотя иногда имел и отличное от него содержание). Наконец, естественные тела, служащие материей для формообразующей деятельности человека, — это четвертый вид «праха».
Этими четырьмя типами основ исчерпывается ответ, который дает фальсафа на вопрос об источнике и основе мира. Однако все это, тут же добавляет Ибн ‘Арабӣ, имеет в качестве своей основы «всецелое» (ал-кулл), причем это всецелое обладает, по его мнению, преимуществом перед названными четырьмя типами, которое состоит именно во всецелостности, т. е. в большей фундаментальности. Нет сомнения, что под этой «всецелой основой» он подразумевает Бога, т. е. «Истинного»: сошлюсь на [Ибн Араби 1980: 49], где Ибн ‘Арабӣ говорит о Боге как об «основе форм мира», или же на [Ибн Араби 1998, 3: 195], где речь о «переменах» (тах̣аввула̄т) мира в связи с переменой «основы»-Бога. С точки зрения Ибн ‘Арабӣ, все четыре типа основ принадлежат миру, т. е. Творению, однако аристотелианская философия не указывает на источник этих основ, каковой находится в Истинном.
Но главное здесь, собственно, — не эти построения, которые Ибн ‘Арабӣ выполняет довольно часто и в «Геммах», и в «Откровениях», и если бы дело ограничивалось ими, не стоило бы разбирать их столь тщательно. Главное — следующая
593
фраза Ибн ‘Арабӣ, в которой он говорит, что Истина истин «добавляется» к этому и что она «объемлет» Творение и Истинного.
Следующее рассуждение, развивающее понятие х̣ак̣ӣк̣ат ал-х̣ак̣а̄’ик̣ как общее для Истинного и Творения, даст возможность понять, что значит для Истины истин «обнимать» Бога-и-мир:
Знай, что ла̄м-’алиф, внедрившись (х̣алла) [во вместилище], утратив свою фигуру, обнаружив свои тайны, забыв свое имя и описание (расм), появляются, когда перед нами род (джинс), клятва, определение и возвеличивание (та‘з̣ӣм).
Поскольку ’алиф — удел Истинного, а ла̄м — удел человека, ’алиф и ла̄м стали [употребляться] для [обозначения] рода. Ведь упомянув ’алиф и ла̄м, ты упоминаешь все мироздание (кавн) и его Создателя (мукаввин). Если же ты, потеряв из виду
Истинного и находясь с тварным ( ), упомянешь ’алиф
и ла̄м, то ’алиф и ла̄м — это Истинный и Творение. Это мы и называем родом.
Вертикальная линия ла̄ма принадлежит Всевышнему Истинному. Воспринимаемая чувствами половина окружности ла̄ма, оставшаяся после того, как ’алиф забрал свою вертикальную линию, — это фигура нӯна, принадлежащая Творению. Отсутствующая (г̣а̄’иб), духовная половина окружности принадлежит Царствию (малакӯт). ’Алиф, обнаруживающий диаметр этой окружности, принадлежит приказанию, а именно — «Возникни!».
Все это — виды и разновидности (анва̄‘ ва фус̣ӯл) того всеобщего рода (ал-джинс ал-а‘амм), над которым нет никакого рода. Это — Истина блуждающих истин (х̣ак̣ӣк̣ат ал-х̣ак̣а̄’ик̣ ат-та̄’иха), вечных в вечном, а не в своих самостях, и возникших в возникшем, не в своих самостях. Они, если рассматривать их самости, — не существующие (ла̄ мавджӯда) и не несуществующие (ла̄ ма‘дӯма). Поскольку они не являются существующими, они и не имеют ни атрибута вечности, ни атрибута возникновения, как о том будет говориться в шестой главе этой книги. Есть нечто с ними схожее с точки зрения принятия ими форм, не с точки зрения принятия ими возникновения и вечности: то, что с ними схоже, существует, а все существующее — либо возникшее (а именно, Творение), либо дающее возникновение (а именно, Творец). Поскольку они принимают и вечность, и возникновение, Истинный проявляется для Своих рабов в тех Своих атрибутах, в каких пожелает [Ибн Араби 1998, 1: 122].
Начнем со второй половины цитаты. Для нас естественно представлять себе «общность», или «обнимание» (‘умӯм) (Истина истин «обнимает» Истинного и Творение — предыдущая цитата), как включение внутрь, как охват некой опоясывающей границей. Это герменевтическое ожидание получает, казалось бы, неоспоримое подтверждение здесь, где Ибн ‘Арабӣ говорит о роде, более того, о «всеобщем роде», над которым нет никакого другого рода, отождествляя этот высший род с Истиной истин. Истинный и Творение (пара ал-х̣ак̣к̣/ал-х̱алк̣) должны были бы — если наши герменевтические ожидания верны и если речь действительно идет о роде, как он понимается в аристотелевской логике, — быть видами этого высшего рода, причем видами, исчерпывающими свой род, поскольку
594
ничего иного, кроме Истинного и Творения — и объединяющей их Истины истин, в мироздании попросту нет.
Принципиальной чертой родовидового отношения является следующее: родовой признак не может не присутствовать в каждом из видов. Единственной положительной характеристикой Истины истин служит то, что составляющие ее истинности названы «блуждающими». Это, надо думать, основной, конституирующий признак Истины истин: в отличие от Истинного и Творения, которые также содержат полный набор х̣ак̣а̄’ик̣ «истинностей», истинности Истины истин способны «перемещаться» между вечностью и временным возникновением. Ибн ‘Арабӣ говорит об этом неоднократно, и в этом не может быть сомнения. Но вот в чем дело: эта характеристика принадлежит исключительно Истине истин и категорически не предицируется ее предполагаемым «видам» — Творению и Истинному. Думать, что Истина истин составляет в аристотелианском смысле род для подпадающих под нее видов, — все равно что считать, будто «жидкое тело» служит родом для, скажем, «газообразного тела» и «твердого тела», исходя из повторения слова «тело» во всех трех единицах. Не будем забывать, что истинности, входящие в Истину истин, — это не абстрактные понятия, они не отвлечены от нижестоящих единичных вещей или общностей более низкого уровня обобщения, как это было бы верно для рода и видов.
Разговор о всеобщем роде и Истине истин Ибн ‘Арабӣ завел, рассуждая о свойствах букв. Алиф и ла̄м, употребленные перед именем, служат в арабском языке определенным артиклем, одна из функций которого — обозначение рода. Этим вызван переход к обсуждению рода как философского понятия (а не языковой категории). И здесь употребление термина «род» оправдано лишь одним — повторением общего семантического элемента х̣ак̣а̄’ик̣ «истинности» во всех трех составляющих, о которых идет речь. Истина истин включает в себя х̣ак̣а̄’ик̣ по самому своему названию; Истинный — это божественность, представляющая собой абсолютный набор х̣ак̣а̄’ик̣; наконец, Творение — это вещи, каждая из которых представляет собой некоторую констелляцию этих х̣ак̣а̄’ик̣, причем Творение в целом точно соответствует Истинному с точки зрения набора х̣ак̣а̄’ик̣.
Такого повторения семантического элемента недостаточно, чтобы установить родовидовое отношение: мы видели, что его необходимое условие не выполняется в данном случае. Поэтому рассуждения Ибн ‘Арабӣ о «всеобщем роде» следует считать иносказанием, привязкой чужого языка к собственным взглядам. Вместе с тем повторение семантического элемента во всех составляющих конфигурации характерно не только для родовидового отношения, но и для отношения противоположения-и-объединения в процессуальной логике смысла. Мы легко убедимся в этом, взяв парадигматический пример какого-нибудь процесса: скажем, противолежащие «ищущий-искомое», объединенные процессом «искания», имеют общую семантику, отраженную в русском языке общим корнем, но они не образуют родовидовую конфигурацию. Отношение Истины истин к нижестоящей паре Истинный-Творение гораздо ближе к тому, что предполагается процессуальной логикой отношения процесса к стягиваемой им паре «действующее-
595
претерпевающее», хотя и не совпадает с парадигматическим примером дословно. Однако процессуальное понимание категории «Истина истин» снимает все те противоречия, которые неизбежны при попытке понять ее всерьез как «всеобщий род».
Добавим к этому, что каждая истинность (х̣ак̣ӣк̣а) в Истине истин представляет собой именно процесс, поскольку выражается масдаром (х̣айа̄т «жизнь», ‘илм «[по] знание» и т. д.). Ибн ‘Арабӣ не случайно упоминает мутазилитов и их решение вопроса о божественных атрибутах1: некоторые мутазилиты считали, что (к примеру) божественный атрибут «знающий» указывает на «знание» в божественной самости и на «познаваемое», т. е. вещи мира. Их тезис логически близок к решению Ибн ‘Арабӣ, который говорит, что Истина истин (она занимает у него то место в логико-смысловой конфигурации противоположения-и-объединения, какое занимала божественная самость у мутазилитов) — это совокупность «знания» и всех прочих истинностей, которые предицируются Истинному как вечные и Творению как возникшие. Если у мутазилитов з̣а̄хир-ба̄т̣ин-отношение связывало «знающего» Бога и «познаваемые» вещи мира и было скреплено «знанием» как процессуальной стяжкой, то у Ибн ‘Арабӣ «знающий» Истинный (Бог) находится в з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соотношении со «знающими» вещами мира, и это соотношение скреплено в процессуальное единство «знанием» как одной из «блуждающих истин» Истины истин.
Что касается начала разбираемой цитаты, то для ее общего понимания достаточно иллюстрации, наглядно представляющей хуруфитские построения Ибн ‘Арабӣ (см. рис. 2); я ограничиваюсь ею, поскольку подробный разбор этих положений не входит в мои задачи.
Рис. 2
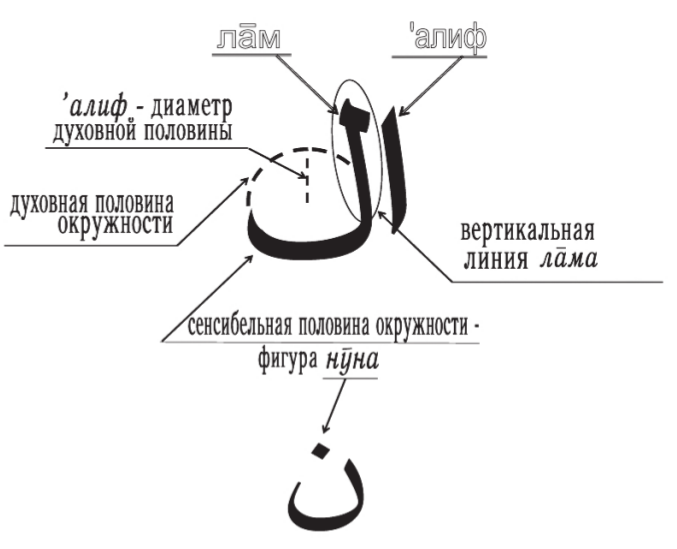
596
И наконец, последний из отрывков, в которых употребляется понятие «Истина истин»:
…Истина интеллигибельных истин, которые являются возникшими в возникшем и вечными в вечном. Это выявляется посредством общности (иштира̄к) имен. Ведь Он назвал тебя так же, как Самого Себя; даже не Он тебя назвал, а это всеобщая Истинность (ал-х̣ак̣ӣк̣а ал-куллиййа) соединила Истинного и Творение. И вот, ты — знающий, и Он — знающий, но ты возникший, и соотнесенность знания с тобой — возникшая, а Он — вечный, и соотнесенность знания с Ним вечная. А знание одно в своей воплощенности, оно принимает атрибут того, для кого становится характеристикой (на‘т), пойми это [Ибн Араби 1998, 4: 312].
Здесь фактически повторено то, что было сказано ранее: Истина истин соединяет Истинного и Творение, воплощает — в своем единстве! — их связанность. Повторю очевидное: не Бог и Творение едины (когда можно бы было говорить о пантеизме хотя бы в каком-то смысле), а их единство заключено в третьей вещи — Истине истин, а значит, внеположно им. Более ясное доказательство невозможности характеризовать взгляды Ибн ‘Арабӣ как пантеистические трудно найти.
Я упомянул «третью вещь» не случайно: это термин самого Ибн ‘Арабӣ (аш-шай’ ас̱-с̱а̄лис̱), который он активно употребляет в «Составлении окружностей»1. О «трех вещах» он ведет речь в этом трактате практически с самого начала (см. [Ибн Араби 1996: 16 и далее]), подчеркивая, что нет «отставания» ни мира от Бога, ни Третьей вещи от мира [Там же: 18]. Здесь уже третья вещь названа ’ас̣л «основой» мира [Там же], она представляет собой х̣ак̣ӣк̣ат х̣ак̣а̄’ик̣ ал-‘а̄лам ал-куллиййа «Всеобщую Истину истин мира», которые в вечном — вечные, а в возникшем — возникшие. Эта вещь не является ни возникшей, ни вечной, но она столь же безначальна (’азал), как и Бог [Там же: 16]. Она не приемлет никаких прибавлений, не является ни целой, ни частичной [Там же: 18] и не описывается ни существованием, ни несуществованием [Там же: 17 и др.].
В заключение вернемся к первому из отрывков, в которых упоминается Истина истин. Речь там идет о четырех «предметах познания» (напомню, это исчерпывающий список того, что обладает та’с̱ӣр «воздействием»), три из которых — человек в различных его аспектах, и лишь четвертый — Истина истин. Что имеет в виду Ибн ‘Арабӣ под первыми тремя «предметами познания»?
Величайший шейх неоднократно говорит, что человек собирает в себе все истинности (х̣ак̣а̄’ик̣) и в этом смысле равнозначен миру; а поскольку мир и Бог находятся в отношении з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соответствия, то человек равнозначен и Богу. Исходя из этого, я предлагаю следующую трактовку. Первым назван человек, рассматриваемый как собрание всех истинностей в их вечностной ипостаси, т. е. человек как собирающий всю божественность, как равнозначный ал-х̣ак̣к̣
597
«Истинному»1. Вторым упомянуто Творение, рассматриваемое как явное (з̣а̄хир) для «человеческого мира», т. е. для собрания всех истинностей в божественной самости. Наконец, совершенный человек как «сердце»: мне представляется, что Ибн ‘Арабӣ отдает совершенному человеку то же место, которое отдано Истине истин. В другом месте он говорит:
Если ты познал упомянутое нами, то знаешь, кто является сердцем существования, кое питает мир его формы (для которой он — сердце и все ее части). Он — сердце совокупности (к̣алб ал-джам‘), он — явных и скрытых истинностей собранность в этой [имеющей] существование форме (с̣ӯра вуджӯдиййа) [Ибн Араби 1998, 3: 195].
Слова сердце (к̣алб) и переменчивость (так̣аллуб) в арабском языке — однокоренные: ежемгновенная изменчивость мира (концепция х̱алк̣ джадӣд «новое творение») объясняется изменчивостью Бога (таково необходимое следствие з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соотношения между Богом и миром, устанавливающее между ними отношение зеркального соответствия), а соединяет эти две стороны, вечную и возникшую, совершенный человек — «сердце» миропорядка, играя ту же роль процессуального скрепа Бога-и-мира, что отдана Истине истин.
Чтобы подытожить наше исследование, зададим вопрос: почему в текстах Ибн ‘Арабӣ не встречается выражение вах̣дат ал-вуджӯд «единство бытия», которое для многих последователей Величайшего шейха и современных исследователей стало обозначением его концепции? Этот вопрос интересен тем более, что «единство бытия» — это то, что западная философия со времен греков полагает в качестве своего основания. В чем отличие первого от второго (ибн-арабиевого «единства бытия» от греческого); и есть ли оно?
С одной стороны, вопрос очень прост. Даже если Ибн ‘Арабӣ не употребляет выражение вах̣дат ал-вуджӯд и тем более не использует его как термин, сама идея единства бытия у него, несомненно, присутствует. Он подтверждает ее неоднократно, в том числе в текстах, которые цитировались выше. Мы видели, что необходимое-само-по-себе-бытие — единственный атрибут Бога, не имеющий соответствия в мире, т. е. исключенный из общего правила з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соответствия между Богом и миром. Из этого вытекает, что бытие — единственный атрибут, не включенный в ту самую двойственность (тас̱нийа) Бога и мира, которая и фиксирует это з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соответствие, и что бытие, следовательно, одно. Для Бога оно собственное (необходимое-само-по-себе), а для мира — заемное (необходимое-благодаря-другому).
В этом смысл многочисленных высказываний Ибн ‘Арабӣ в духе того, что «мир иллюзорен (мутаваххам), у него нет истинного существования» [Ибн Араби
598
1980: 103], что «все существование — видимость в видимости, истинное же существование — это Бог» [Там же: 104] и т. д.: бытие мира и бытие Бога — одно бытие, поскольку мир пользуется заемным, несобственным бытием.
Но из этого вовсе не вытекает, что мир и Бог — нечто единое. Единство бытия, как оно понимается Ибн ‘Арабӣ, отнюдь не означает субстанциального единства Бога и мира — напротив, оно вписано в общую концепцию их з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соотнесенности, а значит, и взаимной внеположности. Единство бытия в рамках этой концепции означает только одно: Бог «сильнее» мира, и именно Богу отдана роль воздействующей, активной стороны в процессуально-ориентированной парадигматике з̣а̄хир-ба̄т̣ин-двуединства Бога и мира1.
В заданном вопросе можно увидеть и другой, значительно более глубокий смысл. Ведь единство бытия для западной философии — это концептуальное оформление наиболее фундаментальной интуиции всеобщей связности. Найти всеобщую связность, понять, на чем она основана, — исконная задача философии. Вот почему совершенно естественным оказывается герменевтическое ожидание западного исследователя, предполагающего, что и здесь, в концепции вах̣дат ал-вуджӯд, он встретит проработку вопроса о всеобщей связности; а поскольку магистральным направлением истолкования единства бытия в западной мысли служит субстанциальная его трактовка, то и здесь ожидание субстанциального единства бытия, т. е. субстанциального единства Бога и мира, становится решающим герменевтическим ожиданием. Эта презумпция и заставляет столь многочисленных исследователей вчитывать субстанциальную трактовку единства в тексты Ибн ‘Арабӣ, от которой уже рукой подать до его пресловутого «пантеизма». Это утверждение оказывается очень комфортным в контексте описанного герменевтического ожидания, и прежде всего этим объясняется распространенность пантеистических трактовок концепции вах̣дат ал-вуджӯд.
Этому субстанциализирующему прочтению вах̣дат ал-вуджӯд способствует и целая традиция неоплатонизации Ибн ‘Арабӣ, берущая начало в текстах его любимого ученика и фактически приемного сына С̣адр ад-Дӣна ал-К̣ӯнавӣ и продолженная многочисленными комментаторами Величайшего шейха в иранском мире. Нелишне напомнить, что в исламском мире взгляды Ибн ‘Арабӣ нередко изучаются, даже и сегодня, по текстам комментариев (см. [Кунави 2015: 5]), благодаря чему Величайший шейх предстает добросовестным неоплатоником. Разбор этой традиции комментирования — отдельная задача, но здесь я должен упомянуть только одно обстоятельство.
Именно в этой традиции становится устойчивым представление о «бытии» и «небытии» как о двух терминах, исчерпывающих онтологическую проблематику, с дальнейшим делением бытия на бытие вовне и бытие в мысли, а также
599
на необходимое-само-по-себе и необходимое-благодаря-другому1. Такая трактовка, полагающая «бытие» предельной категорией, позволяющей говорить о вещи (и соответствующая аристотелианскому взгляду), исключает понятие мумкин «возможное» как самостоятельное и несводимое к названным двум2.
Именно против такой трактовки, как будто предвидя ее, предостерегает Ибн ‘Арабӣ:
Некоторые из теоретиков, чей ум слаб, установив, что Бог все устраивает по Своему желанию, допустили говорить о Всевышнем противное мудрости и тому, каков миропорядок в самом себе. Так некоторые теоретики дошли до отрицания возможности, утверждая лишь необходимость благодаря себе или благодаря другому [Ибн Араби 1980: 67].
Термин «возможность», о котором говорит Ибн ‘Арабӣ, восходит к фарабиево-авиценновской неаристотелианской онтологии, в которой именно возможность-сама-по-себе (а не бытие) конституирует вещь мира, в противопоставлении чистой необходимости, или необходимости-самой-по-себе, характеризующей Первую вещь (Бога). Только потому, что сама по себе вещь возможна, она оказывается или необходимой-благодаря-другому (= существующей), или невозможной-благодаря-другому (= несуществующей), как будто перемещаясь между этими двумя состояниями — необходимостью и невозможностью (бытием и небытием). Для процессуально-ориентированого взгляда категория «возможность» в этой конфигурации является самостоятельной и никак не сводится к двум другим (к необходимости и невозможности, или бытию и небытию), напротив, только она и обеспечивает наличие этих двух состояний и их связанность, — как процесс обеспечивает противопоставленность и связанность двух своих противоположенных сторон. Вот почему устранить «возможность» из системы категорий, редуцировав ее к каким-либо другим, — значит переинтерпретировать процессуально понимаемое единство в терминах субстанциально понятого единства бытия. Вот почему Ибн ‘Арабӣ предостерегает против устранения «возможности» из системы онтологических категорий: он фактически предупреждает о неправильности переинтерпретации процессуально понятого единства миропорядка в субстанциальном ключе.
600
Каково же собственное понимание всеобщей связности, которое предлагает Ибн ‘Арабӣ; и если это его понимание — не субстанциально понятое единство бытия, то как его следует охарактеризовать?
Единство миропорядка у Ибн ‘Арабӣ — это единство з̣а̄хир-ба̄т̣ин-перехода между божественной и мирской его сторонами. Такое единство по самому своему смыслу должно пониматься процессуально, а не субстанциально. Это процессуальное единство миропорядка следует полагать в «Третьей вещи», в Истине истин, о которой говорилось выше. Если западная философия ищет единство бытия как субстанциальное, то в концепции Ибн ‘Арабӣ представлена характерная для арабской культуры процессуальная логика смысла, в соответствии с которой существующий Бог и существующий мир находят свое единство в Истине истин, Третьей вещи, которая не является ни существующей, ни несуществующей1.
Таким образом, «единство бытия», взятое как голый термин, без его логико-смыслового наполнения, совершенно не является специфичным для суфизма: это стержень западной философии начиная с греков, где данное понятие ответственно за фундаментальную, всеобщую связность мироздания. Номинально тот же термин применительно ко взглядам Ибн ‘Арабӣ играет совсем другую роль, указывая на активную, воздействующую роль божественной стороны миропорядка в з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соотнесении Бога и мира. А всеобщая связность мироздания, понимаемая как процессуальное единство Бога и мира, выражена у Ибн ‘Арабӣ вовсе не с использованием категории «бытие», — бытие не служит здесь предельной категорией, позволяющей говорить о вещи, — а совсем другими понятиями: «Истина истин», «Третья вещь», «Совершенный человек».
Каково же онтологическое наполнение этих понятий?
Я говорил, что взгляды Ибн ‘Арабӣ на целостное устройство мироздания означают кардинальную перестройку, а точнее, ломку парадигмы средневековой арабской философии. Выстраивая новое понимание фундаментального единства мироздания, Величайший шейх вместе с тем не предлагает нам разработанной собственной системы онтологических категорий, описывающих каждый из членов базовой конфигурации Бог-мир/Истина истин. Это крайне интересный факт: важнейшая часть работы — выработка нового взгляда на всеобщую связность мироздания — им, безусловно, проделана, а вот техническое оформление ее (строгая категориальная разработка, включая базовые онтологические категории) не выполнено ни им, ни тем более, насколько мне известно, никем из его комментаторов и последователей.
601
Включая дискурсы предшествовавших философских течений в свою систему взглядов, Ибн ‘Арабӣ вместе с тем переиначивает смысл использовавшейся там терминологии, приноравливая его к своему пониманию. Это касается и онтологических категорий. Так, если для мутазилитов термин с̱убӯт «утвержденность» стоял над противоположением вуджӯд-‘адам «бытие-небытие», выражая процессуально схваченное единство этой пары, то у Ибн ‘Арабӣ а‘йа̄н с̱а̄бита «утвержденные воплощенности» и а‘йа̄н ма‘дӯма «небытийные воплощенности» — синонимичные термины, обозначающие ба̄т̣ин-пару существующих в мире вещей (т. е. ба̄т̣ин-пару для а‘йа̄н мавджӯда). Обратим внимание, что сама логико-смысловая конфигурация осталась неизменной (з̣а̄хир-ба̄т̣ин-противоположение и его процессуальное объединение), но места терминов в этой конфигурации изменились фактически полностью.
Однако это вовсе не «непоследовательность» и тем более не «путаница» в терминах, как думают некоторые исследователи Ибн ‘Арабӣ, отчаявшиеся заметить систему в его взглядах (которые как раз удивительно систематичны). Это поиск новой онтологии, попытка примерить старые, средневековые онтологические термины к новому содержательному наполнению базовой логико-смысловой конфигурации. Этот поиск в самом деле не доведен до конца, и Ибн ‘Арабӣ оставляет нас в неведении относительно того, как мог бы быть обозначен онтологический статус Третьей вещи. Но дело лишь в названии, никак не в концептуальной проработке: последняя как раз доведена до конца Величайшим шейхом, показавшим, что единство Бога и мира, находящихся в процессе ежемгновенного взаимного перехода и связанных этим процессом, схвачено как Третья вещь — Истина истин, или Совершенный человек1.
602
 |

|
Какую науку основал Ибн Х̱алдӯн (1332—1406)? И была ли это единая наука или же — отрывочные начала целого ряда наук?
Творчество арабского ученого уже несколько веков привлекает внимание исследователей; публикации, ему посвященные, растут и растут в числе. И тем не менее поставленный вопрос до сих пор не имеет ответа; более того, по мере продвижения работ, как ни странно, уменьшается надежда на то, что в этой области будет достигнуто согласие. Уже настало время исследований по поводу исследований об Ибн Х̱алдӯне; в одной недавно опубликованной книге [Баали 2005] проанализировано три сотни трудов об арабском мыслителе. Общность мнений отсутствует не только по поводу того, кем он был: философом истории, социологом, экономистом, политологом или антропологом; единства нет и в вопросе о том, был ли он чем-либо из вышеперечисленного.
Как подчеркивает ряд исследователей, несмотря на наличие фундаментальных работ об отдельных сторонах мысли Ибн Х̱алдӯна, ученые в большинстве своем анализируют его наследие «по частям», беря какой-то аспект его теории и игнорируя прочие. В результате ускользает главное: та единая методология, которой придерживается Ибн Х̱алдӯн (или, во всяком случае, заявляет, что придерживается).
По поводу того, какова эта методология, согласия не наблюдается. Те, кто пытаются ее найти, рассматривают, скажем, «социологический» или «экономический» подход не как один из аспектов ибн-халдуновской теории, а как единственный, определяющий всю ее архитектонику. В результате совершается редукция целостного учения к одному из его аспектов. Вот почему, как представляется, многие исследователи по-прежнему придерживаются мнения об «энциклопедическом» (или, что в данном случае то же самое, несистематизированном) характере учения Ибн Х̱алдӯна, отдельные стороны которого несводимы одна к другой.
Давно сделаны переводы главного теоретического труда Ибн Х̱алдӯна — ал- Мук̣аддима («Введение»), в котором и изложены его теории, на турецкий, французский, английский и некоторые другие языки. До сих пор нет полного русского перевода; мы имеем лишь отрывки, выполненные С. М. Бациевой [Ибн Халдун 1961]2 и А. А. Игнатенко [Ибн Халдун 1980]. Этим двум авторам принадлежат и монографические исследования, что исчерпывает, если не считать ряда статей и диссертаций, литературу по этому мыслителю на русском языке.
603
Публикуя отрывки «Введения» (см. [Ибн Халдун 2008]), значительная часть которых еще не переводилась на русский язык, я стремлюсь частично закрыть этот текстологический пробел. Но не только. Я выбрал те разделы, в которых Ибн Х̱алдӯн определяет основную идею своей новой науки, ее предмет и область приложения. Моя цель двоякая: наметить костяк ибн-халдуновской категориальной системы и понять, как строится эта его новая наука и является ли она в самом деле единой наукой, как о том недвусмысленно заявляет сам ее создатель.
Что касается основной терминологии, то во многих случаях я предлагаю свой перевод, отличающийся как от тех вариантов, что дают С. М. Бациева (нередко следующая в русле английского перевода Ф. Розенталя [Ибн Халдун 1967а]) и А. А. Игнатенко, так и от тех, которых придерживаются авторы, пишущие на западных языках. Иногда речь идет о стилистических, иногда — о небольших технических уточнениях; однако в ряде случаев дело касается самой концептуальной основы. Об этом следует сказать подробнее.
Мне представляется, что трудность, с которой сталкиваются исследователи при попытке определить характер взглядов Ибн Х̱алдӯна, носит методологический и при этом фундаментальный характер. Познакомившись с их трудами, нетрудно заметить, что подавляющее большинство их построены как сравнение ибн-халдуновского учения с хронологически более поздними теориями западных авторов. С кем только не сопоставляли арабского мыслителя — в этом ряду Монтескье, Макиавелли, Конт, Вебер, Маркс и т. д., и т. п. Создается впечатление, что в этом, как будто безраздельно господствующем, подходе до сих пор сказывается то изумление, которое когда-то испытала западная мысль, открыв для себя ибн-халдуновские построения и обнаружив в них разительные, порой труднообъяснимые, едва ли не текстуальные совпадения с формулировками, принадлежащими более поздним европейским мыслителям и считавшимися их открытием. В самом деле, взять высказывания Ибн Х̱алдӯна о том, что «заработок — это стоимость человеческого труда»3, что «золото и серебро [измеряют] стоимость всего, что образует богатство (мутамаввил)» и составляют средство обмена и накопления (см. Гл. V Отд. 1 [Ибн Халдун: 381]), что устройство жизни разных народов различается так же, «как различаются их способы добывания средств к жизни»
604
(Гл. II Отд. 1), что все аспекты материальной и духовной жизни людей определяются географическими факторами среды их обитания (Гл. I Введ. 3, 4). Конечно, сходства настолько очевидны и настолько разительны, что мысль о «параллелях» просто не может не возникнуть. Так Ибн Х̱алдӯн оказывается предшественником основателей социологии и политэкономии, выдающимся философом культуры и антропологом.
Для чего не находится параллели, так именно для целостного учения: лишь аспекты ибн-халдуновских построений можно увидеть в зеркале европейской нововременной науки, но нигде там нет их единого образа. Получается, что фрагментарность, которую «открывают» исследователи Ибн Х̱алдӯна, заложена уже в том вопросе, который они задают его текстам. Сравнивая арабского мыслителя с основателями или представителями тех или иных отдельных европейских наук, они не могут найти в его идеях (рассматриваемых в зеркале европейской науки) то, что связывало бы воедино эти — как будто разные и независимые — направления мысли.
Казалось бы, странная ситуация: при таком обилии исследований и наличии текстологической базы не прийти к согласию по поводу самого главного и, наверное, не такого уж неразрешимого вопроса: к какой категории научного знания отнести построения Ибн Х̱алдӯна? Странность здесь — в этой непохожей похожести арабского мыслителя и множества фигур европейской мысли, в которых как будто отражается его учение: похоже все по отдельности, но не похоже целое.
С моей точки зрения, эта трудность интерпретации неслучайна и носит не технический характер. Дело, иначе говоря, не в том, что исследователи что-то недоглядели в текстах Ибн Х̱алдӯна, так что более скрупулезное их изучение помогло бы решить проблему. Дело в другом: в понимании того, как строится единая наука у Ибн Х̱алдӯна; в самой идее единства.
В этом суть проблемы, и именно это я и буду обсуждать.
Сперва мы попытаемся установить, о чем именно говорит Ибн Х̱алдӯн как об обосновываемой им новой науке. Рассмотрим далее базовые категории, от которых отправляется его рассуждение, обратив внимание на логику их взаимосвязи. Попытаемся выстроить свой взгляд таким образом, чтобы наука Ибн Х̱алдӯна предстала перед нами в своей целостности. Сделав это, рассмотрим на нескольких примерах функционирование ее методологических принципов.
Итак, что именно считает Ибн Х̱алдӯн детищем своей мысли?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в соотношении двух понятий — та’рӣх̱ и ‘умра̄н. Первое будем передавать, как это принято, словом «история»; от перевода второго пока воздержимся.
«Введение» начинается с разъяснения смысла слова «история» (см. преамбулу Книги I4). Это, согласно Ибн Х̱алдӯну, «сообщения» о том, как живут люди.
605
В таком определении еще нет ничего необычного, во всяком случае необычного для той эпохи. Нас заинтересуют три вопроса, ответив на которые, мы поймем суть позиции Ибн Х̱алдӯна, столь определенно выделяющей его из общего ряда арабских мыслителей. Во-первых, какими бывают исторические сообщения? Во- вторых, что составляет их содержание или, говоря иначе, что представляет собой историческая действительность? В-третьих, как эта действительность выстраивается?
Отвечая на первый вопрос, Ибн Х̱алдӯн говорит, что сообщения бывают истинными и ложными. И дело не в данной констатации самой по себе, а в той фразе, которая ее сопровождает: сообщению, говорит Ибн Х̱алдӯн, сопутствует ложь по самой его природе.
Это указание на естественную, природную, не зависящую от воли людей, а потому закономерную обусловленность характеристик вещей составляет лейтмотив мысли Ибн Х̱алдӯна. Он как будто открывает для себя — и для своего читателя — ту необыкновенно простую, все разъясняющую и закономерно действующую природу вещей, которую прежняя эпоха просто не замечала. Вот почему Ибн Х̱алдӯн, безусловно, мыслитель постсредневековый. Традиция, из которой он вышел и которая еще жива, которая еще не отошла в прошлое, для него тем не менее осталась позади. Он смотрит на нее как человек, ей не принадлежащий. Для него эта классическая, средневековая эпоха и ее культура — нечто, что можно обозревать как целое, как уже-свершившееся, уже-законченное и подводить этому итог. Именно так и поступает Ибн Х̱алдӯн в заключительных главах «Введения», где он рассматривает науки и ремесла классической арабо-мусульманской цивилизации: этот обобщающий взгляд, позволяющий Ибн Х̱алдӯну «встать над схваткой» конфликтовавших в классическом средневековье течений мысли и отнестись к ним объективно, как внешний наблюдатель, и делает его «Введение» столь привлекательным для исламоведов: в нем мы находим оценки и классификации, некоторые из которых наука использует до сих пор.
Итак, в природе сообщений, составляющих историю человечества, — быть правдивыми или ложными. Цель, которую ставит Ибн Х̱алдӯн, — определить причины ложности сообщений, вытекающие из самой их природы. Это даст возможность, говорит он, отличать истинные сообщения от ложных и предоставит историку надежный критерий, с помощью которого можно отобрать правильные сообщения, отсеяв те баснословные нелепицы, которыми пестрят книги истории (некоторые примеры см. в преамбуле к Книге I).
Причины ложности исторических сообщений распадаются на две части. Первыми Ибн Х̱алдӯн перечисляет те, что мы бы назвали субъективными. Хотя они описаны подробно (см. преамбулу к Книге I), тем не менее не представляют для арабского мыслителя подлинного интереса. Главное — объективная причина, которая заключается в незнании природы исторической действительности. Именно на устранение этой, объективной причины и направлены усилия Ибн Х̱алдӯна, именно ради этого он и создает свою науку — науку об ‘умра̄н.
606
Вот какова связь та’рӣх̱ «истории» и ‘умра̄н: наука об ‘умра̄н дает представителю «истории» (та’рӣх̱) надежный критерий отбора правильных исторических сообщений. К вопросу о том, каким именно образом действует этот критерий и как решается проблема соотношения общей закономерности и единичности исторического факта, мы обратимся позже.
Перейдем теперь ко второму вопросу: что представляет собой историческая действительность? Каким следует быть историческому сообщению, дабы соответствовать критерию истинности, выдвигаемому Ибн Х̱алдӯном?
Ответ на этот вопрос также дает определение «истории», приведенное в начале «Введения» (см. преамбулу к Книге I). Историческое сообщение, говорит Ибн Х̱алдӯн, повествует о «состояниях» (ах̣ва̄л, ед. х̣а̄л), а именно о состояниях, привходящих «в природу» того, что именуется термином ‘умра̄н5.
Задержимся на этом моменте.
Я перевожу ‘умра̄н словом «обустроенность». Утвердившийся в зарубежной, а частично и в нашей литературе перевод его словами «цивилизация» или «культура» представляется неудачным. Эти термины в любом случае не могут быть свободны от ценностных коннотаций (цивилизация противопоставляется дикости, а культура — варварству), а значит, они покрывают лишь один из двух семантических полюсов, тогда как термин ‘умра̄н принципиально нейтрален и включает в себя любые состояния человечества, обживающего и обустраивающего мир. Русское «обустроенность» к тому же очень близко к непосредственному смыслу арабского ‘умра̄н, имеющего корень ‘-м-р, производные от которого слова связаны с процессами строительства. Не менее важно и то, что содержание понятия ‘умра̄н никак не может быть, по моему убеждению, сведено к понятиям «цивилизация» или «культура», использующимся в западной философии и науке (дальнейшее обсуждение призвано раскрыть этот тезис), а потому выбрать новое, терминологически еще не маркированное слово в данном случае просто необходимо.
607
Итак, если исходить из определения Ибн Х̱алдӯна, историческая действительность представлена «состояниями обустроенности». Что же такое «состояние»?
«Состояние» (х̣а̄л) — один из терминов, широко употреблявшихся в различных областях теоретического знания классической арабо-мусульманской цивилизации, в том числе и в философии. Возникнув на заре ее развития (его активно использовали уже мутазилиты), он не мог не вобрать в себя многообразие оттенков в ходе длительной исторической эволюции. Вместе с тем во всех этих вариациях есть нечто существенное и повторяющееся. Лучше всего попытаться схватить это, прибегнув к понятиям единичного и общего, отдельного факта и устойчивого закона.
Данные оппозиции, взятые в самом общем виде, образуют, казалось бы, универсальную сетку, которой можно уловить суть термина, описывающего закономерную обусловленность вещи. Сможем ли мы это сделать в нашем случае?
Термин «состояние» (х̣а̄л) выражает нечто единичное: конкретную качественную характеристику конкретной вещи в конкретный момент времени; эта качественная характеристика зависит от внешних обстоятельств и, вообще говоря, не обладает устойчивостью в самой себе. Поэтому «состояние» может относиться к какому-то отрезку времени, в том числе минимальному — к единичному мгновению, и смениться уже в следующее мгновение.
Этот принципиально временной, а значит — казалось бы — неустойчивый характер «состояния» как будто заставляет поместить этот термин на полюсе единичного, случайного. Однако такой вывод был бы ошибкой: состояния, говорит Ибн Х̱алдӯн, обусловлены самой природой обустроенности; это состояния, которые она испытывает «сама по себе». Состояния, иначе говоря, закономерны.
Получается, что «состояние» не является общим, надвременным, — но вместе с тем о нем нельзя сказать, во всяком случае сказать с полным основанием, что оно случайно и зависит от привходящего и внешнего. Оно не является, как выразился бы западный философ, «присущим»: оно «привходит в» (йат̣ра’ ‘ала̄) природу обустроенности, говорит Ибн Х̱алдӯн, — и в то же время состояние закономерно (именно эту закономерность как критерий истинности и разыскивает арабский мыслитель), — но вместе с тем оно единично, не принадлежит сфере общего.
Открыв эту — как будто парадоксальную с точки зрения наших самых общих представлений о правильном категориальном «поведении» — природу понятия «состояние», мы можем обратиться и к другим свидетельствам. Так, Ибн Манз̣ӯр разъясняет х̣а̄л через два термина — кайфиййа «качество» и хай’а «структура, выстроенность», ставя их «через запятую», как синонимы: качественная определенность и структурная выстроенность вещи, казалось бы, принадлежащие разным полюсам (качества изменчивы, структура постоянна), оказываются однопорядковыми. Х̣а̄л имеет тот же корень, что тах̣аввул «превращение»: превращение как переход из одного состояния в другое подчеркивает неустойчивость последнего.
Мы видим, что парадоксальность понятия х̣а̄л связана с тем, что оно не попадает в сетку координат, выстроенных пересечением осей «общее-единичное», «закономерное-случайное». И дело не в каком-то небольшом «смещении»,
608
когда все можно было бы поправить незначительной корректировкой. Х̣а̄л не попадает в эту сетку в принципе, принадлежа как будто другому измерению; для него требуется другая, выстроенная заново и на иных основаниях (а не просто модифицированная) система координат.
К этому мы сейчас и приступим: попробуем выстроить систему базовых категорий Ибн Х̱алдӯна, обращая внимание на логику связей между ними. Мы тем самым переходим к ответу на третий из заданных вопросов: как образуется, как «делается» историческая действительность, представленная «состояниями обустроенности» мира?
Подсказкой в наших разысканиях послужит следующая формула Ибн Х̱алдӯна:
Общежитие (иджтима̄‘) и спаянность (‘ас̣абиййа) — как смесь для существа, составленного [из элементов] (Гл. II Отд. 11).
Здесь употреблены два термина, иджтима̄‘ и ‘ас̣абиййа. Я считаю их ключевыми для понимания категории ‘умра̄н. Рассмотрим их сперва как таковые, а затем поставим вопрос о логике их связи с «обустроенностью» (‘умра̄н) мира.
Я перевожу иджтима̄‘ как «общежитие», исходя из прямого звучания слов, образовавших этот компаунд: «общее житье», «общая жизнь»6. Такой перевод близок к прямому значению арабского иджтима̄‘ — «собрание». Это вполне согласуется и с терминологическим наполнением иджтима̄‘ в построениях Ибн Х̱алдӯна, который считает, что «человеческое общежитие» (иджтима̄‘ инса̄нийй) является «необходимостью» (д̣арӯра) в силу двух обстоятельств: в одиночку человек неспособен, во-первых, накормить, а во-вторых, защитить себя от диких животных. И то и другое возможно только в сотрудничестве, сообща: такая общность и дает возможность сохранить человеческую жизнь.
Итак, невозможность в одиночку сохранить жизнь в обоих аспектах составляет «необходимость» общежития. Отметим (это пригодится нам в дальнейшем), что речь идет о чисто логической, но не онтологической необходимости (последняя выражалась бы термином вуджӯб, а не д̣арӯра). Иначе говоря, верно, что без общежития не сохранится человеческая жизнь; однако самой этой невозможности сохранить жизнь в одиночку недостаточно для того, чтобы общежитие образовалось.
609
Итак, невозможность одиночного существования человека, о которой говорит Ибн Х̱алдӯн, — необходимое, но не достаточное условие образования человеческого общежития. Это обстоятельство, как нам предстоит убедиться, носит фундаментальный характер, и именно его столь часто недооценивают, рассматривая общую логику построений Ибн Х̱алдӯна.
Перейдем к разбору второго термина — ‘ас̣абиййа. Переводчики и исследователи Ибн Х̱алдӯна передают этот термин по разному: «кровно-родственный дух», «племенной дух», «групповое чувство», «социальная солидарность» и т. п., а некоторые оставляют и вовсе без перевода, отчаявшись найти подходящий эквивалент. Мне представляется, что в данном случае, как и во многих других, следует поступить иначе: дав «обычный», «языковый» перевод термина (т. е. отнесясь к нему как к обычному слову языка и не пытаясь найти в нашем терминологическом словаре подходящий эквивалент), наполнить его далее тем содержанием, которое в него вкладывает сам автор.
Я перевожу ‘ас̣абиййа словом «спаянность». Что касается его терминологического наполнения, то оно таково.
Естественным основанием спаянности служит родство: в природе человека, говорит Ибн Х̱алдӯн, переживать неудачи близких или угрозу их жизни как свои собственные. Поэтому спаянность естественным же образом убывает с убыванием родственной близости. Таким образом, спаянность не имеет никаких иных причин, помимо человеческой природы: как и общежитие, спаянность естественна для людей.
Раскрывая содержание «спаянности», Ибн Х̱алдӯн основывается на классическом понимании этого термина. Однако оно служит ему лишь отправной точкой: он, во-первых, существенно расширяет содержание этого понятия и, во-вторых, столь же существенно меняет его оценку.
Спаянность разъясняется в классических арабских словарях как своеобразное «чувство локтя» в отношении ‘ас̣а̄ба (слово имеет тот же корень ‘-с̣-б), т. е. группы родственников по мужской линии, которыми человек постоянно окружен и которые всегда вступаются друг за друга и образуют как будто единый «кулак». ‘Ас̣абиййа поэтому является чувством гнева, которое мгновенно и без рассуждения вспыхивает в человеке, если его ‘ас̣а̄ба (группе, к которой он принадлежит) угрожает какая-либо опасность, и заставляет его биться за чужую жизнь (за свою ‘ас̣а̄ба он йата‘ас̣с̣аб — еще одно слово с тем же корнем,— т. е. вступается, «встает горой» не задумываясь) и чужие интересы как за свои собственные без раздумий вплоть до возможной гибели.
Исходя из этого, легко понять, почему классический ислам однозначно и резко осуждает спаянность-‘ас̣абиййа. Основной акцент исламской правовой и этической мысли — на «намерении» (ниййа), которое должно сопровождать любое действие. Намерение не может не быть, во-первых, продумано и сформировано самим человеком, а во-вторых, рационально обосновано: цели и интересы, на удовлетворение которых направлено действие, должны иметь благой характер
610
и всегда идти на пользу человеку. ‘Ас̣абиййа действует в прямо противоположном направлении, лишая возможности рассуждать о цели действия и заставляя жертвовать жизнью (т. е. самым ценным) во имя не продуманных самостоятельно и, возможно, бессмысленных или вредных целей. В текстах классической эпохи ‘ас̣абиййа отождествляется либо связывается с периодом джа̄хилиййа «[доисламского] невежества» (ислам же ассоциируется, как выразился Ф. Розенталь, с «торжеством знания»), с з̣улм «притеснением» (ислам — с ‘ада̄ла «справедливостью»), с иттиба̄‘ ал-хава̄ «следованием страстям» (ислам — с продуманностью любого действия и пользой от него, тогда как страсти навлекают, как правило, бедствия), с ба̄т̣ил «пустым», «ложным» (ислам — с ал-х̣ак̣к̣ «истиной»). Как видим, оппозиция выражена как нельзя более ясно, и это правило резко-отрицательного отношения к ‘ас̣абиййа в классический период не имеет, по-видимому, существенных исключений7. ‘Ас̣абиййа ассоциировалась с прошлым, с тем, что преодолено исламом и не должно вернуться, а потому даже сам термин крайне редок в текстах классического периода: он обсуждается скорее как воспоминание, а не как реальность8.
На этом фоне рассуждения Ибн Х̱алдӯна об ‘ас̣абиййа, их тональность, даже сама частотность употребления этого термина во Введении, выглядят совершенно революционно. Ведь если спаянность естественна для человека, бессмысленным оказывается весь проект классического ислама по ее преодолению, и позиция Ибн Х̱алдӯна по импликации не может не означать вызов классическому мировоззрению9. Это, как мне представляется, — еще одно свидетельство постклассического характера ибн-халдуновской мысли.
Вернемся немного назад и вспомним, что естественной для человека является потребность в пище и способность эту потребность удовлетворить — но не в оди
611
ночку (Гл. I Введ. 1). Из этой естественной (т. е. исходной, предзаданной, природной, не определенной никакими обстоятельствами) диспозиции вытекает необходимость (д̣арӯра) человеческого общежития. Я говорил, что эта необходимость носит логический характер: она составляет необходимое, но не достаточное условие. Зададим теперь вопрос: что превращает его в необходимое и достаточное; что делает логическую необходимость онтологической?
«Спаянность необходима (д̣арӯриййа)», говорит Ибн Х̱алдӯн (Гл. III Отд. 28); спаянность, таким образом, обладает точно таким же статусом логической необходимости, как и общежитие. Если общежитие и спаянность, согласно Ибн Х̱алдӯну, подобны смеси первоэлементов для существа, из такого смешения возникающих, значит, «встреча», «соединение» двух элементов, каждый из которых по отдельности обладает только логической необходимостью, превращает эту логическую необходимость в онтологическую, делает достаточные условия еще и необходимыми. Так рождается ‘умра̄н «обустроенность».
Рассмотрим подробнее этот статус необходимости, которой обладает спаянность, а также процесс «взаимодействия» спаянности и общежития.
Рассуждая и об общежитии, и о спаянности, Ибн Х̱алдӯн очень часто употребляет выражения вроде «в себе самом», «со стороны существования», «по природе». Что означают подобные выражения?
Казалось бы, ответ очевиден. Говоря так, он стремится найти самодостаточную, далее не сводимую основу того, что собирается описывать, иначе говоря, основу «состояний обустроенности мира». Наш вопрос, следовательно, может быть переформулирован следующим образом: что именно составляет такую основу?
Но так ли уж трудно ответить на него? Прочитаем внимательнее текст «Введения». Если «человек по природе — существо полисное» (Гл. I Введ. 1), если история «народов различается по тому, как различаются их способы добывания средств к жизни» (Гл. II Отд. 1), если в зависимости от обилия или недостатка питания люди меняются физически и духовно (Гл. I Введ. 5), а географическими условиями существования определяются их нравы (Гл. I Введ. 3-4), — если все это так, разве не очевидно, что общежитие, т. е. сотрудничество в добывании средств пропитания и защите жизни, составляет такую основу, которая проявляет себя по-разному в зависимости от естественных (географических) условий обитания? Далее, если сначала приходится ограничиваться производством необходимого продукта, а затем, по мере развития, появляется возможность перейти к дополнительному, причем такая эволюция объясняет и переход от начальной стадии развития (бада̄ва «жизнь на открытых пространствах») к последующим стадиям обустроенности (х̣ад̣а̄ра «жизнь на огороженных пространствах»)10 (Гл. II Отд. 1, 3), — то разве не очевидно,
612
что материальной стороной обеспечивается развитие форм цивилизации и определяется ход и порядок ее эволюции? Основываясь на приведенных аргументах и приняв подсказываемую ими — и как будто совершенно очевидную — точку зрения, мы увидим в Ибн Х̱алдӯне и основателя политической экономии, и проповедника материалистического понимания истории, и своеобразного антрополога. Эта точка зрения, повторю, исходит из того, что материальная сторона жизни является самодостаточным основанием для развития цивилизации, а ее учет — для нашего анализа этого развития.
Едва убедившись в правоте занятой позиции и обнаружив в части разделов первой главы и начальных разделах второй главы полное ее подтверждение, мы неожиданно сталкиваемся с тем, что Ибн Х̱алдӯн, вместо того чтобы развить так удачно найденную линию и показать, как же именно «состояния обустроенности» определяются материальными факторами жизни людей, неожиданно целиком меняет тему и начинает говорить о спаянности.
Уже в Отд. 7 Гл. II мы узнаем, что даже самые простые, начальные формы обустроенности мира, а именно жилища в пустыне, невозможно организовать без спаянности. Тему спаянности в разных ее проявлениях Ибн Х̱алдӯн будет обсуждать до конца второй главы, но уже с самого начала считает нужным сделать общее заявление. В любом деле, говорит он, «которое люди решат совершить: дать пророчество, устроить царство, выступить с [религиозным] призывом», невозможно обойтись без спаянности (Гл. II Отд. 7). Основание, на котором делается этот вывод, выдержано в стиле Ибн Х̱алдӯна: оно выглядит очень простым, незамысловатым и вместе с тем представляет собой твердо действующую закономерность, поскольку отсылает к естественному порядку вещей. Любое дело, говорит Ибн Х̱алдӯн, будет сталкиваться с упрямым неприятием людей, ибо они по природе своей противятся всякому начинанию. Такое сопротивление приходится преодолевать в битве, а для победы в битве необходима спаянность.
Хотя Ибн Х̱алдӯн употребляет тот же термин ‘ас̣абиййа (который я передаю тем же русским «спаянность»), речь теперь идет уже не о том, что мы обсужда
613
ли, начав говорить о содержании этого термина. В первом понимании спаянность представляет собой естественное чувство родственной близости, тогда как во втором — нечто вроде воодушевленности во имя дела, такой воодушевленности, которая не имеет собственного естественного основания11. Спаянность в первом смысле всегда присуща людям и потому естественна, во втором — может наличествовать, а может отсутствовать. И та и другая спаянность необходима, причем в силу естественных причин, хотя эти причины разные. Наконец, спаянность в первом смысле представляет собой, безусловно, коллективное чувство (человек, не имеющий родни, не может обладать и спаянностью), тогда как во втором — принципиально индивидуальна и только может, но не обязательно должна, принимать коллективную форму. Индивидуальной ‘ас̣абиййа обладает пророк, ведущий за собой людей; только себе оставляет ‘ас̣абиййа единоличный властитель, «отсекая» от нее всех прочих (см. Гл. III Отд. 13, 14). В этом значении термин ‘ас̣абиййа скорее стоило бы переводить как «рьяность» или «истовость», и только ради единообразия передачи ибн-халдуновской терминологии я использую везде слово «спаянность».
Вместе с тем было бы, с моей точки зрения, неправильным считать, что мы в самом деле имеем два разных значения, два разных понятия, только по недоразумению обозначенных одним словом.
Если говорить о чисто языковой стороне дела, то в арабском языке ‘ас̣абиййа передает оба названных значения в их слитости: это нечто вроде «истовой спаянности», или «истовости-и-спаянности»12. Поэтому арабского читателя употребление одного и того же термина ‘ас̣абиййа в двух контекстах не так смущает, как читателя русского перевода: здесь надо говорить скорее о смещении акцентов внутри одной большой области значения, нежели о другом значении.
Что касается концептуальной стороны, то в обоих случаях речь идет о том, что можно передать словами вроде «воодушевление», «подъем духа». Так или иначе, это вещь нематериальная по своей сути и, более того, не имеющая материальных оснований. В связи с этим заметим, что ничего похожего на ‘ас̣абиййа Ибн Х̱алдӯн не обсуждает в тех разделах первой главы, где говорит о «нравах» (ах̱ла̄к̣) людей, прямо определяющихся климатическими условиями проживания, т. е. материальными факторами их существования.
Вот почему термин ‘ас̣абиййа передает нечто вроде «общественного духа». Для начальных состояний обустроенности, которые Ибн Х̱алдӯн именует термином бада̄ва, этот общественных дух в той или иной степени охватывает всех членов социума, за небольшим исключением (см. Гл. II Отд. 12 о клиентах и союзниках), тогда как на следующих, именуемых х̣ад̣а̄ра, сфера его действия сужается, иногда вплоть до одного человека. Взяв древний термин ‘ас̣абиййа и придав ему новое
614
звучание, Ибн Х̱алдӯн смог описать реалии всех стадий «обустроенности мира», как начальных (бада̄ва), так и продвинутых (х̣ад̣а̄ра).
Какого же рода эти реалии? Мне представляется, что уже не раз употребленные слова, связанные с понятием душевного (или духовного — в данном случае можно говорить о том и о другом), удачно передают суть дела. В понятии ‘ас̣абиййа Ибн Х̱алдӯн схватывает нечто вроде общественной «души», которая придает жизнь общественному «телу» — т. е. тому, что схватывается в понятии иджтима̄‘ «общежитие».
Таким образом, мы имеем общественное «тело» и общественную «душу», которые, соединяясь (вспомним формулу «общежитие и спаянность — как смесь для существа, составленного из элементов»), и дают то, что можно было бы назвать «жизнедеятельность социума». Мы почти ответили на вопросы, поставленные в начале, так что осталось сделать всего один шаг. Необходимо понять, как именно соединяются общественное тело и общественная душа, иджтима̄‘ и ‘ас̣абиййа, и что именно получается в результате такого соединения.
Казалось бы, и на этот вопрос ответ дать нетрудно. Метафора тела и души вполне объясняет дело: речь идет о социуме, в жизнедеятельности которого мы видим и материальную, и духовную сторону. Если сперва мы разглядели в Ибн Х̱алдӯне политэконома и антрополога, то теперь становится ясно, что тогда нам бросились в глаза лишь отдельные стороны учения, которое следует именовать социологическим. Я думаю, что такое (или примерно такое) рассуждение обосновывает ход мысли тех, кто называет Ибн Х̱алдӯна отцом социологии или социальной психологии13.
Любая метафора дает в лучшем случае приблизительное представление о существе дела. Попробуем эту метафору концептуализировать.
Ключевым станет уже сделанное наблюдение о том, что и общежитие, и спаянность (наши метафорические и одновременно гипотетические тело и душа социума) обладают статусом д̣арӯра — логической, но не онтологической необходимости. Это подсказывает сама терминология: Ибн Х̱алдӯн устойчиво говорит не о вуджӯб, что мы бы трактовали именно как само-стоятельность, само-достаточность, т. е. онтологическую необходимость, а о д̣арӯра — «неизбежности», т. е. о том, что непременно должно присутствовать, но что не обеспечивает само по себе собственной устойчивости. Однако терминология может употребляться непоследовательно или ей может быть придан новый смысл (и то и другое не такая уж редкость для Ибн Х̱алдӯна), поэтому стоит присмотреться к этим понятиям повнимательнее.
Общежитие необходимо людям потому, говорит Ибн Х̱алдӯн, что без него они не смогут сохранить физическое существование. Спаянность необходима им потому, что без нее они не смогут совершить ни одного общественно значимого дела. Речь, иначе говоря, идет о том, что если люди физически сохранились, значит, они должны были жить сообща; если они совершили общественно значимые
615
дела, значит, их должна была объединять спаянность. Вот в чем смысл «необходимости» того и другого: это — необходимость, выявляемая, так сказать, задним числом, она видна, если событие состоялось, но она не обеспечивает выполнение условий, выраженных в наших гипотетических «если».
Это означает, что общежитие возникает не в силу названной потребности и необходимости: сама по себе она не влечет совместную жизнь людей. Напротив, общежитие должно уже иметься, состояться, чтобы эта потребность и необходимость вполне проявила себя. Точно так же общественно значимые дела совершаются не потому, что нуждаются для своего завершения в спаянности, и спаянность возникает не потому, что она необходима для совершения общественно значимых дел. Напротив, общественно значимые дела должны состояться, чтобы названная необходимость вполне проявила себя.
Таким образом, ни материальная, ни духовная сторона жизни социума не содержат в себе собственной необходимости. Но что же тогда составляет основание обустроенности мира; в чем состоит та природная обусловленность ее состояний, которую разыскивает Ибн Х̱алдӯн?
Материальная и духовная стороны жизни социума не определяют ни сами себя, ни социум в целом. Может быть, дело обстоит так, что они вместе составляют основание социальной жизни?
Такой вывод как будто напрашивается сам собой. Но для того, чтобы совместно составлять основание социума, необходимо как минимум быть: части составной причины должны наличествовать для того, чтобы причина произвела свое действие. Однако внутри самих себя, как мы только что убедились, материальная и духовная стороны не содержат собственных оснований; Ибн Х̱алдӯн не указывает и ни на какие внешние основания подобного рода. Материальная и духовная стороны не могут соединяться как что-то уже-наличное, уже-бытийное, чтобы произвести свое действие и стать совместной причиной развития социума14.
Мы подошли к поворотной точке нашего исследования. Попробуем теперь, обратившись к тексту Ибн Х̱алдӯна и прослеживая его логику работы с понятиями иджтима̄‘ и ‘ас̣абиййа, понять, какого рода отношение их связывает.
Общежитие является объективной потребностью для людей, и они, если только испытывают желание сохранить свою жизнь (а это естественно для всех живых существ), должны жить и работать совместно, практикуя вложенную в них (по утверждению Ибн Х̱алдӯна) Богом способность добывать пищу и изготовлять орудия труда и боя. Однако общежитие не состоится, если люди лишены спаянности. Это касается самых простых форм обустроенности мира — «жизни на открытых пространствах» (бада̄ва). Без спаянности, говорит Ибн Х̱алдӯн, такая
616
жизнь устроена быть не может — она будет тут же разрушена (Гл. II Отд. 3). Более того, описание черт характера тех, кто живет такой жизнью (см. Гл. II Отд. 16 о мужестве), позволяет сделать вывод, что все эти черты так или иначе связаны со спаянностью людей, с их чувством единения и отгороженности от всего остального. Именно это чувство позволяет не только сохранить, но и устроить жизнь «на открытом пространстве» — там, где необходима «суровость» (Гл. II Отд. 3), привычка к тяготам, нежелание роскоши и изнеженности, горение «общей славой» (Гл. III Отд. 13).
Общежитие, таким образом, зависит от спаянности. Оно в определенном смысле производится спаянностью — в том смысле, что спаянность, наличествуя, тем самым означает и наличие общежития. Если мы берем спаянность в изначальном смысле, как «истовую-заботу-о-родственниках», то она естественным образом присутствует в людях. Наличествуя, она благодаря своему наличию переводит логическую необходимость общежития в онтологическую: общежитие также становится наличным. Так образуется экономическая жизнь «земледельцев и животноводов», которую Ибн Х̱алдӯн описывает в Отделе 1 Главы II. Если взять спаянность в другом, расширительном смысле, как «истовость-ради-свершения», — то это чувство, сохраняя свою естественную основу, закономерным (не зависящим от воли конкретного человека) образом обеспечивает возникновение «жизни на огороженном пространстве» (х̣ад̣а̄ра) и ее эволюцию (см. Гл. II Отд. 17, Гл. III Отд. 14, 17). И в том и в другом случае наличие спаянности как будто «ведет за собой» и наличие общежития, причем именно такого, которое соответствует данному виду спаянности. Мы теперь видим, что Ибн Х̱алдӯн не случайно вкладывает в один термин эти два, хотя и связанные, но все же различающиеся значения: два вида, или уровня, спаянности характерны для тех двух видов, или уровней, обустроенности мира, которые он называет бада̄ва («жизнь на открытых пространствах») и х̣ад̣а̄ра («жизнь на огороженных пространствах»).
Итак, можно зафиксировать следующее. Спаянность благодаря своему наличию переводит логическую необходимость общежития в онтологическую, делая и его наличным. При этом вид, или уровень, общежития, его организации соответствует виду, или уровню, спаянности. Это взаимное соответствие типа спаянности и типа общежития и является обустроенностью мира. В наиболее укрупненном виде можно говорить о двух типах такого взаимного соответствия спаянности и общежития, т. е. о двух типах обустроенности: «жизни на открытых пространствах» (бада̄ва) и «жизни на огороженных пространствах» (х̣ад̣а̄ра).
В соотношении спаянности и общежития, которое мы только что описали, ведущая роль принадлежит спаянности. Однако не в том смысле, что спаянность производит общежитие, или влечет бытие общежития, когда бы спаянность могла пониматься в качестве причины общежития так, как причина трактуется в русле аристотелевской традиции. Ведь общежитие имеет собственное, независимое от спаянности основание, которое, как мы видели, носит природный характер. Но все дело в том, что это основание обеспечивает только логическую необходимость общежития:
617
оно не влечет его существования ни в каком смысле. Ведь если нет спаянности, нет и собщества людей, а значит, они, не имея возможности сохранить свою жизнь (такова ведь природная закономерность), просто-напросто не существуют. В силу этого же спаянность нельзя считать причиной, актуализирующей общежитие: нет никакого самостоятельного субстрата, который вне спаянности мог бы выступать носителем потенциального общежития, дабы спаянность лишь актуализировала его.
С другой стороны, о спаянности можно говорить только в том случае, если люди живут сообща, т. е. только в том случае, если имеется тот или иной тип их общежития. Это очевидно даже для спаянности в изначальном смысле, спаянности как чувстве родственной близости: нельзя «стоять горой» за живущих бок о бок с тобой родственников, если они не живут вместе с тобой, а значит, если нет какой-то материальной формы общежития. Это же верно и для второго типа спаянности: без прогрессирующих видов экономической деятельности невозможна и эволюционирующая спаянность правящей государственной элиты. При этом спаянность вовсе не продуцируется общежитием: общежитие не служит причиной спаянности ни в каком из тех смыслов, которые мы сочли бы релевантными, ориентируясь на понимание причины в западной философии.
Таким образом, хотя спаянность имеет непосредственное природное, биологическое основание, это основание, как и в случае общежития, обеспечивает только ее логическую, но не онтологическую необходимость. Чтобы логическая необходимость спаянности превратилась в онтологическую, чтобы спаянность обрела бытие, надо, чтобы наличествовало и общежитие. При этом очевидно, что между типом общежития и типом спаянности имеется соответствие — то самое, о котором мы говорили, рассматривая зависимость общежития от спаянности.
Спаянность и общежитие представляют собой две как будто независимые стороны. Мы можем вслед за Ибн Х̱алдӯном описывать спаянность, словно и не обращаясь к понятию общежития, или описывать общежитие, как будто и не обращаясь к понятию спаянности. Такое независимое описание, однако, невозможно провести до конца; на каком-то этапе нам приходится привлечь второе понятие для того, чтобы завершить описание первого. Мы не ошибемся, если скажем, что спаянность и общежитие служат завершением друг друга. В этом смысле — спаянность завершается общежитием, а общежитие завершается спаянностью — можно говорить об их переходе друг в друга.
Этот тот особый тип перехода, который не означает «снятия», «оставления», «уничтожения», «аннигиляции» отправной точки перехода ради искомой его точки. Напротив, переход взаимен, а это означает, что спаянность и общежитие фундируют друг друга, будучи условием существования друг для друга. В этом, именно в этом, особом смысле можно говорить о том, что спаянность и общежитие служат причинами друг для друга: при таком понимании причинность взаимна, а не линейна.
Итак, спаянность и общежитие, взятые не сами по себе, а во взаимном переходе, взаимном онтологическом фундировании, остаются несводимыми одна
618
к другой и в этом смысле внешними одна для другой сторонами. Взаимный переход преодолевает замкнутые пределы, — однако это трансцендирование осуществляется не так, что одно из пары понятий само по себе становится другим или причащается другому. Замкнутость и внеположность спаянности и общежития предполагают, что их взаимный переход является чем-то другим в отношении их самих, — но «другим» в особом, конечно, смысле, поскольку такой переход связывает их воедино.
Это третье понятие, обеспечивающее взаимную связанность и взаимную завершенность внеположных друг другу спаянности и общежития, — понятие «обустроенность» (‘умра̄н). Точнее даже, «обустраивание» как процесс — ведь ‘умра̄н служит масдаром (именем действия) глагола ‘амара «населять», «строить», а потому передает значение действия так же, как и значение результата этого действия. Процесс «обустраивание» — это связанность двух его сторон, «общежития» и «спаянности». С этой точки зрения, говоря об обустраивании (или обустроенности) мира, мы говорим о взаимном соответствии спаянности и общежития. Раскрыть обустраивание (или обустроенность) мира — значит раскрыть конкретную спаянность, ее конкретный вид, показав, далее, тот конкретный вид общежития, который ей соответствует; это значит, таким образом, показать обоюдное соответствие спаянности и общежития, взаимно завершающих друг друга.
Именно такое соответствие Ибн Х̱алдӯн и именует «состояние» (х̣а̄л). Он указывает на состояния обустроенности (а не состояния чего-то другого, скажем спаянности или общежития) как на предмет своей науки, поскольку именно обустроенность является взаимным соответствием, взаимным переходом спаянности и общежития. Вместе с тем любое состояние обустроенности раскрывается через описание, более или менее подробное, спаянности и общежития, которые (если взять их в качестве смысловых целостностей) внеположны друг другу. Мы можем сказать, что состояние обустроенности мира — это состояние спаянности-и-общежития, если под этой синтаксической формой понимать описанный переход, взаимную завершенность спаянности и общежития15.
В этом смысле состояние обустроенности обобщает спаянность и общежитие. Это общее, однако, не таково, что обобщаемое служит для него чем-то частным (захватывая только часть общего) или единичным (эксплицируя его не полностью или добавляя к существенному преходящее). Не так. Это общее, взятое как понятие (понятие «обустраивание», «обустроенность»), полностью внеположно тому, что оно обобщает. Спаянность и общежитие выступают в парадигматической роли действователя и претерпевающего для процесса обустраивания.
619
Понятие «обустроенность» является совершенно простым, оно выражает сам факт взаимного перехода, взаимной зависимости спаянности и общежития. Именно потому, что спаянность и общежитие полностью внеположны друг другу, но переходят друг в друга, понятие, их обобщающее, также внеположно им. Как прост, не-сложен сам факт взаимного перехода, так же простым, не-сложным является понятие обустроенности — раскрывающее себя через сколь угодно сложное и подробное описание спаянности и общежития в их взаимной согласованности.
Взаимная согласованность, взаимный переход спаянности и общежития налагает на них, если можно так выразиться, определенные ограничения, выдвигает к ним определенные требования: они должны быть такими, чтобы переход состоялся. В этом смысле взаимный переход не является случайным, он не может связывать какую угодно спаянность с каким угодно общежитием. Конкретный, единичный тип спаянности связан с конкретным, единичным типом общежития, и сам факт связанности является столь же единичным, — хотя отнюдь не случайным. Обусловленный, как говорит Ибн Х̱алдӯн, самой «природой» двух связываемых сторон, спаянности и общежития, он закономерен, — хотя и не представляет собой общий закон, сформулированный в общем виде.
Такое взаимное соответствие спаянности и общежития в его многообразии и является «состояниями» (х̣а̄ла̄т, ед. х̣а̄л) обустроенности. Мы теперь понимаем, почему Ибн Х̱алдӯн говорит именно о «состояниях», а не о, например, «явлениях» или «феноменах»16. Является — сущность, и если бы «состояния» Ибн Х̱алдӯна были в самом деле «явлениями», за ними надлежало бы разглядеть некую сущность, их объясняющую. Но не так построена наука Ибн Х̱алдӯна, и он вовсе не разыскивает сущность явлений. Для него важно описать, в той мере подробности, в какой он считает нужным, типы спаянности и соответствующие им типы общежития. Устанавливая их соответствие одно другому, он тем самым описывает обустроенность мира в ее различных состояниях. Поэтому он и говорит о состояниях, что они «привходят в» (йат̣ра’ ‘ала̄) обустроенность. Если бы речь шла о науке, построенной как разыскание сущности явлений, то такой оборот, употребленный в самом начале текста «Введения», при определении того, что такое наука об обустроенности мира, означал бы, что Ибн Х̱алдӯн собирается отыскивать нечто случайное, акцидентальное: именно акциденции «привходят в» субстанцию. Однако спаянность и общежитие со всеми их деталями, подробностями, относятся к обустроенности не как акциденции к субстанции, поэтому оборот «привходят в», означая единичность, вместе с тем имплицирует закономерность, а не случайность.
Как уже говорилось, есть два принципиально различных типа обустроенности: «жизнь на открытых пространствах» (бада̄ва) и «жизнь на огороженных пространствах» (х̣ад̣а̄ра). Это именно типы обустроенности, а не общежития или
620
спаянности. Однако «обустроенность» — абсолютно простое понятие, раскрываемое через спаянность и общежитие в их взаимном соответствии. Для каждого типа обустроенности Ибн Х̱алдӯн указывает свой тип спаянности и соответствующий ему тип общежития. Для жизни на открытых пространствах это непосредственное родственное чувство спаянности и производство только необходимого продукта. Для жизни на огороженных пространствах это спаянность элиты, эволюционирующая от родственных связей к неродственным и, наконец, к узурпации спаянности единоличным правителем, тогда как тип общежития представлен производством продукта сверх необходимого, также эволюционирующим в сторону все большего избытка, превышения физических потребностей.
Подробное описание эволюции спаянности, характерной для второго типа обустроенности, дает нам стадии эволюции государства. Поскольку эволюция спаянности является закономерным процессом, не зависящим от воли отдельных людей, то и эволюция форм государства также закономерна (см. Гл. II Отд. 18, Гл. III Отд. 15, 17). Не менее, если не более подробно Ибн Х̱алдӯн описывает и общежитие, характерное для второго типа обустроенности, во всей его эволюции и деталях. Но все это — не что иное, как описание именно обустроенности, понимаемой как взаимное соответствие двух сторон, спаянности и общежития.
Таким образом, историческая действительность, о которой a priori способна поведать созданная Ибн Х̱алдӯном наука об обустроенности мира, представлена состояниями этой обустроенности, образованными соответствием спаянности и общежития, которые в большей или меньшей степени детализации раскрыты самим Ибн Х̱алдӯном или могут быть раскрыты, как он предполагает17, теми, кто последует за ним по проложенному им пути. Сличение исторического сообщения с таким знанием дает возможность либо отвергнуть сообщение как ложное (если оно не соответствует этому знанию), либо принять его как истинное (если оно согласно с ним) и потому возможное. Установить истинность исторических сообщений как их возможность — вот что, как мне представляется, находит Ибн Х̱алдӯн в качестве «плода» своей науки (см. преамбулу Книги I)18.
Мне остается сказать несколько слов об основаниях, которыми конституировано единство ибн-халдуновской науки и его соотношение с собственной множественностью.
Соотношение между общежитием и спаянностью хорошо описывается категориальной парой з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое». Это — одна из двух (наряду с парой ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь») фундаментальных метакатегориальных пар
621
классической арабской теоретической мысли. Общежитие, материально-телесная сторона, служит в этой паре явным, тогда как спаянность, нематериально-духовная сторона, — скрытым. Отношение между з̣а̄хир и ба̄т̣ин, явным и скрытым, является отношением противоположностей. Это отношение, а также предполагаемая им трактовка противоположностей и их соотнесенности, равно как трактовка понятия, преодолевающего их противоположенность и служащего для них общим, было неоднократно описано мной как в общетеоретическом плане, так и на примере конкретных терминологических «гнезд». Мысль Ибн Х̱алдӯна демонстрирует устойчивость этого фундаментального логико-смыслового «механизма». Ибн Х̱алдӯн — мыслитель постсредневековый, однако отработанные в классический период логико-смысловые механизмы остаются безусловно релевантными для организации смыслового пространства его учения.
Вторая из двух упомянутых метакатегориальных пар классической арабской мысли, пара ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь», также имеет прямое отношение к выстраиванию ибн-халдуновской науки. Соотношение между двумя основными стадиями обустроенности — бада̄ва «жизнью на открытом пространстве» и х̣ад̣а̄ра «жизнью на огороженном пространстве» — строится как отношение между ’ас̣л «основой» и фар‘ «ветвью».
Поскольку отношение бада̄ва-х̣ад̣а̄ра у Ибн Х̱алдӯна — это отношение ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь», то общее понимание категорий ’ас̣л и фар‘ в классической арабской мысли имеет существенное значение для понимания соотношения между двумя фазами обустроенности (см. выше, с. 142—145 и 506—510).
Отношение между ’ас̣л «основой» и фар‘ «ветвью» — это отношение предшествования. Основа всегда идет прежде ветви, причем это «прежде» трактуется, как правило, в хронологическом смысле. От основы возможен переход к ветви, переход либо логический, либо логический и одновременно генетический. Это значит, что основа не обязательно порождает ветвь, давая ей существование (хотя это отнюдь не исключено), однако, если две вещи находятся в отношении «основа-ветвь», от одной можно перейти к другой и наоборот. Такой переход связан с наращиванием (при переходе «основа⇒ветвь») или, наоборот, с потерей (переход «ветвь⇒основа») содержания. Ветвь всегда богаче основы по своему содержанию. Наращивание такого богатства служит достаточным основанием для осуществления перехода от основы к ветви (а его потеря — для перехода от ветви к основе), на наличие которого классическая арабская мысль неизменно указывает.
Основа имеет безусловное преимущество в сравнении с ветвью. Предшествуя ветви, она более устойчива: ветвь может исчезнуть, а основа остаться, но не наоборот. Одна основа может иметь много ветвей, причем из «ответвленного» состояния вещь может вернуться к «основному» (т. е. более раннему и более простому), а затем «ответвиться» вновь в том же или ином виде.
Эти соображения помогут понять тональность рассуждений Ибн Х̱алдӯна о х̣ад̣а̄ра как «ветви» и бада̄ва как ее «основе». В Отделе 3 Главы II заявлено
622
общее положение о том, что жизнь на открытом пространстве — основа по отношению к последующей жизни на огороженном пространстве. Согласно правилам соотношения «основа-ветвь», х̣ад̣а̄ра как ветвь должна быть богаче своей основы-бада̄ва. В том, что касается явной (з̣а̄хир) стороны соотношения «общежитие-спаянность», дающего «обустроенность», такое наращивание ветви в сравнении с основой очевидно. Наиболее сжато оно выражается как производство дополнительного продукта, превышающего необходимый, а развернуто — в описании всех тех усовершенствований материальной жизни, которые сопровождают переход от проживания на открытой местности к городскому укладу. Что касается скрытой (ба̄т̣ин) стороны этого соотношения, т. е. спаянности, то и тут налицо определенные изменения. Спаянность из своей непосредственно-родовой ипостаси эволюционирует в сторону создания объединений людей по другим признакам, прежде всего — по признаку общих занятий или общего дела, о чем говорилось выше.
Основа устойчивее ветви, как если бы она была «сильнее» ее. В соперничестве бада̄ва и х̣ад̣а̄ра неизменно побеждает первая. «Основное» состояние имеется всегда, тогда как «ответвленное» может быть, а может и перестать существовать. Именно так и происходит в жизни государств, которые, проходя фазы развития, полностью исчерпывают возможности х̣ад̣а̄ра и прекращают существование. Представления Ибн Х̱алдӯна о судьбе государств навеяны не только политической реальностью его времени, они объясняются не просто его «пессимизмом», как считают некоторые исследователи; в самом своем фундаменте они таковы потому, что именно так выстроено отношение «основа-ветвь» в классической арабской мысли.
Ветвь менее ценна в сравнении со своей основой, несмотря на то что возникает закономерно и содержание имеет более богатое, нежели основа. Этим, на мой взгляд, объясняется тот факт, что Ибн Х̱алдӯн говорит о материальном развитии, сопровождающем городскую жизнь, как о чем-то хотя и совершающемся закономерно, но совсем не обязательном, как о чем-то, что происходит если не напрасно, то во всяком случае без твердой цели. В этом нетрудно убедиться, перечитав те разделы «Введения», где он описывает городские усовершенствования и изыски.
Ветвь не имеет устойчивости в самой себе, она «опирается» на свою основу. Это объясняется тем, что ветвь — это основа, дополненная чем-то; утеряв то, что она получила от основы, ветвь утрачивает возможность своего существования.
Именно это и происходит в жизни государства. Это объясняется, правда, не явной (общежитие), а исключительно скрытой (спаянность) стороной отношения, образующего ‘умра̄н «обустроенность». Во «Введении» (см. [Ибн Халдун 2008]) многократно повторена мысль о том, что эпоха х̣ад̣а̄ра (= эпоха государства) — это эпоха постепенного отмирания спаянности в том виде, в каком она была характерна для бада̄ва. Спаянность эволюционирует; но она не просто эволюционирует, она теряет те свои черты, которые имела в эпоху бада̄ва. Таким
623
образом, ветвь, т. е. х̣ад̣а̄ра, утрачивает то, что должно иметься в ней непременно: свою основу. В том, что касается общежития, дела обстоят благополучно, и прибавочный продукт производится сверх необходимого; таким образом, ветвь и имеет в своем составе то, что является основой, и наращивает над ней нечто большее19. Но в том, что касается спаянности, этого не наблюдается. Когда основа спаянности исчезает вовсе, когда на этапе х̣ад̣а̄ра и государь, и все его окружение полностью утрачивает характерную для бада̄ва спаянность — тогда государство как ветвь, оставшаяся без основы, гибнет.
Таковы только основные моменты, касающиеся соотношения «основа-ветвь» применительно к ибн-халдуновской теории; полное их описание — дело будущего исследования.
Завершая, я хочу вернуться к вопросу, с постановки которого мы начали; собственно, все это рассуждение было не более чем попыткой на этот вопрос ответить. Наука, которую основал Ибн Х̱алдӯн, действительно является единой наукой. Сам арабский ученый совершенно точно указывает ее предмет: ‘умра̄н ал-‘а̄лам «обустраивание мира». Науку конституирует не только собственный предмет, но и методология его раскрытия. Эта методология ибн-халдуновской «науки об обустраивании мира» одновременно общая и особенная. Она общая постольку, поскольку использует характерные для классической арабской культуры процедуры противоположения и нахождения единства противополагаемого и соотнесения целого с частью, процедуры, которые были схвачены самой этой культурой в парах категорий з̣а̄хир-ба̄т̣ин «явное-скрытое» и ’ас̣л-фар‘ «основа-ветвь». Она особая постольку, поскольку предлагает эти процедуры, универсальные в пределах данной культуры, для осмысления особого предмета — обустраивания мира, никогда ранее не попадавшего в поле зрения теоретиков, как единства противоположностей: «общежития» (иджтима̄‘) и «спаянности» (‘ас̣абиййа). В своем развитии обустраивание мира показано Ибн Х̱алдӯном как «ветвление» (тафрӣ‘), т. е. образование фар‘ «ветви» от ’ас̣л «основы»: так бада̄ва «жизнь на открытом пространстве» дает х̣ад̣а̄ра «жизнь на огороженном пространстве».
Для целей сравнительного исследования (а любая попытка понимания инокультурного феномена является сравнительным исследованием, имплицитно или эксплицитно) важно подчеркнуть, что именно в этом, самом важном моменте — своей методологии — созданная Ибн Х̱алдӯном наука никак не совпадает ни с каким «аналогом», который мы могли бы обнаружить в западной мысли, — по той простой причине, что такие аналоги отсутствуют. Отсутствуют потому, что процедуры противоположения и нахождения единства противополагаемого и соотнесения целого с частью являются в арабо-мусульманской и западной
624
культурах разными и, что более важно, несводимыми друг к другу20. Близость ибн-халдуновских построений к положениям той или иной западной науки оказывается разочаровывающе поверхностной потому, что так находимое сходство ограничивается отдельными тезисами: логика их связи уже опирается на методологию, которая столь разительно отличает ибн-халдуновскую (как и в целом классическую арабскую) мысль от западной.
 |

|
 |
8.2.1 От доктрины к логосу: рождение арабской философской традиции* |

|
627
Где берет начало арабская философия1? Что такое арабская философия?12 Эти два вопроса взаимосвязаны настолько, что ответ на второй из них фактически является продолжением ответа на первый.
Казалось бы, ответы эти хорошо известны, и известны не только специалистам. Арабская философия появилась тогда, когда арабы познакомились с произведениями Аристотеля и других греческих философов. Арабская философия, следовательно, — это попытка философствовать на манер греков.
Эти ответы, растиражированные в учебниках и энциклопедиях, нельзя признать удовлетворительными. Они не убеждают, поскольку не указывают на собственные, внутренние мотивы философствования. Философия не может появиться в данной культуре просто потому, что какая-то другая культура уже создала философию и ее, следовательно, можно было бы позаимствовать. Даже если такое заимствование и произойдет, оно вряд ли будет способно создать большее, нежели изолированный островок чужеродной мысли, не связанный органически с воспринявшей эту мысль культурой. Между тем арабская философия2 вовсе не была таким островком; ее влияние на классическую арабскую культуру было достаточно широким, устойчивым и, главное, органичным. Чем же в таком случае является арабская философия и где следует отыскивать ее исток?
Я хочу предложить свой ответ на эти вопросы.
Начнем с прояснения доктринальной картины мира, которую предлагает ислам.
Исламское вероучение — это сумма текстов, принадлежащих разным авторам, создававшихся на всем протяжении исламской истории и всегда выражавших их собственную точку зрения, хотя и претендовавших на общезначимость и признававшихся таковыми в той или иной мере и тем или иным сегментом общей массы верующих. Именно в той или иной мере, более или менее: исламское вероучение — это не один текст, и оно, более того, несводимо к одному тексту.
628
Попытка систематически представить исламское вероучение вообще была бы очень ответственным научным мероприятием. И если говорить всерьез, то нужно проводить фундаментальные исследования, результатом которых стали бы увесистые тома, чтобы охватить развитие исламского вероучения от его истоков до настоящего времени.
Вместе с тем имеется некое «общее пространство» для этой суммы текстов, некие несомненные основоположения. Именно о таких общепризнанных положениях, об основоположениях, я и буду говорить. Это — те инвариантные тезисы, которые заявлены, эксплицитно или имплицитно, практически в любом из исламских доктринальных сочинений. Данные положения сложились не сразу, но, постепенно сформировавшись, стали достоянием сознания обычных верующих, даже если их не интересуют доктринальные тонкости. Это, таким образом, самые простые вещи, или, что в данном случае то же самое, вещи исходные.
Начнем с начала. Все, о чем мы можем говорить, все, что нам дано, что предстоит нам, нашему познанию и действию — что это? Это — просто «всё» (ал-кулл).
Таково первое положение. Второе положение: данное «всё», т. е. данный нам универсум, распадается на две части. Их обозначением служат два термина: «Бог» (’алла̄х) и «то, что кроме Бога» (ма̄ сива̄ ’алла̄х). Это именно термины, устойчиво употребляющиеся в доктринальной мысли. Их терминологический статус указывает на ясное осознание доктринальной мыслью этой четкой, недвусмысленно заявленной дихотомии — «Бог» и «все, что кроме Бога». Две, и только две части. Ничего третьего не дано, и на этом исламская доктринальная мысль не устает настаивать.
Это крайне существенно для нее потому, что именно в утверждении этой диспозиции исламская доктрина усматривает твердое следование принципу, который именуется по-арабски тавх̣ӣд (рус. таухид). Тавх̣ӣд, т. е. обеспечение единства/единственности, прежде всего в отношении Бога, но также и в других аспектах, — это тот стержень, которые удерживает единство исламского вероучения. В исламской мысли, которая не знает догматики в строгом смысле этого слова (поскольку отсутствует орган, наделенный полномочиями принимать общеобязательные решения по вопросам вероисповедания), многие вещи не имеют жестких очертаний, предстают расплывчатыми и шаткими. Несмотря на расхожее представление о тоталитаризме исламского мировоззрения, ни о какой тотальной унификации в исламской мысли говорить нельзя. На деле все обстоит противоположным образом: здесь много вариаций и расхождений, и очень часто взаимоисключающие тезисы оказываются равно обоснованными, когда сама исламская культура не дает достаточных критериев предпочтения одних другим и при этом не содержит механизмов, авторитарно обязывающих верующего принять без рассуждения одно, а не другое. Но вместе с тем есть некий стержень, пусть и бедный содержанием, — и это именно тавх̣ӣд. Данный принцип обеспечения единства/единственности исламская доктринальная мысль реализует через указанное дихотомическое разделение: разделение «всего» на «Бога» и «всё, что кроме Бога».
629
Проследим теперь схематично, как эти два тезиса разворачиваются в доктринальной мысли ислама. «Бог» и «то, что кроме Бога» — это всё, о чем мы можем говорить; и вместе с тем нет ничего общего между «Богом» и «тем, что кроме Бога». Иногда это выражают формулой «Бог — это вещь не как все вещи». Вместо громоздкого выражения «то, что кроме Бога» используем компактный термин «мир» (‘а̄лам), и хотя их эквивалентность в некоторых контекстах может быть поставлена под сомнение, в целом они взаимозаменимы.
Итак, в мире нет ничего, что было бы каким-то образом сопоставимо с Богом. Если оценивать это положение в терминах логики, мы должны сказать, что доктринальная мысль придерживается очень четко проведенного дихотомического принципа: строгое разделение всего на две взаимоисключающие части.
Этот принцип дихотомического деления реализуется в многообразных тезисах исламского вероучения, таких как невозможность видеть Бога в этом мире, невозможность говорить о «форме» Бога в каком-либо смысле, принципиальная невозможность прямого видения Бога никем, в том числе и посланниками, строгий запрет какого-либо посредничества в устройстве дел мира (никто, кроме Бога, не может обладать властью распоряжением делами мира в какой-либо форме) и т. д.
Итак, дихотомия Бога и мира — это тезис, заявленный эксплицитно, причем такой, от которого нельзя отказаться. Этот тезис органически связан с принципом тавх̣ӣд, и если снять его, обрушение будет угрожать всему зданию исламского вероучения.
Мы говорим о вероучении. Источником для доктринальных построений служат прежде всего авторитетные тексты ислама: Коран и сунна. Принцип тавх̣ӣд, только что обрисованный, находит, конечно же, свое основание в этих текстах. Но ведь не он один. Коран и сунна высказываются многократно и многообразно по теме соотношения Бога и мира, и вопрос, который встает в связи с этим, я сформулирую так: насколько эти высказывания совместимы с принципом тавх̣ӣд, понимаемым как строгое дихотомическое разделение Бога и мира?
Поясню еще раз: принцип тавх̣ӣд в очерченной трактовке, безусловно, имеет опору в авторитетных текстах. Вспомнить хотя бы знаменитое «Нет ничего (букв. «никакой вещи») подобного Ему» (Коран 42:11, С.), не говоря уже об общем духе рассуждений на эту тему, которые мы находим и в Коране, и в сунне. Вопрос не в том, насколько обоснован сам тезис, выражающий тавх̣ӣд; вопрос в том, как этот несомненный тезис согласуется с другими, столь же несомненными тезисами.
Например, в Коране сказано (эти цитаты хорошо известны), что Бог сотворил мир, что он постоянно следит за всеми делами мира, что Бог полновластен в отношении мира, и все, что происходит в мире, происходит с ведома и по могуществу Бога, и так далее. Все это — ясно заявленные тезисы, и добропорядочное исламское сознание не может питать ни малейшего сомнения в них. Сунна дает не меньший, если не больший по объему материал на эту тему.
Но все дело в том, что эти (и им подобные) тезисы, призванные подчеркнуть неизмеримое, в сравнении с миром, могущество Бога, показать их несопоставимость,
630
т. е. подтвердить именно то, из чего следует их дихотомическое разделение, — именно эти тезисы не могут не предполагать, наряду с этим, и нечто другое. Ведь из них вытекает, что между Богом и миром, между этими двумя совершенно разделенными и не имеющими ничего общего частями, — имеется некая общность. Общность, которая связывает их неразрывно. Общность, которая для одной из них (для мира) служит основанием существования, а для другой — важнейшей характеристикой (божественный атрибут «Творец»).
Суммируем сказанное. Основные черты мироустройства, как оно зафиксировано авторитетными текстами ислама, сводятся к следующему. Бог вечен, что означает, что он всегда существовал и всегда будет существовать. Бог абсолютно отличен от всего прочего. Бог непредставим ни в какой форме, и ничто из находимого нами в мире не способно описать его. Бог, иначе говоря, абсолютно трансцендентен миру. Трансцендентность Бога вкупе с его единственностью составляет основное содержание принципа тавх̣ӣд («утверждение единственности [Бога]») в его наиболее простой, субстанциально-ориентированной трактовке.
Мир является возникшим во времени. Своим возникновением мир обязан своему Творцу, Богу. Бог творит мир не потому, что нуждается в нем. «Ненуждающийся» (г̣анийй) является принципиальной характеристикой Бога, тогда как для мира характерна постоянная «нужда» (х̣а̄джа) в Боге. Эта «нужда» отнюдь не ограничивается моментом возникновения мира в целом и любой вещи в мире. Напротив, божественная опека и промысел, божественная воля постоянно сопровождают существование любой вещи в мире. Ничто не происходит без ведома и желания Бога. Многочисленные примеры, подтверждающие эту мысль, подытожены в емкой формуле «Мы ближе к человеку, чем его шейная жила» (Коран 50:16, С.). «Шейная жила» — это сонная артерия, с разрывом которой из человека уходит жизнь; а значит, Бог ближе к нам, чем наша собственная жизнь.
Имманентность Бога миру заявлена, таким образом, не менее настойчиво, чем его трансцендентность. Имманентное присутствие Бога в мире осуществляется прежде всего благодаря его знанию о вещах, его воле, направленной на вещи, и его могуществу (т. е. способности сотворить) в отношении любой вещи.
Имманентность Бога миру означает установление определенной связи между ними. Сам факт наличия такой связи не может не ставить под сомнение тезис об абсолютной несоизмеримости Бога и мира, поскольку абсолютно различное и несоизмеримое не может находиться в какой-либо связи. Вопрос, однако, в том, каким образом видится такая связь.
Если бы общность Бога и мира понималась субстанциально, это означало бы, что между ними имеется иштира̄к («соучастие»): Бог и мир имели бы нечто субстанциально-общее, в чем они равно «участвовали» бы. Слово иштира̄к не случайно имеет тот же корень, что слово ширка, которое обычно переводят как «многобожие»: ширка («общность», «соучастие») как субстанциально понятая общность Бога и мира несовместима с принципом тавх̣ӣд и никак не может быть включена в исламскую картину мира.
631
Категорически отрицая какую-либо субстанциальную общность Бога и мира, исламское доктринальное мышление находит возможность говорить о связи Бога и мира как процессуальной. Процесс творения (х̱алк̣) — вот что связывает Творца (х̱а̄лик̣) и сотворенное (мах̱лӯк̣). Бог ближе к нам, чем мы сами, и присутствует в мире не в смысле субстанциального «вселения» в него, не в смысле какого-либо варианта пантеизма; Бог присутствует в мире в том смысле, что мир неотрывно связан с ним так же, как пассивная, результирующая сторона процесса неотрывна от его активной, инициирующей стороны. Вот почему для процессуально-ориентированного мышления не является парадоксом утверждение неразрывности Бога и мира при абсолютном отрицании их субстанциальной общности.
Именно парадигмой процесса предопределена и стержневая проблематика как доктринального, так и философского мышления в том, что касается связи Бога и мира: это вопрос о том, может ли Бог быть понят как «творец» (т. е. как активная сторона процесса) до того, как сам процесс имел место (т. е. до творения). Острая проблематизация именно этого вопроса и многочисленные теории учителей веры, с одной стороны, и мутазилитов и суфиев — с другой, предопределены процессуальной ориентированностью взгляда: вероучители догматически утверждали такую возможность, тогда как в философских учениях мутазилизма и суфизма, следовавших принципам рационализма, такая возможность отвергалась. Процессуальной направленностью мышления объясняется и склонность искать объяснение мира не в его субстанциальной устойчивости, а через возведение находимых в нем процессов к их инициатору — действователю, в качестве какового может выступать Бог (доктринальное мышление) или Бог и человек (философское мышление): апелляция к творцу, к действователю — это не просто выражение склонности к фидеизму и еще не отказ от рационализации, как это часто толкуют, а проявление процессуальной организации мышления, которая предполагает иное основание рационализации.
Пути религиозно-доктринального, догматизированного мышления и мышления философского, рационального, последовательного расходятся в другом пункте: признавая действователя и его связь с претерпевающим, философское мышление стремится, в отличие от доктринального, понять ее как необходимую и закономерную, находя эту закономерность прежде всего в категории процесса, связывающего две свои стороны в необходимое и неразрывное единство, которое и обеспечивает для процессуально-ориентированного мышления устойчивость и упорядоченность мира. Можно сказать, что в рамках процессуально-ориентированного мировоззрения доктринальное и философское мышление различаются направленностью взгляда. Для первого исключительно важно сохранить букву коранического понимания абсолютного действователя (Бога), и ради этого оно готово пожертвовать требованиями связности и последовательной рационализации. Произвольность действия и его приписывание исключительно Богу, когда все прочее понимается как претерпевающее для его действия, составляет доведенную до логического конца квинтэссенцию этого взгляда, и именно в таком виде он будет высказан
632
в зрелом исламском вероучении. Исследование внутренней логики действия, понятого как процесс, оказывается для догматизированного доктринального взгляда избыточным, более того, смущающим, поскольку требует признания необходимой, устойчивой и неразрывной связанности действующего и претерпевающего. Такое признание несовместимо с креационизмом, т. е. с утверждением о сотворении мира из ничего, совершенным как единовременный акт. Сама смысловая логика процесса требует признания «параллельности» действующего и претерпевающего, и такое признание заявлено уже в мутазилизме и подробно разработано в зрелом философском суфизме.
С точки зрения строгой дихотомии божественного и тварного, абсолютного различия между ними, на чем настаивает религиозное мировоззрение, человек должен быть отнесен к разряду тварного, и только тварного. Вместе с тем неотменяемые положения исламского вероучения и авторитетных текстов свидетельствуют о том, что это положение не может быть проведено однозначно и до конца. Человек — единственное из сущего, из всего мира принял «залог веры» (’ама̄на — см. Коран 33:72). Это означает, что он согласился взять на себя ответственность за исполнение Закона. Исполнение Закона означает и возможность уклониться от него: в отличие от всех тварей, человек выбирает свою линию поведения и несет ответственность за нее. Если любая тварь — лишь претерпевающее для действия Бога, то человек, получив Закон, сам становится действователем, поскольку Закон невозможен (бессмыслен) без его собственного выбора, а значит, и его собственного действия. Человек тем самым изымается из общего контура мира, общего контура тварного. Именно поэтому человек, единственный из всего сущего, будет воскрешен после конца времен и избежит всеобщей участи гибели, ожидающей все мирское и тварное. Этот факт ставит под сомнение однозначную принадлежность человека к миру и, безусловно, сближает его с другим полюсом — с божественным. Рай и ад будут после Суда заселены людьми. Поскольку рай и ад, хотя и сотворены (т. е. имели начало), тем не менее будут существовать бесконечно (’абад), значит, и человек — единственное из сущего, которое будет обладать участью бесконечного существования. Сотворенность, но бесконечность существования не может не сближать человека с Богом. Таким образом, человек не может быть с полным основанием помещен ни на божественном, ни на мирском (тварном) полюсе мира. Проблема места человека в мироздании и его соотношения с Богом и миром стала загадкой, которая не могла получить рационального разрешения в рамках религиозного мировоззрения и исламского вероучения. Попытка ее рационального осмысления превратилась в еще один стимул к возникновению философии.
Таким образом, арабская философия возникает как имманентная самой арабской культуре потребность дать связный, целостный ответ на основные вопросы об устройстве мироздания, как попытка соткать полотно осмысленности, основываясь на рациональных методах. В этом смысле арабская философия автохтонна, поскольку возникает благодаря собственным импульсам арабской культуры и опирается на характерные именно для арабского языкового мышления принципы построения
633
процессуальной картины мира, развивая их в ходе создания понятийной системы. Это сполна проявилось в деятельности мутазилитов — первых мыслителей, развивавших философию самостоятельно, исходя из собственных задач и опираясь на собственные ресурсы. Вместе с тем история арабской философии представляет собой уникальный случай сосуществования двух разных линий, берущих начало в двух разных принципах формирования картины мира — субстанциальном и процессуальном. Первая линия чаще представлена иранскими мыслителями, тогда как вторая — арабскими. Такое разделение следует понимать скорее как тенденцию, нежели как жесткую закономерность, но оно тем не менее соответствует склонности персидского и арабского языков к выражению субстанциальной и процессуальной картин мира. Вместе с тем и в фальсафе — школе арабской философии, наиболее склонной к воспроизведению античных учений, — такими мыслителями, как ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣна̄, была развита неаристотелианская онтология (категории «возможное», «необходимое», «невозможное» и др.) и неаристотелианская гносеология (учение об интуитивном познании — х̣адс), так что сосуществование и противостояние этих двух линий может быть замечено и внутри этой школы.
 |
8.2.2 Основные черты философского учения Х̣амӣд ад-Дӣна ал-Кирма̄нӣ* |

|
634
Возникновение исмаилизма относится ко второй половине VIII в., а свой законченный характер исмаилизм как философское течение приобретает в трудах Х̣амӣд ад-Дӣна ал-Кирма̄нӣ (кон. X — нач. XI в.), наиболее выдающегося исмаилитского философа. Отдельные вопросы исмаилитской философской концепции и теории имамата разрабатывали ан-Насафӣ (ум. 942), ’Абӯ Йа‘к̣ӯб ас-Сиджиста̄нӣ (ум. кон. X в.), Хибатулла̄х аш-Шӣра̄зӣ (ум. 1077/78), Ибра̄хӣм ал-Х̣а̄мидӣ (ум. 1161/62) и др., но ни до, ни после ал-Кирма̄нӣ не был достигнут уровень систематичности, характерный для этого мыслителя, к трудам которого так или иначе обращались в дальнейшем теоретики исмаилизма. О жизни этого видного теоретика и деятеля исмаилизма известно очень мало: мы знаем лишь, что он был, по всей видимости, выходцем из иранского города Керман и, вероятно, персом и что занимал очень высокое положение в исмаилитской иерархии, действуя в основном на территории Ирана и Ирака. Главным произведением ал-Кирма̄нӣ является «Успокоение разума» (Ра̄х̣ат ал-‘ак̣л, 411 г. х. — 1020/21 г. н. э.).
Источники и влияния
Исмаилитские философы, вслед за арабоязычными перипатетиками, опирались на неоплатоническо-аристотелевское наследие. Идея всепронизывающей жизни, в конечном счете объясняющая и разумный порядок космоса, и жизненную активность сущего, имеет, вероятно, стоические корни. Характерная исмаилитская теория «баланса» макроструктур мироздания восходит, возможно, к пифагорейским учениям, которых среди арабов придерживался еще ал-Киндӣ. Философии исмаилизма присущ научно-энциклопедический характер, и неслучайно тайное сообщество «Братьев чистоты» (Их̱ва̄н ас̣-с̣афа̄’) включало исмаилитов или было близко к ним. Возникнув в шиитской среде, исмаилизм просто не мог оказаться безразличным к важнейшему для шиитов вопросу о завещании Мух̣аммада, согласно которому, как они утверждают, преемником последнего должен был стать ‘Алӣ, а не Абӯ Бакр. Это повышенное внимание к вопросам политической власти и исторической справедливости сказалось и в философии, повлияв на создание собственной историософии и разработку теории исмаилитского социума как центральной структуры универсума.
635
Это обилие влияний не превращает исмаилитскую мысль в эклектическое соединение чужой мудрости: для нее характерна высокая степень систематичности, сложная внутренняя структуризация, строгая логика и следование собственным основаниям мысли.
Совершенство
Положение о такой связанности внешнего, или явного (з̣а̄хир), и внутреннего, или скрытого (ба̄т̣ин), при которой одно соответствует другому и может быть транслировано в другое, причем истина (х̣ак̣ӣк̣а) и является такой взаимной трансляцией между явным и скрытым, составляет одну из фундаментальных интуиций арабо-исламской теоретической мысли, которая получает развитие в философии. Не составляет исключения и исмаилизм, где учение о человеке и его отношении к Первоначалу и мирозданию создается на тех же основаниях.
Исламская мысль рассматривает некоторое внешнее действие, обнаруживающее веру (слово, действие), и внутреннее ее переживание («утверждение в сердце», то есть в своем знании) как две стороны, благодаря соединению которых только и возможно понятие «вера». Это положение получает у ал-Кирма̄нӣ свое развитие: «истинное вероисповедание» (милла х̣анӣфиййа) возможно только как соединение «поклонения действием» (‘иба̄да би-л-‘амал), или явного поклонения, и «поклонения знанием» (‘иба̄да би-л-‘илм), или скрытого поклонения. Основная цель такого соединения — обеспечить соответствие между добродетелями, обретенными в процессе обоих поклонений, поскольку от этого зависит достижение конечного «счастья» (са‘а̄да). Это — созерцательно-практический путь достижения совершенства, в котором обе стороны должны быть непременно гармонизированы, а не подчинены одна другой. Отсутствие искомой гармонии, когда любая из этих двух сторон преобладает над другой, оказывается неправильным с точки зрения теории и неэффективным с точки зрения практики, поскольку не дает счастья. Более того, нарушение необходимой соотнесенности внешнего и внутреннего прямо ведет к конечной гибели человека.
«Поклонение действием» очищает душу человека от тех несовершенств и пороков, что изначально присущи ему как природному существу. Положение о природной греховности человека не связано, видимо, с христианским учением о первородном грехе, хотя его можно соотносить с учением философии озарения о теле как темнице души. Избавление от присущих по природе пороков, достигаемое в поклонении действием, придает душе нравственные добродетели (фад̣а̄’ил х̱улк̣иййа). Правдивость (с̣идк̣) возникает как результат произнесения вероисповедной формулы ислама, чистота (т̣аха̄ра, наз̣а̄фа) — как результат омовения, молитвой приносится близость (к̣урба̄) к метафизическим началам сущего, щедрость (сах̱а̄’) появляется как результат уплаты обязательного благотворительного налога (зака̄т), непорочность (‘иффа) дается соблюдением поста, устремленность (шавк̣) к ангельскому сонму и будущей жизни — паломничеством. Так некая нравственная добродетель ставится в соответствие одному из пяти столпов ислама. Добродетель,
636
которую доставляет душе «поклонение знанием», именуется «мудростью» (х̣икма). Это понятие означает в исмаилизме истинное знание, служащее общим наименованием обретаемых таким образом «формальных добродетелей» (фад̣а̄’ил с̣ӯриййа). Необходимую соотнесенность и сбалансированность обретаемых в явном и скрытом поклонениях добродетелей ал-Кирма̄нӣ выражает в перипатетических категориях материи и формы: первые, нравственные добродетели, являются как бы материей для вторых, которые в силу этого именуются формальными добродетелями.
Гармония явных и внутренних добродетелей придает душе еще одну добродетель. Она появляется в результате баланса явной и внешних сторон и служит их единством. Эта добродетель — «уподобление» (ташаббух), или гармонизация человека с метафизическими началами мироздания, позволяющая ему в конечном счете достичь определенного единства с ними. В этом контексте категория «подобие», с одной стороны, может быть прослежена через традицию фальсафы к понятиям «сходства» и «сродства» как средств достижения искомого единства, использованным Плотином в «Эннеадах», а с другой — не может не напоминать суфийские построения, хотя, безусловно, сами уподобление и единство понимаются в двух школах существенно различным образом. Вместе с тем уподобление мыслится в исмаилизме как достигаемое исключительно благодаря правильному сочетанию действия и знания, как процессуальный переход между ними, тогда как в арабоязычном перипатетизме оно понимается как зависящее от «подготовленности» человека, позволяющей Действенному Разуму оказать на него свое благотворное воздействие. Ал-Кирма̄нӣ развивает в этом отношении свойственную арабо-мусульманской культуре линию процессуальной картины мира.
Уподобление Первому Разуму осмысляется как «связанность» с ним, в результате которой душа приобретает характерное для того вечное пребывание, бессмертие. Такое пребывание окажется счастьем только в том случае, если внутренним добродетелям человека будут соответствовать добродетели, приобретенные в результате явного поклонения. В противном случае вечное пребывание обернется вечной мукой: «терзание» (шак̣а̄ва), противоположность счастья, заключается именно в несбалансированности, негармоничности добродетелей внешнего поклонения (правдивость, чистота, т. д.) и добродетели внутренней (мудрость), а поскольку в отсутствие баланса явного и скрытого нельзя говорить и об их единстве, достигаемом как процессуальный переход между ними, то отсутствует и «уподобление» метафизическим началам.
Единство внешней и внутренней сторон осмысляется и в аристотелевских терминах потенциальности и актуальности. Душа — потенциальный разум, и лишь приобретя формальные добродетели, т. е. истинные знания, достигает актуальности и становится разумом. Показателем потенциальности души служит непостоянство ее действий: актуальное неизменно, тогда как душа переменчива в своих действиях. Движение души от потенциальности к актуальности оказывается и процессом постепенного обретения добродетелей. В качестве первой на этом пути у ал-Кирма̄нӣ, как и вообще в исламской традиции, фигурирует «стыдливость» (х̣айа̄’).
637
Поскольку каждая из добродетелей становится шагом к обретению душой своей актуальности, т. е. разумности, стыдливость составляет признак разума. Путь обретения бытийного совершенства совпадает, с одной стороны, с совершенствованием познавательных способностей и приростом самого знания, а с другой стороны, тождествен этическому совершенствованию человека. Движение по этому пути человек совершает благодаря тому, что его душе присуще «стремление» (шавк̣). Если душа стремится к обретению знания, т. е. формальной добродетели, такое стремление именуется «волей» (ира̄да). Воля — высшая способность души, а условием для ее проявления служит «выбор» (их̱тийа̄р).
Формальные добродетели, т. е. полное знание, являются не чем иным, как знанием, которым обладает Первый Разум. Если Ибн Сӣна̄ считает «тонкость» человеческой души условием соединения ее с Действенным Разумом, то для ал-Кирма̄нӣ человеческая душа неспособна достичь конечного счастья как таковая, собственными силами. Формальная добродетель может быть получена только от тех, кто обладает «поддержкой» (та’йӣд) — особым даром со стороны метафизических начал мироздания. Такими людьми были посланники, приносившие человечеству Законы, в нашу эпоху в каждый данный момент поддержкой пользуется глава исмаилитской общины. Именно «поддержанные» (му’аййадӯн), обладающие благодатью высших начал мироздания, и являются «людьми поистине», тогда как все прочие могут обрести полноту своей человечности только при их посредстве. Понятие истинного человека у ал-Кирма̄нӣ явно соотносимо с перипатетическим пониманием сущности человека как «разумного животного», поскольку разумность составляет суть человечности также и в исмаилитском учении. Однако здесь под разумностью понимается не просто способность к запечатлению форм знаний, но актуальное обладание абсолютным знанием, что включает в понятие разумности полное совершенство. Полное знание, необходимое для достижения совершенства и конечного счастья, нисходит от высшего иерарха к обычным верующим, как правило, через ряд ступеней, которые образуют строгую внутреннюю иерархию исмаилитской общины, и убывает по мере такого нисхождения.
Учение о поддержке, которой обладают избранные рода человеческого, противоречит общеисламским положениям, исключающим какого-либо посредника между Богом и человеком. В учении ал-Кирма̄нӣ высший иерарх, имам, осмысляется как актуальное начало, взаимодействующее с началом потенциальным, каковым является Писание. Кораническому тексту отводится роль материи для воздействия толковательной деятельности «поддержанного» исмаилитского имама. Эти положения представляют собой логичное продолжение активно подчеркиваемого в шиизме тезиса о том, что имамы являются носителями абсолютного знания и только они в силах сообщить истину о чем бы то ни было.
Поскольку малейшее отступление от совершенства ведет к страданию вместо счастья, причем зачастую сделанную ошибку невозможно исправить (ведь неправильная форма укореняется в душе и уже не может быть изъята), а правильное представление о путях обретения совершенства дается только в исмаилитском
638
учении, то любое учение, хоть в чем-то не совпадающее с исмаилитскими теориями, объявляется бесовским, а его принятие — источником вечного страдания.
Для мусульманской этической мысли характерно положение о том, что человек получает награду и наказание за свои поступки еще при жизни. Этот же тезис о непосредственности награды и наказания присущ и исмаилизму. Тот, кто в своем стремлении к добродетели соединяет явное и скрытое поклонения, получает полную награду и в дольнем мире, сполна достигая желанного, и в мире тамошнем, снискивая вечное пребывание. Когда правильный баланс между явным и скрытым поклонением нарушается, каждое из поклонений дает соответствующую ему награду, однако, поскольку одна сторона не соединена с другой, такая награда оказывается для человека не счастьем, а терзанием. Тот, кто практикует скрытое поклонение, пренебрегая явным, получает полагающееся ему в качестве награды вечное пребывание, которое, однако, становится для такого человека мýкой. Аналогичен и случай с тем, кто добродетелен только в явном, будучи лицемером. За показную, то есть проявляющуюся только во внешнем, добродетель следует соответствующее ей воздаяние — также внешнее, то есть успех в земной жизни. Подлинность, однако, состоит в соединении внешней и внутренней сторон, лицемер же как раз и упускает внутреннюю сторону. В этом ал-Кирма̄нӣ следует общеисламской традиции; отличие исмаилитской этики от суннитской в том, что лицемера она считает безусловно лишенным надежды на загробное воздаяние. Как в своем действии тот упустил внутреннюю сторону добродетели, так и награда его имеет лишь внешнюю (немедленную, касающуюся дольней жизни), но не внутреннюю (конечную, связанную с вечной жизнью) сторону.
Утвержденность Бога и божественные атрибуты
В вопросе о понимании первоначала проявляется, с одной стороны, оригинальность мысли ал-Кирма̄нӣ, а с другой — ее укорененность в традиции арабо-мусульманской философии. Одной из центральных интуиций арабо-мусульманской культуры является интуиция ряда. В процессуальной картине мира, характерной для арабо-мусульманской культуры, ряд — это ряд взаимодействий между последовательными парами элементов. С примерами таких рядов мы встречаемся, рассматривая, например, понимание времени и движения у мутазилитов. Эта интуиция проявляет себя и в понятии причинного ряда, где она оформляется с помощью терминологии, использовавшейся в фальсафе. Причинный ряд восходит от любого конкретного сущего «вверх» по своеобразной лестнице причин. Этот ряд, утверждает ал-Кирма̄нӣ, не может быть бесконечным. Невозможность бесконечности в различных ее аспектах подробно обсуждалась и доказывалась в фальсафе, и это положение вошло в качестве хорошо обоснованного предшествующей традицией в построения ал-Кирма̄нӣ. Если бы ряд причин, которые «утверждают в существовании» любую данную вещь, не имел начала, но уходил в бесконечность, то и данная вещь не существовала бы: бесконечный ряд невозможно пройти, а значит,
639
цепь передачи «утвержденности в существовании» (то, что в фальсафе называется передачей «необходимости») никогда не дошла бы до данной вещи и та не могла бы существовать. Однако мир существует, и существование любой вещи свидетельствует о том, что причинный ряд имеет начало.
В фальсафе Первоначало (Первая Вещь, Первая Причина) отождествляется с Богом. Это создает целый ряд проблем в понимании Первоначала, которое должно быть абсолютно единым и не может быть двойственным или множественным. Эти «должно» и «не может быть» парадигматичны для классической арабо-мусульманской философии и хорошо согласуются с принципом тавх̣ӣд. Ал-Кирма̄нӣ вскрывает эти проблемы, критикуя тем самым понимание первоначала в фальсафе.
Он указывает прежде всего, что Бог не может быть «ничем» (лайс): его «ничтойность» (лайсиййа) невозможна, говорит философ. Ведь именно Бог должен быть первым в ряду, его конечной опорой. Не будь такой опоры, весь ряд причин рассыпался бы и никакое сущее не существовало бы.
Но если Бог не является «ничем», может ли он быть неким «нечто» (’айс)? Термин «нечто» — дихотомическая противоположность для «ничто», и согласно критерию разума, следующего императивам аристотелевской логики, о Боге (как и о любой другой вещи) должно быть истинным одно из двух суждений: или он является «ничем», или он является противоположностью «ничто», т. е. «нечто».
Однако оказывается, что и «нечто» (’айс) Бог быть не может. В самом общем виде это вытекает из того, что любое «нечто», любую вещь мы понимаем как субъект-предикатную конструкцию, приписывая субъекту (х̣а̄мил, букв. «носитель») какой-то предикат (мах̣мӯл, букв. «несомое»). Однако, приписывая Богу как субъекту предикат, мы имеем дело уже с двоицей, а не с единицей. Субъект и предикат — это разные вещи, а не одна и та же вещь, следовательно, два, а не один. Однако соединению двух непременно предшествует некая причина, вызывающая необходимость их объединения, и такая причина стоит в ряду причин раньше, чем эта двоица. Следовательно, если бы Богу можно было что-то предицировать, ему бы предшествовало что-то другое, — а это невозможно.
Вот почему, согласно ал-Кирма̄нӣ, Богу нельзя приписать никакой атрибут, в том числе и «существование» (вуджӯд). Это утверждение — абсолютное, и любой из атрибутов, которые традиционная исламская мысль приписывает Богу или которые обсуждает арабо-мусульманская философия в лице мутазилитов или фала̄сифа, влечет двойственность Бога и предшествование ему какой-то причины. А это равно отрицанию единобожия и, следовательно, неверию. Следуя данной логике, ал-Кирма̄нӣ и утверждает, что все наставники, кроме исмаилитских, ведут своих учеников к гибели (неверию), а не к спасению (вере).
Отрицание возможности приписать Богу какой-либо атрибут не следует спешить расценивать как апофатическую (отрицательную) теологию. Негативная теология построена на допущении, что о Боге можно утверждать, чем он не является: такое негативное высказывание дает нам некоторое знание о Боге. Но не так у ал- Кирма̄нӣ (и у его предшественника ас-Сиджиста̄нӣ, у которого ал-Кирма̄нӣ,
640
видимо, заимствует данное доказательство). К тезису о невозможности приписать Богу атрибут он прибавляет другой, без которого данное положение непременно будет, как он считает, истолковано ложным образом. Отрицательное высказывание о Боге не может сообщить о нем ничего точно так же, как и положительное. Бог не есть носитель атрибута; но в той же мере он не есть и не-носитель атрибута. Из пары противоположных высказываний о Боге не верно ни одно. Это означает, что Бог непостижим разумом, — ведь разум требует именно того, чтобы одно из противоречащих высказываний было истинным.
Кардинальная иррациональность Бога имеет и вполне понятное пространственное, космологическое объяснение. Первый Разум (о нем речь чуть ниже) занимает самую большую, объемлющую все мироздание небесную сферу, так что весь универсум располагается «внутри» Первого Разума. Первый Разум является хранилищем всех форм, т. е. вместилищем максимально возможного, полного знания. Понятие «познание» ал-Кирма̄нӣ обозначает одним из терминов, которыми пользовалась традиция арабо-мусульманской философии, — их̣а̄т̣а «объятие». «Объятие» в данном случае понимается и в прямом, пространственном смысле: Первый Разум обнимает собой Всё, а потому и знает всё. Но в это Всё, обнимаемое (и познанное) Первым Разумом, не включен Бог. Поэтому познание (= объятие) Бога невозможно: если бы разум (человеческий разум или любой космический, в том числе Первый, разум) попытался познать (= объять) Бога, ему пришлось бы выйти за пределы Первого Разума (ведь Бога нет внутри этих пределов), а значит, перестать быть разумом. Познание Бога как рациональное предприятие в принципе невозможно без отрицания самого основания такого познания.
Итак, Бог не может быть понят как «нечто», поскольку он не является ни описываемым, ни не-описываемым с помощью какого-либо атрибута. Но Бог не является и «ничто». Вот почему, говорит ал-Кирма̄нӣ, о Боге следует говорить, что «Он утвержден». Утвержденность (с̱убӯт) — термин, введенный мутазилитами для обозначения вещи как таковой, чистой вещи, — используется и здесь. Утвержденность не является атрибутом и ничего не прибавляет к понятию «оность» (хувиййа — еще один термин, использовавшийся мутазилитами), будучи фактически тождественной ей. Оность и ее утвержденность ничего не сообщают о Боге, поскольку не приписывают ему никакого предиката, однако фиксируют Бога как Первоначало.
Единственный акт, который совершается Богом, — это акт творения (ибдā‘).
Первый Разум. Космология и физика
Первый Разум, который и является Первым Пределом, творится Богом: творение представляет собой наивысшее из действий, поскольку совершается без всякого орудия, не в какой-либо материи и не ради удовлетворения какой-либо нужды, будучи к тому же иррациональным, принципиально недоступным познанию.
Понятие сотворенности Первого Разума у ал-Кирма̄нӣ тождественно именно признанию невозможности постичь способ его существования, а не его возникновению
641
во времени, хотя вместе с тем отрицается его «безначальная вечность» и признается только «вечность без конца».
Первый Разум открывает ряд сущего, ибо обладает существованием, но поскольку, в отличие от Первоначала арабоязычных перипатетиков, его существование обеспечивается не его самостью, ал-Кирма̄нӣ не может использовать терминологию, разработанную в фальсафе в области учения о необходимости и возможности. Первоначало, таким образом, не совпадает с Первым Пределом универсума, но как бы раздваивается между ним и его творцом — Богом.
Первый Предел един, хотя имеет десять атрибутов, не создающих в нем вместе с тем действительной множественности. Он является Первым Разумом, первой вещью, первым сущим и источником эманации.
Мир метафизического сущего у разных исмаилитских авторов может получать разное описание (будучи семеричным и включая, например, Мировой Разум и Мировую Душу — ан-Насафӣ, ас-Сиджиста̄нӣ, На̄с̣ир-и Х̱усрав, или десятеричным, охватывая десять внеприродных Разумов — ал-Кирма̄нӣ). Инвариантом этих схем оказывается возникновение первоматерии и формы, которые служат построению природного мира на началах аристотелевской натурфилософии. Ал-Кирма̄нӣ объясняет их возникновение как двуединую эманацию, проистекающую от Первого Разума благодаря тому, что он соотнесен с Богом двояко: как «творение», т. е. как акт, и как «сотворенное», т. е. как претерпевающее. Соответственно первая Первая Эманация, являющаяся первым Вторым Разумом, оказывается формой, тогда как вторая Первая Эманация, то есть второй Второй Разум, — материей.
Общим организующим принципом понимания мироздания у ал-Кирма̄нӣ можно считать принцип «начального-и-конечного», или «первого-и-второго», который проявляет себя на различных уровнях. Весь универсум разворачивается между Первым и Вторым Пределами: началом служит Первый Разум, завершением — та единая абсолютно совершенная метафизическая форма, которая возникает в конце истории как соединение праведных душ.
Однако Второй Предел еще не существует, и потому мироздание остается принципиально недостроенным. Благодаря этому история приобретает глубочайший метафизический смысл: без усилия, которое обязано приложить праведное человечество, универсум не может существовать, поскольку для этого, обладая Первым Пределом, он должен иметь и Второй, а тот создается только людьми, совершенными в своем знании и действии. Собственно, философская система ал-Кирма̄нӣ и строится как описание перехода от Первого Предела ко Второму.
Достижение совершенства человеком также является переходом от начального совершенства, то есть собственно существования, к его завершенности и полноте, или второму совершенству: душа, или потенциальный разум, обретает актуальность и превращается в действительный разум.
Первый и второй пределы организуют и структуру природного сущего: завершение низшего ряда существ является одновременно началом высшего ряда, который, в свою очередь, обладает завершением, открывающим следующий ряд; так,
642
коралл завершает ряд минералов и отрывает ряд растений, будучи тем и другим одновременно, финиковая пальма замыкает ряд растений и открывает ряд животных, поскольку имеет мужские и женские особи, пчелы и обезьяны схожи с человеком, хотя являются животными. Понятия «начального» и «конечного» включают в себя, таким образом, то, что мыслится в понятиях потенциальности и актуальности, в понятии энтелехии, оказываясь вместе с тем шире их.
У ал-Кирма̄нӣ сохраняется общеисламское положение о том, что известное нам мироустроение — наилучшее из возможного. Это вытекает в конечном счете из совершенства первоначала универсума (Первого Разума). Влияние этого изливающего из себя мироздание первоначала на возникший от него универсум описывается через термин «светы» (анва̄р): «светы» Разумов струятся в подлунном мире, придавая ему совершенство и передавая природе ту жизнь, что присуща первоначалу. Метафорически неизбежность наилучшего устроения мироздания выражается двумя терминами — «промысел» (‘ина̄йа) и «мудрость» (х̣икма). Божественная мудрость обеспечивает совершенную полноту бытия, когда ничто из того, что может существовать, не упущено, а промысел воплощает попечение о том, чтобы всякое сущее имело наидостойнейшее себя существование. Промысел и мудрость служат метафорическими выражениями потому, что в исмаилизме принимается разрабатывавшееся арабоязычными перипатетиками положение о непроизвольности эманации, а следовательно, первоначало мироздания не рассматривается как обладающее волей в подлинном смысле слова.
Божественный промысел, пронизывающий мироздание, дает ему наипригоднейшее устройство, помещая наилучшие формы в горнем мире, и даже для оставшейся после оформления прочего мироздания материи, дабы ей не пропадать, приберегает наихудшие формы типа змей, скорпионов и прочих ядовитых тварей. Ал-Кирма̄нӣ придерживается традиционной для своего времени птолемеевской космологии. Физический мир устроен на началах четырех первоэлементов, в осмысление которых он вносит некоторые нюансы. Их смешениями производятся три класса существ: минералы, растения и животные. Аристотелевская физика и теория естественного места, естественного и принудительного движения воспроизводятся и тщательно подкрепляются почерпнутыми из опыта наблюдениями. Душу ал-Кирма̄нӣ считает не троичной, оспаривая это утверждение арабоязычных перипатетиков, а единой, хотя и наделенной различными силами: единство души необходимо вытекает у него из трактовки ее как потенциального разума, что составляет для ал-Кирма̄нӣ принципиальный момент.
Гносеология
Подобно представителям других течений классической арабо-мусульманской философии, ал-Кирма̄нӣ признает два типа знания и познания — непосредственное и дискурсивное — и отдает предпочтение первому перед вторым, хотя трактует их по-своему, подчеркивая отличие в этом вопросе от других школ.
643
Непосредственное знание дается только при «поддержке» метафизических Разумов избранным людям и может быть сообщено ими другим, но уже в дискурсивной форме. Поэтому все люди делятся на «дающих» (муфӣд) и «получающих» (мустафӣд) знание, а в зависимости от своей способности усвоить его располагаются на соподчиненных уровнях исмаилитского социума: чем ближе к главе стоит иерарх, тем бóльшим знанием он обладает. Непосредственное знание относится к дискурсивному как «целокупное» (куллийй) к «частичному» или «единичному» (джуз’ийй), заключая его в себе, и то же касается отношения знания высших иерархов к знанию низших.
Однако соотношение между целокупным и частичным понимается как отношение не между общим и частным, а между явным и скрытым, адресуя к одной из фундаментальных оппозиций, характеризующих мышление классической арабо-мусульманской культуры: как в яйце заключается целиком вся птица, так целокупное заключает в себе частичное в качестве скрытого, а потому нуждается в чем-то, что это скрытое выявит. Отсюда вытекает фундаментальная роль «толкования» (та’вӣл), которое и сводится к выявлению «смыслов» (ма‘а̄нин, ед. ма‘нан), стоящих как за явным сущего, так и за явным текста, и в принципе подчиненная роль Писания в отношении его толкователя — главы исмаилитской общины, которую недвусмысленно подчеркивает ал-Кирма̄нӣ и другие исмаилитские авторы.
Метод дискурсивного познания и одновременно верификации дискурсивного знания, который ал-Кирма̄нӣ считает собственным достоянием исмаилитской философии, отличающим ее как от других философских школ (например, логики перипатетиков), так и от других наук, является по сути вариантом стратегии «выявления скрытого», который основывается на балансе и гармонии структур мироздания. Наиболее явленной оказывается структура исмаилитского социума. Она служит своеобразным лекалом в выстраивании знания о человеке, природном и сверхприродном мирах, в то же время находя опору своей истинности в неизменной уравновешенности всеми этими структурами. Ал-Кирма̄нӣ излагает разрабатанную концепцию «баланса» (тава̄зун) макроструктур мироздания, в которых отдельные элементы соответствуют друг другу за счет идентичности структурных связей между ними. Постижение мира, в том числе метафизического, благодаря познанию сбалансированности его структур философ считает характерным именно для исмаилитов методом познания, отличающим исмаилизм от прочих философских и нефилософских течений
Знание составляет хотя и необходимый, но не единственный компонент совершенства человека. Не менее важно и «деяние» (предписываемые или поощряемые Законом действия), доставляющее ему этическое совершенство, т. е. освобождающее от пороков и дающее нравственные добродетели. Хотя последнее служит подготовкой души к принятию истинных знаний, эти два аспекта должны и далее оставаться неразрывно связанными, чтобы сохранить свою истинность. Добродетель знания придает чистой, нравственно добродетельной душе истинную форму — ту, благодаря которой эта индивидуальная душа и вольется во Второй Предел после окончания человеческой истории.
644
Этика и историософия
Хотя мир, согласно ал-Кирма̄нӣ, устроен наилучшим образом, это вовсе не означает, что в нем отсутствует зло. С одной стороны, зло относительно: злом для конкретного человека является все, что не совпадает с императивом приобретения нравственных и формальных добродетелей. С другой стороны, у него можно заметить появление понятия объективного зла, которое трактуется в неоплатоническом ключе. С этой точки зрения зло возникает в результате переизбытка первоматерии: после того как в устроении мира исчерпаны высшие формы, оставшейся материи, дабы ей не пропадать, верховный промысел придает низшие формы, каковыми оказываются формы ядовитых тварей. Впрочем, и в данном случае не нарушен императив соблюдения наидостойнейшего: лучшего для этой материи нельзя было бы и пожелать, а с другой стороны, остальные существа терпят таким образом минимальный ущерб, поскольку, оставшись неоформленной, такая материя стала бы источником их гибели.
Без овладения всей полнотой исмаилитского учения человек не может надеяться на полное совершенство и полное воздаяние, — а овладеть им можно, только принадлежа исмаилитской общине и непрестанно подтверждая словом и делом свою верность. Исмаилитская этика характеризуется тем, что ориентирует своих последователей на максимальное приложение сил, на достижение не просто посильного, но абсолютного, что, впрочем, вообще типично для шиизма в сравнении с суннизмом. Для нее характерна вместе с тем и крайняя нетерпимость: если в суннитском учении человек не считается потерявшим статус верующего (а значит — заслуживающего конечного счастья) даже, как правило, после совершения великих грехов, не говоря уже о доктринальных расхождениях, то ал-Кирма̄нӣ не испытывает в данном вопросе никаких колебаний, объявляя последователями «подлинной веры» только тех, кто принимает исмаилитское учение, и относя всех прочих к злонамеренным учителям или заблудшим душам, поддавшимся вредоносным учениям.
Инклюзивность, вообще характерная для ислама, рассматривающего иудаизм и христианство как претерпевшие порчу варианты той самой истинной религии, которую в чистом виде и представляет ислам, достигает своего, быть может, крайнего выражения у ал-Кирма̄нӣ и нигде не сказывается столь отчетливо, как в его понимании истории. История человечества, собственно, — это история «общины истинной веры» (милла х̣анӣфиййа), под которой понимается фактически исмаилитский социум. Однако вместе с этой универсализирующей тенденцией (все человечество — это община истинной веры, и вся история человечества — это история этой общины) утверждается и исключительность исмаилитов. Ведь «община истинной веры», т. е. исмаилитский социум, абсолютно противопоставлен всему остальному человечеству, которое объявляется заблудшим и лишенным надежды на спасение. Так не только «неверные» (куффа̄р, ед. ка̄фир), но и все мусульмане-неисмаилиты оказываются подпавшими под власть сил зла и обреченными в конечном счете на гибель.
645
Понимание мироздания, выдвинутое ал-Кирма̄нӣ, позволяет наделить человеческую историю величайшим и высочайшим смыслом. В традиционном мировоззрении, характерном для авраамических религий, начала и концы мировой истории находятся, образно говоря, в руках Бога: именно он начинает мировую историю актом творения, он и заканчивает ее, завершая течение времен и кладя конец истории «сворачиванием» творения и Судным днем. Такое понимание не оставляет возможности наделить человека и человеческую историю каким-либо смыслом за пределами самого человека: смысл творения в конечном счете сводится к тому, чтобы испытать людей, отделить праведников от грешников и дать тем и другим соответствующее вечное воздаяние. В таком случае усилия отдельного человека и человечества в целом принципиально не выходят за его пределы, поскольку человечество не влияет ни на чью судьбу, кроме собственной. Такая «зацикленность» человека и человечества на самом себе преодолевается в учении ал-Кирма̄нӣ, где усилия человечества по нравственному совершенствованию и обретению знания (явное и скрытое поклонения) приобретают высший метафизический смысл.
Вся «большая» история мироздания начинается актом творения, в котором Бог создает Первый Разум, т. е. Первый Предел универсума. После этого Бог не вмешивается в дела мира, и хотя ал-Кирма̄нӣ не устает говорить о божественной опеке, мудрости и промысле, это остается данью традиционному славословию и никак не означает фактического участия Бога в делах мира. Причинно-следственный ряд восходит к Первому Разуму, и именно он, будучи началом эманации, «запускает» процесс разворачивания мироздания.
Этот процесс, будучи самодвижущимся (эманация не вызвана волевым усилием и не устремлена к цели) и опирающимся на естественные законы (аристотелевская натурфилософия четырех первоэлементов, их смесей, трех классов существ и единой души, обладающей тремя силами), приводит в конечном счете к возникновению человека. С началом человеческой истории в дело вступает фактор воли и целеустремленности. Основная цель человека — выбрать правильный путь, а встав на него, пройти по нему как можно дальше и достичь максимального совершенства. Это возможно, как уже говорилось, только в составе «общины истинной веры», т. е. исмаилитского социума. Практикуя явное и внешнее поклонения, человек в случае успеха добивается их согласованности и, как следствие, их процессуального объединения, представленного добродетелью уподобления Первому Разуму. Именно этот результат, достигаемый благодаря этически-познавательному усилию человека, позволяет ему стать фактически со-творцом универсума и завершителем его построения.
Дело в том, что «большая» история мира, начавшись сотворением Первого Разума, т. е. Первого Предела универсума, не может завершиться благодаря тому течению дел, которое задано этим начальным актом божественного творения и которое продолжается уже без всякого вмешательство Бога. Эманация завершается возникновением физического, подлунного мира, физические же законы сами по себе бессильны в достижении Второго Предела. Между тем универсум подчиняется той же
646
закономерности движения между первым и вторым пределами, между начальным и конечным совершенством, что и любая вещь в нем. Однако Второй Предел универсума не может быть выстроен, так сказать, «самим» универсумом, без вмешательства человека, Бог же никак не влияет на судьбы мира после начального акта творения.
Вот почему человек оказывается завершителем творения универсума. Воздаяние наступает после Судного дня и выражается для праведников, т. е. для достигших совершенства, в том, что их души образуют единую вечно пребывающую форму — Второй Предел универсума, столь же совершенный, как его Первый Предел, или Первый Разум, а потому столь же блаженный. Это состояние характеризуется как «собрание всех добродетелей», то есть полное совершенство. Души тех, кто не обрел полного совершенства, обречены на вечное страдание. Так «большая» история завершается как один большой цикл, начинающийся сотворением Первого Предела и заканчивающийся возникновением Второго Предела универсума в результате завершения человеческого истории. Завершителю истории, «запечатывающему» ее, еще предстоит явиться в самом конце времен, когда им будет переустроен мир и водворена полная справедливость и добродетельная праведность.
Внутри этого большого цикла имеются меньшие циклы, каждый из которых начинается приходом посланника, приносящего Закон, и заканчивается упадком веры и расстройством дел в мире. Такой упадок требует прихода нового посланника, вновь приносящего Закон. Так начинается новый цикл. Идея цикличности — общеисламская, она выражена в положении об «обновителе» (муджаддид), который, согласно известному хадису, в конце каждого столетия (по хиджре) является, чтобы «обновить», т. е. заново дать людям, веру. Посланников (и соответственно циклов истории), о которых идет речь у ал-Кирма̄нӣ, семь, шесть из которых признаются таковыми в исламе в целом: Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад. Однако ал-Кирма̄нӣ говорит и о седьмом цикле и седьмом обновителе, его открывающем. Это к̣а̄’им («воздвиженный»), которому суждено завершить историю физического мира. Символизм семерицы у исмаилитов, признающих семь (а не двенадцать, в отличие от большинства шиитов) имамов, вполне развит и проявляет себя и в этом положении. Каждый из посланников приносит истинные знания, которые постепенно претерпевают порчу, что и вызывает необходимость нового цикла, — в исмаилитской же среде истинное знание сохраняется нерушимым.
 |

|
 |

|
649
Понимание истины, характерное для арабо-мусульманской культуры, ярко проявилось уже в Коране. Здесь широко используются обе пары терминов, которыми в дальнейшем обозначалась оппозиция верного, правильного и неверного, ложного. Это термины с корнями х̣-к̣-к̣ и с̣-д-к̣, с одной стороны, и б-т̣-л и к-з̱-б — с другой. Между этими двумя типами оппозиции имеется существенное различие.
Первый тип оппозиции истинного и ложного выражен как противопоставление х̣ак̣к̣ и ба̄т̣ил. Термин х̣ак̣к̣ выражает истинность как непременное осуществление, как должное, как то, чего не может не быть. Такое долженствование имеет ярко выраженный онтологический оттенок: речь идет об истине, которая утверждена. Противоположное ба̄т̣ил отсылает нас к ложному как к неустойчивому, к тому, что не способно удержаться, что как будто рассыпается и не может явить свою фиксированность.
Такое понимание истинного и ложного прямо связано с действенностью, то есть со способностью действователя явить и утвердить свою эффективность, свою способность осуществить действие и показать его результат. Центральная кораническая тема — это тема истины (х̣ак̣к̣) как подлинной действенности Истинного (х̣ак̣к̣) Бога, действие которого безусловно осуществится, тогда как ложные (ба̄т̣ил) действователи (прочие боги и иные существа) оказываются бессильными перед лицом этого подлинного действователя, так что обещанные ими результаты развеиваются как мираж, лишенные какой-либо твердости и устойчивости.
Это понимание нашло свое яркое выражение в таких коранических аятах: «Бог есть истина, а те, которых призываете вы наряду с ним, — ложь» (31:30, С.; см. также 22:62); «Напротив, мы истину противопоставляем лжи: она поражает ее, и эта — вот исчезает» (21:18, С.); «Пришла истина, и ложь исчезла; истинно, ложь подлежит исчезновению» (17:81, С.); «Пришла истина, и ложь уже не явится и не возвратится» (34:49, С.). Везде здесь «истина» выражена арабским словом ал-х̣ак̣к̣, а «ложь» — ал-ба̄т̣ил.
Таким образом, противопоставление истины и лжи как х̣ак̣к̣ и ба̄т̣ил — это противопоставление действенности подлинного действователя и действователя иллюзорного, не настоящего, а лишь выдающего себя за подлинного. Истинность и означает здесь свершенность действия, его утвержденность. Не только в кораническом контексте, но и в целом для арабо-мусульманской культуры такая истина —
650
это истина par excellence, истина как таковая, изначальная истина. Утвержденная действователем, она исходна.
Такое понимание истины прямо связано с тем, что современный марокканский философ М. А. ал-Джа̄бирӣ называл «арабским разумом» (‘ак̣л ‘арабийй), то есть эпистемой, характерной для арабо-мусульманской культуры: сложившаяся в эпоху джахилиййи, она сохраняется до сих пор. Эта эпистема предполагает рассмотрение вещей не как субстанций, которые объясняются их идеальной (формальной) природой, а как результатов действия, как его «овеществление». Это естественно предполагает такую направленность взгляда, который за внешней явленностью результата отыскивает скрытого действователя, устанавливая между ними связь, выраженную в действии.
Второй тип оппозиции истинного и ложного предполагает наличие уже утвержденной истины и выстраивается как соответствие или несоответствие ей некоего высказывания или же действия, в иных формах выражающего отношение к ней. Слова с корнями с̣-д-к̣ и к-з̱-б, чаще всего глаголы второй породы и их производные, обозначающие направленность действия на некий объект, весьма частотны в Коране и передают соответственно согласие, подтверждение или несогласие, отвержение прежде утвержденной истины. Очень характерны, например, такие аяты: «Веруйте в то, что ниспослал Я для подтверждения истины (мус̣аддик̣ан) того, что у вас» (2:41, С.); «Когда приходит к ним от Бога Писание, подтверждающее (мус̣аддик̣) то, которое у них есть…» (2:89, С.); «А те, которые будут неверными и почтут наши знамения ложными (каз̱з̱абӯ би-’а̄йа̄ти-на̄)…» (2:39, С., также 22:57); «Начальники его народа, те, которые не веровали и считали за ложь (каз̱з̱абӯ) сретение будущей жизни…» (23:33, С.). Такие действия, как тас̣дӣк̣ (подтверждение истинности, принятие чего-то как истинного) или такз̱ӣб (утверждение ложности), возможны только как вторичные по отношению к изначально утвержденной истине-х̣ак̣к̣, поскольку под-тверждают (а не у-тверждают) истину или же от-вергают (но не опро-вергают) ее.
Эти интуиции, раскрывающие сложившуюся еще на доисламском этапе развития эпистему и нашедшие яркое отражение в Коране, благодаря победе исламского мировоззрения вошли в общий фонд арабо-мусульманской культуры и народов — ее носителей. Вплоть до современности Коран в исламском мире служил своеобразным букварем и учебником на этапе начального образования (кутта̄б): по нему учились читать и писать, а потому грамотные люди хорошо знали его текст или помнили его наизусть. Отраженные в тексте Корана фундаментальные интуиции не могли не проникать в сознание неарабских народов, где закреплялись с большим или меньшим успехом, обеспечивая если не единообразие (до этого было далеко), то во всяком случае совместимость культурно-мировоззренческих координат на огромных пространствах исламского мира. Коран, а затем и возникшая вокруг него исламская литература различных жанров послужили своеобразным проводником эпистемы, ориентирующей на «действенное» (процессуальное) осмысление мира, т. е. понимание его как результата учреждающего, устанавливающего истину действия действователя.
651
На классическом этапе арабо-мусульманской культуры эти интуиции получили свое развитие. Термины с корнями с̣-д-к̣ и к-з̱-б были задействованы в теории познания и в Аристотелевой логике, активно работая в сфере рационального познания и обозначая истинное или ложное высказывание (соответственно к̣авл с̣а̄дик̣ и к̣авл ка̄з̱иб), то есть такое, которое совпадает с истинным положением вещей или не совпадает с ним. Сама же истина вещей обозначалась с использованием корня х̣-к̣-к̣, например х̣ак̣ӣк̣а «истинность», х̣ак̣к̣ «истина». Вторично-устанавливаемая истина (корень с̣-д-к̣), таким образом, оказалась отнесенной к сфере рационального познания и доступной для работы рациональными методами. Такая истина ни в коей мере не является «неправильной» или «ущербной»; о ней лишь можно сказать, что она вторична в отношении первично-утверждаемой истины (корень х̣-к̣-к̣), поскольку ее установление происходит в результате сверки с действительным положением вещей, которое первично утверждено как результат действия соответствующего действователя.
Рационализация этой «действенной», или процессуальной, парадигмы была осуществлена мутазилитами — первыми арабо-мусульманскими философами. Их осмысление мира практически полностью сводится к его объяснению как результата действия: теория действия в их философии занимает такое же место, как теория идей в философии Платона или теория субстанциальных форм — у Аристотеля.
Широкое «переводческое движение», которое привело к знакомству с наследием античной философии, прежде всего перипатетической и неоплатонической, имело результатом возникновение фальсафы (араб. фалсафа «философия»), ориентировавшейся на философствование по греческим образцам. Мутазилизм постепенно был вытеснен из сферы философии, будучи не в силах противостоять двойному давлению: с одной стороны, очень просто и ясно, наглядно и дидактически отточено излагаемой законченной греческой мудрости, контрастировавшей с усложненными и далекими от единства взглядами мутазилитов, вечно споривших между собой; а с другой — давлению оформившейся и уже зрелой доктринальной мысли (ашаризм и матуридизм), предлагавшей упрощенное изложение исламского вероучения, доступное массам, в отличие от интеллектуально-рафинированных и элитарных трактовок мутазилитов.
С вытеснением мутазилизма фальсафа оказалась фактически господствующей на философской арене. Вместе с ней пришло и иное мировоззрение, опиравшееся на субстанциально-ориентированную эпистему античности. Успех фальсафы был разным в различных регионах исламского мира, и в целом (хотя далеко не исключительно) эта школа завоевала симпатии представителей неарабских народов, прежде всего иранцев. На время процессуально-действенная эпистема утратила господствующее положение в сфере философии, при этом вполне сохранив его в области ряда наук (правоведение, филология и др.), которые начинают классифицироваться как «собственные», исламские, в отличие от заимствованных «греческих» наук (математика, астрономия и т. д.) и фальсафы. Однако уже у Ибн Сӣны, величайшего
652
представителя фальсафы, происходит своеобразная, пусть и неполная, реабилитация процессуально-действенной эпистемы. Это заметно в его теории причинности, редуцирующей аристотелевскую четырехчастную систему причин к единственной — действенной; в развитой им теории интуиции (х̣адс), которая направлена на непосредственное схватывание подлинности вещи, в отличие от дискурсивной логики, устанавливающей лишь соответствие между высказыванием и состоянием вещей, так что интуиции оказывается доступен Первый Действователь — тот, что принципиально за пределами логического познания и вместе с тем отвечает за подлинность всех вещей, будучи единственным источником действенности и причинности; наконец, в его известном разделении чтойности и существования и теории «возможного» (мумкин), согласно которой вещь наличествует как таковая в качестве возможной, получая от действователя лишь свое существование.
Акцент на непосредственном познании, схватывающем подлинность, истину-х̣ак̣к̣ вещи, хорошо заметен в исламском мистицизме (суфизме), который позже других обретает свою философскую зрелость. И в философском суфизме, и в ишракизме (философии озарения) непосредственное и опосредованное познание не иерархизируются, а скорее понимаются как взаимодополнительные. При этом дискурсивное, рационально-логическое знание расценивается и как имеющее собственную, независимую ценность, и как средство изложения и проверки истин, постигнутых непосредственно (интуитивно или в откровении): здесь истина-х̣ак̣к̣, непосредственно открывающая подлинность вещи, как она изначально установлена действователем, проверяется в процедуре тас̣дӣк̣ — ее рационально-дискурсивного обоснования.
Таким образом, процессуально-действенная эпистема, требующая возведения к действователю как к конечному обоснованию, и связанное с ней понимание истины как непосредственно-утвержденной (термины х̣ак̣к̣, х̣ак̣ӣк̣а), с одной стороны, и как дискурсивно-удостоверяемой (термин тас̣дӣк̣) — с другой, определила такие принципиальные черты мышления арабо-мусульманской культуры, как представление о возможности согласования непосредственного и опосредованного знания (интуиция и логика, божественное откровение и рациональное философствование, установленный Богом закон и его развитие в рациональной деятельности законоведов, сакральность пророческой миссии Мухаммада и чисто человеческий характер его личности, божественное обоснование руководящей роли Мухаммада и отсутствие сакрального обоснования власти его преемников и т. д.) и стремление понять мир процессуально, как результат действия.
Понятие «эпистема» схватывает неосознаваемые, коренящиеся в подсознании установки, задающие наиболее общие линии осмысления мира. Эти установки имеют собственную, вполне определенную смысловую логику. Логика предъявляет требования, которые выступают как первоосновные, далее не фундируемые основания рациональности. Основания рациональности — это в самом общем виде то, что заставляет нас принять не задумываясь те или иные тезисы как само собой разумеющиеся (например, равные третьему равны между собой) или абсурдные
653
(существование следствия без причины). Основания рациональности, таким образом, определяют ход рассуждений и доказательств, выступая в качестве критериев, позволяющих отделить рациональное и приемлемое от иррационального и в силу этого неприемлемого в пространстве разума.
Понимание внутренней смысловой логики, определяющей устройство процессуально-ориентированного взгляда, позволяет выяснить, почему этот взгляд выдвигает вполне определенные требования к тому, что считается рациональным, осмысленным и обоснованным. Это прежде всего — непосредственная связанность действующего и претерпевающего, выраженная процессом (действованием). Арабский язык предоставляет процессуально-ориентированному мышлению очень удобную языковую среду, в которой тройка категорий фа̄‘ил (действующее), маф‘ӯл (претерпевающее) и фи‘л (процесс) служит частью словообразовательной парадигмы любого глагола. В этой языковой среде органичной оказывается онтология, предполагающая подлинный, независимый статус как действующего и претерпевающего (т. е. субстанций), так и самого процесса. Процесс здесь не редуцируется до акциденции действователя, как это происходит в субстанциально-ориентированной смысловой среде, а наделяется собственным онтологическим статусом — независимым, хотя и отличным от онтологического статуса двух его сторон (действующего и претерпевающего).
В аристотелевской системе десяти категорий процесс не может быть отображен так, как он осмысляется в процессуально-ориентированной среде. У Аристотеля имеются категории «действовать» и «претерпевать», которые могут быть соотнесены в лучшем случае с активной и пассивной сторонами процесса, но не с самим процессом как таковым. И это не случайно: субстанциально-ориентированный взгляд не наделяет процесс особым онтологическим статусом, отличным от статуса его активной или пассивной сторон; процесс здесь не мыслится как нечто третье, самостоятельное, наряду со своей активной и претерпевающей сторонами. В этом — одно из несводимых различий между двумя способами осмысления мира, субстанциально-ориентированным и процессуально-ориентированным.
Разум и его критерии, определяющие, что считается рационально доказанным и обоснованным, а что требует дальнейшего обоснования, определяются принципиальными чертами эпистемы. Опора на процессуально-действенную эпистему имела свои следствия в понимании того, что такое разумная обоснованность и в каком направлении будет протекать рационализация мировоззрения, заданного Кораном.
Эта рационализация, осуществленная мутазилитами и приведшая к возникновению философии в арабо-мусульманском мире, исходила из представления о действователе как целеполагающем, волевом источнике действия. Воля принимается как необходимое условие подлинного действователя, без которого действователь немыслим. Целеполагание как проявление воли могут осуществлять, с точки зрения мутазилитов, Бог и человек: только они и могут быть поняты как подлинные действователи, отвечающие за возникновение и изменение мира и всего находимого в нем.
654
Это означает, что для подлинного действователя не может стоять вопрос о свободе воли: воля служит условием действия, без которого действователь немыслим. Вот почему в начальный период развития рефлексии, у мутазилитов, признающих человека подлинным действователем, вопрос о свободе воли не ставится. Положение о свободе воли надо отличать от положения об автономии действователя, то есть о его само-властии, иначе говоря, о наличии всех условий полноценного действия. Выбор — еще не действие: действенная эпистема предполагает постановку вопроса о том, способен ли действователь не просто иметь, но осуществить свою волю — которая у него безусловно свободна. Вопрос, иначе говоря, не в том, чтобы сделать выбор; вопрос в том, чтобы этот выбор осуществить, сделать истинным — на деле, т. е. через действование. Вопрос в том, обладает ли человек как действователь способностью утвердить (вспомним истину-х̣ак̣к̣, утверждаемую действователем) свое действие и его результат.
Если всякий процесс, происходящий в мире (восход и закат солнца и луны, выпадение дождя, произрастание растений, рождение детей, действия и взаимодействия людей), требует для своего объяснения возведения к действователю, то понятно, что к человеку могут быть возведены далеко не все процессы, и даже не бóльшая их часть. Видение Бога как агента действий и изменений, происходящих в мире, требуется процессуально-действенной эпистемой и вовсе не свидетельствует (как это часто неверно толкуют, не понимая данной принципиальной черты арабо-мусульманского мировоззрения) о некоем «фидеизме» и отказе от рационального объяснения.
Напротив, такое видение — первый и необходимый шаг к рационализации представления о мире как результате действий действователя. Для того чтобы рационализация действительно произошла, необходимо сделать еще один шаг. Он заключается в том, чтобы понять результат действия как неизбежный, как не зависящий ни от чего, кроме внутренней закономерности действия. Некто (пусть это будет Бог или человек), рассматриваемый как именно некто, или, как выражались арабо-мусульманские мыслители, как «самость» (з̱а̄т), не представляет подлинного интереса в пределах процессуально-действенной эпистемы. Самость как таковая, как некая субстанция, не производит никакого действия и не может отвечать ни за устройство мира, ни за его перемены. А вот рассмотренная как «действующее» (фа̄‘ил), т. е. как действователь, она производит результат действия (маф‘ӯл, букв. «делаемое»), связь между которыми и должна быть понята как некий процесс, имеющий место в мире и объясняющий его устройство или изменение.
Рационализация предполагает нахождение законосообразности, определенной устойчивости мира. Если субстанциально-ориентированное греческое мышление открывает основание такой устойчивости в субстанциальности, связывая с произвольным действием неустойчивость и невозможность закономерного расчета, то процессуально-ориентированное мышление открывает устойчивость мира как устойчивость связи между действователем и результатом действия (фа̄‘ил «делающим» и маф‘ӯл «делаемым»). Эта устойчивая связь, выраженная собственно действием
655
(фи‘л «делание»), и позволяет закономерно перейти от действователя к результату или, напротив, от результата к действователю, за него отвечающему.
Заметим, что такой переход именно закономерен, а значит, не зависит ни от какого произвола: при условии, что результат необходимо связан с агентом действия, устойчивое и не зависящее ни от какого произвола объяснение мира может быть достигнуто в контексте процессуально-действенной эпистемы. Именно в признании этой необходимой связи заключается здесь решающий момент, отделяющий рациональное объяснение от иррационального.
Мутазилиты, первые в исламской мысли борцы за рациональность, стали и мыслителями, последовательно признававшими такую необходимую связь. Наиболее ярко эта проблематика встала при обсуждении вопроса о божественных атрибутах: эти дискуссии имеют значение вовсе не для понимания того, каков Бог (когда бы он рассматривался субстанциально), а для решения вопроса о том, как устроено его действие, объясняющее — в процессуальной перспективе мышления — закономерное устройство мира. Именно в этой точке догматизированная мысль исламского вероучения (ашаризм и матуридизм) принципиально порвала с рациональным философствованием мутазилитов, предпочтя иррациональное утверждение об отсутствии необходимой связи между действенными атрибутами Бога и их результатами. И именно эта необходимая связь была решающим образом восстановлена в философском суфизме — следующем после мутазилизма направлении арабо-мусульманской философии, которое дало целостное (а не фрагментарное) объяснение мироустройства на основе процессуально-действенного взгляда и в контексте соответствующей эпистемы, причем такое объяснение повлекло кардинальный пересмотр представлений о соотношении между вечностью и временем и о месте человека в мироустройстве.
Если первым направлением рационализации у мутазилитов стало утверждение о закономерной и устойчивой связи между действователем и результатом его действия, то вторым направлением было максимально возможное расширение автономии человека как подлинного действователя. Это повлекло за собой урезание всевластия Бога, но также — что значительно более важно — абсолютизацию этических требований к человеку, который был понят как полновластный и ни в чем не ограниченный действователь, а значит, как действователь, полностью определяющий свою судьбу и выбор жизненного пути и несущий за это абсолютную ответственность. Этот пункт стал позже еще одной точкой, где доктринальная догматизированная мысль, которая предпочла урезать автономию действия человека вплоть до полного ее отрицания (такой взгляд обрел почти повсеместное влияние к концу классического периода), пошла на бескомпромиссный разрыв с мутазилизмом. И в этом же пункте философский суфизм внес решающий вклад в многовековой спор о соотношении человека и Бога как действователей, предложив решение неожиданное, но увязанное с целостной системой и необходимое в ее рамках.
Еще одним направлением борьбы за рационализм стало утверждение мутазилитов о рациональной природе положений Закона и, следовательно, принципиальной
656
способности обычного человеческого разума сформулировать эти положения. Мутазилиты бросили серьезный вызов своим оппонентам, утверждавшим, что Закон не может быть независимо открыт человеческим разумом, а потому нуждается в откровении и может быть принесен только посланником. На это мутазилиты возражали, что, если Законодатель предписывает и запрещает поступки, исходя из их природы, а эта природа может быть постигнута человеческим разумом, то и Закон в принципе мог бы быть самостоятельно сформулирован человеком, никогда не слышавшим об исламе и Мухаммаде.
Если провести условную линию от зарождения теоретического дискурса в раннем исламе (хариджиты, шииты, мутазилиты и др.) до конца его классической эпохи, то это будет линия постепенного сужения рационализма и возрастания авторитета не столько основополагающих текстов ислама (Корана и сунны), сколько традиции (так̣лӣд) рассмотрения вопросов вероучения и права, когда решения ученых прошлого принимаются на веру без проверки их не только рациональной, но и текстуальной обоснованности (т. е. обоснованности Кораном и сунной). Именно это выражает интеллектуальную атмосферу традиционалистского этапа развития арабо-мусульманской культуры: отказ от действенного рационализма, наиболее ярко заявленного мутазилитами, и опора на авторитет предшествующих поколений ученых без какой-либо проверки выдвинутых ими положений. Угасание творческого импульса арабо-мусульманской культуры на рубеже классического и традиционалистского этапов совпало с максимальным отказом этой культуры от рационализма, столь ярко проявившегося на заре классического этапа ее развития и обеспечившего ее процветание.
Иррациональное, т. е. нарушающее принцип рациональности и противоречащее ему, следует отличать от внерационального, т. е. не подпадающего под действие принципа рациональности, но и не противоречащего ему, не отвергающего рациональность и в целом ее не ограничивающего. В рамках процессуально-действенной эпистемы противостояние рационального и иррационального объяснения мироустройства представлено в целом как противостояние философии (мутазилизм и философский суфизм) и вероучения (догматизированный калам). Что касается внерационального, то в контексте этой эпистемы оно представлено, если говорить максимально обобщенно, тем знанием, которое обладает статусом изначально-установленного (х̣ак̣к̣, х̣ак̣ӣк̣а). Такое внерациональное знание может пониматься как параллельное рациональному, а может трактоваться даже как своеобразный «материал», как «основа» для деятельности разума, «обрабатывающего» это внерациональное знание. Примером первого служит интуитивное знание; второе представлено таким важнейшим компонентом арабо-мусульманской интеллектуальной культуры, как авторитетные тексты.
Авторитетные тексты ислама — это Коран и сунна; для шиитов это также, в дополнение к этим двум, «Путь красноречия» (Нахдж ал-бала̄г̣а) ‘Алӣ и корпус высказываний шиитских имамов. Авторитет этих текстов имеет надрациональный источник, однако это не означает, что они находятся вне компетенции разума. Как раз
657
наоборот: эти тексты входят в обиход культуры, становятся источником правовых, а также этических норм, источником вероучения только благодаря рациональной деятельности огромной армии ученых, осуществлявших исторический, филологический, правовой и доктринальный анализ этих текстов. Изначально-установленная внерациональная истина и здесь немыслима без вторично-открываемой человеческим усилием рациональной истины. Опора на рациональные методы работы с авторитетными текстами в суннизме заметнее и играет более важную роль, нежели в шиизме с его акцентированной опорой на непререкаемый авторитет имамов.
Рассмотренные характерные черты процессуально-действенной эпистемы ярко проявились в области шариата и фикха.
Шариат (араб. шарӣ‘а «Закон»; в непосредственном языковом смысле — «тропа, протоптанная животными к месту водопоя») — исламский Закон. Это понятие столь же неопределенно, сколь и широко употребимо.
В самом узком смысле под шариатом понимают совокупность несомненно установленных авторитетных норм (нас̣с̣, мн. нус̣ӯс̣), которые закреплены текстом Корана и сунны. Следует иметь в виду, что статус «авторитетной нормы» текст Корана и сунны приобретает только благодаря правоведам, которые в ходе своей рациональной деятельности вычленяют из общего текста Корана и сунны то, что имеет изначально установленный нормативный характер, определяют статус нормы и вводят ее в сферу права. Здесь мы вновь встречаемся с необходимым и в каком-то смысле органичным сочетанием вторично-подтверждаемой истины, выявляющей первично-установленную.
В более широком смысле под шариатом понимают весь комплекс правовых норм и положений, признаваемых той или иной отдельной школой (мазхабом) исламского права. Эти положения имеют частично текстуальный источник (Коран и сунна), а частично обязаны своим выведением законотворческой деятельности правоведов данной школы.
Наконец, в самом широком смысле под шариатом может пониматься весь комплекс норм и положений, когда-либо признававшихся и выведенных во всех, в том числе и исчезнувших к настоящему времени, школах исламского права.
Фикх (араб. фик̣х «понимание») — деятельность исламских правоведов, направленная на понимание (отсюда название этой дисциплины) Корана и сунны как источников норм права, а также на выведение или установление новых норм, не содержавшихся к этих текстуальных источниках. Представителями фикха являются факихи (араб. фук̣аха̄’).
Фикх — теоретическая дисциплина, занимавшая в классическую эпоху первое место среди теоретических наук и породившая необозримую литературу. В сочинениях по фикху оттачивалась и методология, и категориальный аппарат, которые стали в своей базовой части общим достоянием арабо-мусульманской теоретической мысли. Здесь сложились усилия ученых, представлявших тогда основные области знания: филология во всех ее составляющих, необходимых для понимания смысла текстуальных источников права; другие коранические науки, нужные для
658
максимально безошибочного выведения норм; вероучение; философия, во всяком случае, в ее ранней, мутазилитской редакции, когда вопросы определения границ автономии человека и его ответственности были непосредственно сопряжены с фикхом.
Сочинения по фикху бывают тематическими, посвященными той или иной отрасли права, и интегральными, охватывающими все вопросы права в понимании той или иной школы. Второго рода сочинения обнаруживают в своей структуре деление, которое можно считать наиболее общим делением фикха как дисциплины. Он распадается на ‘иба̄да̄т («вопросы поклонения [Богу]») и му‘а̄мала̄т («вопросы взаимодействия [людей]»). И то и другое строится как рассмотрение взаимодействия двух контрагентов: в первом случае — человека и Бога, во втором — человека и другого человека. Такое деление исчерпывает классификацию действователей, как она была введена еще мутазилитами, и обнаруживает прямую зависимость от процессуально-действенной эпистемы, требующей обращать внимание прежде всего на действователя и его взаимодействие с контрагентом, а не на субстанциальные характеристики.
Это же влияние обнаруживается и в понимании фундаментальной категории фикха — х̣ак̣к̣ (мн. х̣ук̣ӯк̣). С этим термином мы уже встречались выше при обсуждении вопроса о понимании истины в арабо-мусульманской культуре. Здесь он обнаруживает свой смысл истины, первично-установленной неким действователем: х̣ак̣к̣ выражает обязательное взаимо-действие двух сторон, которые в самом общем виде могут быть поняты как действующее и претерпевающее некоего отношения, которое их связывает.
Вот почему термин х̣ак̣к̣ в фикхе обозначает право-обязанность: обе стороны здесь важны и не могут быть отброшены, поскольку выражают связанность двух сторон некоего отношения. Х̣ак̣к̣ выступает как «право» для одной стороны и как «обязанность» для другой, выражая их непременную согласованность.
Это означает, что предметом фикха служит не индивид — субъект права, для которого права очерчивают область его суверенитета и для которого обязанности выступают как «столкновение» его права с правами других таких же индивидов. Здесь изначальный фокус внимания — другой: это связанность двух сторон некоего взаимодействия в точке х̣ак̣к̣, в точке право-обязанности. Субъектом право-обязанности, если это выражение можно употребить в данном случае, выступает не индивид, а связка двух контрагентов: либо человек-и-Бог (если речь идет о ‘иба̄да̄т «вопросах поклонения»), либо человек-и-человек (если имеются в виду му‘а̄мала̄т «вопросы взаимодействия» людей между собой).
В этом смысле право-обязанность (х̣ак̣к̣) не индивидуальна, она выходит за пределы атомарного индивида и предполагает минимальную связанность двух контрагентов. В условиях отсутствия церкви и иных институтов, обеспечивающих тотальный контроль над обществом «сверху» и его целостную организацию, исламское право уделяет первоочередное внимание право-обязанностям (х̣ук̣ӯк̣), которые, как сетью, покрывают социальное пространство и обеспечивают сцеп
659
ление социальной ткани, действуя «снизу». Исламское мировоззрение, противопоставляющее себя джахилийному как индивидуалистичное — коллективистскому, уделяет особое внимание инструментам обеспечения социальности, и прежде всего фундаментальной категории х̣ук̣ӯк̣.
Категория х̣ак̣к̣ предполагает внимание к поступку (‘амал), который выступает в качестве первоочередного, если не исключительного, объекта внимания исламского права. Принятая здесь система «пяти категорий» (ал-ах̣ка̄м ал-х̱̱амса) классифицирует все поступки как попадающие в одну из этих классификационный ячеек. Собственно, задача факиха — понять, как можно классифицировать тот или иной реальный поступок и, если такая классификационная идентификация не описана в теории, развить теорию права и с помощью имеющихся механизмов подвести реальный поступок под одну из этих категорий. Во многом книги по фикху являются описанием подобных процедур.
Эти «пять категорий» следующие: обязательное (ва̄джиб, фард̣), рекомендуемое (мандӯб, сунна), безразличное (муба̄х̣), нерекомендуемое (макрӯх) и непозволительное (х̣ара̄м, мах̣з̣ӯр). Эта классификация соотносится, с одной стороны, с приказанием (’амр) и запретом (нахй), а с другой — с вопросом о воздаянии (джаза̄’) в будущей жизни, будь то награда (с̱ава̄б) или наказание (‘ик̣а̄б). Приказание и запрет определяются на основании коранического текста или сунны и, как считается, выражают волю Законодателя. Комбинация двух сторон — предписанности/запрещенности и воздаяния — и определяет, к какой категории будет отнесен тот или иной поступок. Обязательными являются поступки, которые предписаны и выполнение которых вознаграждается, а невыполнение карается. Непозволительными — те, которые запрещены и несовершение которых вознаграждается, а совершение наказывается. Рекомендуемыми являются поступки, которые предписаны, совершение которых вознаграждается, но неисполнение которых не наказывается. К нерекомендуемым относятся те, от которых предписано воздерживаться, совершение которых не наказывается, но воздержание от которых вознаграждается. Что касается безразличных поступков, то к ним относятся такие, совершение или несовершение которых никак не нарушает волю Законодателя: относительно них не высказываются ни Коран, ни сунна, ни шариат в широком смысле (правовые установления мазхабов), и человек с точки зрения фикха волен совершать или не совершать их.
Эта сложная система классификации возникла исторически, в ходе анализа основополагающих религиозно-правовых текстов — Корана и сунны. Ее введение в значительной степени было вызвано потребностью истолковать характер запретов и рекомендаций, содержащихся в этих текстах. Зачастую было непросто установить, как понимать указание о необходимости совершать то или иное действие или воздерживаться от него — как абсолютное, обращенное ко всем членам общины, или ограниченное определенной группой или определенными условиями. Во многом задача разграничения таких императивов была решена благодаря разделению категории обязательных поступков на две области. Одна именуется
660
фард̣ ‘айн («обязательные как таковые»), другая — фард̣ кифа̄йа («достаточно-обязательные»). К первым относятся действия, которые должен выполнять каждый член исламской общины без исключения. Их примером могут служить пять «столпов ислама»: формула исповедания веры, молитва, ежегодный налог в пользу неимущих зака̄т, пост в месяц рамадан и паломничество в Мекку (х̣аджж). Что касается второго вида обязательного действия, то для того, чтобы оно считалось исполненным, достаточно (отсюда и его название), чтобы его выполнили только некоторые члены общины. Скажем, «молитва по усопшему» (с̣ала̄т ал-джана̄за) относится к таким достаточно-обязательным действиям: достаточно, чтобы некоторые из присутствующих на похоронах прочитали молитву по покойнику, и тогда все присутствующие считаются выполнившими свой долг, но если молитву не прочтет никто, «упущение» (невыполнение должного) будет вменено в вину каждому. Заметим, что речь идет именно об «обязательных», а не просто о «поощряемых» действиях: хотя наличие категории «рекомендуемых» (то есть «хороших», но «не обязательных») действий дает возможность разделить «обязательное» и «поощряемое», не вводя категорию «достаточно-обязательное», теория не использует эту возможность.
Основы фикха (’ус̣ӯл ал-фик̣х) — это универсально-признаваемые источники определения правовых норм, т. е. подведения рассматриваемой ситуации под одну из «пяти категорий». В качестве таковых суннитская мысль признает следующие: Коран; сунна; к̣ийа̄с — букв. «соизмерение», т. е. перенос установленной правовой нормы на новый случай; иджма̄‘ — «консенсус». Шииты критикуют к̣ийа̄с, считая его ненадежным источником. Дело в том, что «соизмерение» — это рациональная процедура, производимая факихом с опорой исключительно на человеческие способности рассуждения. Шиитская мысль, ищущая опору в безусловном авторитете, вместо к̣ийа̄с выдвигает в качестве основы фикха ‘ак̣л «разум», понимая под ним установки шиитских имамов, обладающие статусом несомненной истины.
Коран и сунна выступают в качестве источника определения правовых норм не как исходный, «чистый» текст, который мы читаем в соответствующих книгах. На пути превращения того или иного отрывка коранического текста или положения, зафиксированного в хадисах, в нас̣с̣ — правовую норму, обладающую несомненным авторитетом текста, лежит серьезная и кропотливая работа факихов, в долгих дискуссиях и рассуждениях вырабатывавших понимание таких норм. Дело в том, что текст Корана и сунны — это не юридический документ, предполагающий ясное и недвусмысленное определение всех деталей, без которых он попросту не является юридическим. Оснастить весьма расплывчатые (с юридической точки зрения) указания Корана и сунны всем необходимым, превратив их в текст, устанавливающий правовые нормы, — работа факиха. К примеру, эти тексты могут выражать факт отрицательного отношения к чему-либо, например к созданию изображений живых существ. Однако такое отрицательное отношение может быть выражено неявно: например, известный хадис утверждает, что дом, где имеются изображения, не посещают ангелы. Далее, сам факт отрицательного отношения
661
ничего не говорит о том, под какую из двух запрещающих норм — «нерекомендуемое» или «запретное» — подпадает изображение живых существ; между тем это далеко не маловажный вопрос, поскольку в первом случае этот поступок не подлежит юридическому наказанию, а во втором — подлежит. Выяснить, действительно ли данный хадис означает отрицательное отношение, сличив его с другими хадисами на эту тему и с кораническими положениями, определить свое отношение к возможным противоречиям (далеко не во всех случаях сунна и Коран высказываются однозначно по одному и тому же вопросу) и, наконец, установить конкретную юридическую норму, обосновав свое решение, — вот в чем заключается работа факиха, требующая огромной эрудиции и серьезной квалификации. Нередко (как в случае с изображением живых существ) единства мнений среди факихов не удается достичь, и разные школы исламского права высказываются различным образом по одним и тем же вопросам.
Если некий случай, который рассматривает факих в своих теоретических работах или с которым сталкивается на практике кади (араб. к̣а̄д̣ин «судья»), напрямую подпадает под установленную текстуальную норму-нас̣с̣, то на этом работа факиха или судьи фактически завершается.
Однако в реальной жизни такие случаи встречаются не столь часто. Если прямое подведение невозможно, то следует прежде всего исследовать, нельзя ли «соизмерить» данный случай с тем, для которого установлена текстуальная норма-нас̣с̣. Процедура «соизмерения» (к̣ийа̄с) состоит из нескольких шагов.
1. Для исходного случая, норма которого известна, необходимо выяснить, на каком основании (‘илла) Законодатель ввел данную норму. 2. В рассматриваемом случае необходимо установить, сохраняется ли основание введения нормы или нет. 3. Если основание сохраняется, норма переносится на новый случай; если основание не сохраняется, норма не переносится.
Процедура соизмерения выглядит очень понятной и, по существу, представляет собой алгоритм. Однако все дело в том, что основания введения норм в Коране и сунне указаны нечасто; бывает и так, что они указаны в иных местах, нежели тот текст, который вводит норму, и надо определить, действительно ли разные тексты связаны; порой могут быть найдены указания на разные обоснования; наконец, обоснование может быть вообще не указано, что случается нередко. Если обоснования нет, факих должен, исходя из общей эрудиции и понимания Закона и его целей, додумать такое обоснование; если есть возможность вывести его из имеющихся текстов, он должен в деталях обосновать такой вывод. В любом случае, если основание нормы не указано явно и недвусмысленно Законодателем, его формулировка считается результатом собственного усилия факиха.
Всегда отмечается, что факих может оказаться прав, указывая то основание, которое имел в виду Законодатель, вводя норму (а основание всегда имеется, даже если оно не указано явно, поскольку никакие нормы не введены необоснованно), а может оказаться и неправ. Нетрудно видеть, что фикховый к̣ийа̄с попадает в ту категорию знания, которая именуется з̣анн «мнение», и не дотягивает
662
до йак̣ӣн «уверенности». Именно на этом основании к̣ийа̄с не признают шииты, считающие, что только йак̣ӣн может служить основанием вывода норм Закона. На этом же основании фикховый к̣ийа̄с критиковали такие выдающиеся фигуры, как ал-Г̣аза̄лӣ (блестящий факих и знаток аристотелевской логики) и Ибн Рушд (знаменитый факих и не менее знаменитый представитель фальсафы), поскольку силлогизм, также обозначающийся термином к̣ийа̄с, дает уверенное знание (йак̣ӣн), а не мнение.
С одной стороны, такое сравнение двух типов к̣ийа̄са является не более чем софизмом: ведь статус «мнения» фикховый к̣ийа̄с имеет не потому, что сама процедура соизмерения дефектна, а только потому, что исходное знание, необходимое для исполнения этой процедуры, отсутствует (неизвестно обоснование нормы в исходном случае). Но и силлогизм, совершенный как процедура, не даст уверенного знания, если нет уверенности в исходных посылках. С этой точки зрения на деле нет разницы между фикховым и силлогистическим типами к̣ийа̄са, поскольку как процедура они равно совершенны и столь же равно зависят от качества исходного знания, которое обрабатывается этими процедурами.
С другой стороны, различие между двумя типами к̣ийа̄са — различие эпистемологическое, а точнее, различие эпистем, их породивших. Силлогизм построен на представлении о классификации субстанций, т. е. отнесении вещей к тому или иному классу на основании признаков, приписываемых им. Фикховый к̣ийа̄с создан на основе процессуально-действенной эпистемы: он сосредоточен на возможности переноса действия с одного претерпевающего на другое, а вовсе не на отнесении вещи к тому или иному классу. Изначальное установление нормы осуществлено Законодателем; факих имитирует это первично-устанавливающее действие, вторично осуществляет его, но в отношении другого объекта, направляя то же действие на другое претерпевающее. Он имеет право сделать это, опираясь на основание (‘илла): именно оно обосновывает изначальное действие Законодателя, и оно же обосновывает вторичное установление, то есть повторение того же действия факихом. Если контекст нашего рассуждения, наш мыслительный мир задан этой эпистемой, для нас просто не может иметь значения общность атрибутов субстанций, позволяющая их классифицировать так или иначе: все эти соображения могут быть верны, но они не имеют решающего значения в рамках данной эпистемы. Для того чтобы вместо фикхового к̣ийа̄са осуществить рассуждение на основе силлогизма, необходимо сменить угол зрения, сменить контекст мысли, иначе говоря, сменить эпистему.
Этим объясняется тот факт, что, несмотря не неоднократные призывы того же ал-Г̣аза̄лӣ (и некоторых других известных фигур), факихи не отказались от фикхового к̣ийа̄са в пользу аристотелевского силлогизма. Ведь как рациональные процедуры два типа к̣ийа̄са не имеют преимуществ друг перед другом; факихи работают с таким материалом, где и силлогизм не даст уверенного знания в силу отсутствия уверенности в посылках; применение силлогизма требует смены эпистемы, что вряд ли возможно как массовое явление в пределах культуры.
663
В западной и отечественной литературе распространен перевод термина к̣ийа̄с, обозначающего фикховую процедуру «соизмерения», как «суждение по аналогии». Такой перевод вовсе упускает из виду эпистемное различие двух типов к̣ийа̄са и превращает фикховый к̣ийа̄с в ущербный в сравнении с силлогизмом метод рассуждения, помещая их не в двух параллельных перспективах, заданных двумя разными эпистемами, а перемещая фикховый к̣ийа̄с в неорганичную для него перспективу субстанциально-ориентированного мышления и проводя на основе этого линейное сравнение (которое оказывается не в пользу так переинтерпретированного фикхового к̣ийа̄са). Этому способствуют привычки мышления культур, привязанных к собственным эпистемам; масла в огонь подлили и некоторые представители фальсафы (тот же Ибн Рушд), утверждавшие, что фикховый к̣ийа̄с — это на самом деле тамс̱ӣл, т. е. суждение по аналогии (букв. «уподобление»), что окончательно запутало дело.
К̣ийа̄с в фикхе представляет собой собственное усилие факиха, благодаря которому Закон получает приращение. В самом общем виде такого рода деятельность, имеющая целью самостоятельный вывод норм (а не подведение случаев под подкрепленные авторитетом нормы-нас̣с̣), получила название «иджтихад» (араб. иджтиха̄д «усердствование»). Иджтихад осуществляется в виде применения целого ряда приемов и процедур, которые предполагают большую или меньшую зависимость муджтахида (факиха, осуществляющего иджтихад) в отношении текстуально закрепленной нормы-нас̣с̣, вплоть до ее игнорирования: например, прием истих̣са̄н («предпочтение») означает самостоятельное введение некоторой нормы вместо нормы-нас̣с̣, которая должна была бы действовать в данном случае; конечно, такое предпочтение не бывает произвольным, а должно быть серьезно обосновано.
В классическую эпоху «усердствование» стало основным, магистральным руслом развития Закона, и можно с уверенностью сказать, что, если бы исламский Закон не имел в самом себе эффективных механизмов развития и реагирования на меняющиеся, подчас кардинально, условия жизни, никакого исламского государства и исламской цивилизации попросту не возникло бы. Едва ли не основной категорией, которая обосновывает такого рода развитие (вплоть до игнорирования нормы-нас̣с̣) и ситуативное реагирование, является категория «интересы уммы» (мас̣а̄лих̣ ал-’умма, сокр. мас̣а̄лих̣ «интересы», ед. ч. мас̣лах̣а «интерес»). Под интересом надо понимать никак не сиюминутную выгоду или желание воспользоваться конъюнктурой, вообще не что-то корыстное и эгоистичное. Под интересами уммы понимаются самые фундаментальные интересы выживания и жизнеобеспечения исламского общества, которые имеют основополагающий и долговременный характер и, конечно же, не меняются со дня на день. Уже ‘Умар, второй халиф, после завоевания огромных территорий, хозяйствование на которых велось методами, незнакомыми арабам, не применил коранические нормы раздела захваченной добычи и оставил все в собственности казны, назначив армии денежное содержание. Безусловно, эта мера, представлявшая собой пример иджтихада в его крайней форме,
664
была одним из важнейших шагов, позволивших создать процветающее исламское государство.
Исламский Закон имеет стандартный эпитет «божественный» (шарӣ‘а ’ила̄хиййа «божественный Закон»). Этот эпитет нельзя понимать, как это нередко случается в литературе, в качестве указания на неизменность. Неизменным статусом обладают только нормы-нас̣с̣, но и они, во-первых, являются результатом «обработки» авторитетных текстов факихами, а во-вторых, не составляют всего содержания Закона: пожалуй, гораздо более значительная его часть является результатом иджтихада и других форм работы факихов. Таким образом, исламский Закон сочетает первичную установленность изначальным Действователем с дальнейшим непрестанным действием огромной армии факихов, — сочетание того же типа, что сочетание первично-установленной истины-х̣ак̣к̣ и вторично-удостоверяемой истины-с̣идк̣.
Шариат и фикх служат ярким подтверждением той основополагающей роли, которую сыграла в становлении и развитии арабо-мусульманской культуры процессуально-действенная эпистема. Этим объясняется и такая черта исламского права, как отсутствие кодификации: шариат в представлении арабо-мусульманской культуры не перестает быть единым Законом оттого, что разные школы исламского права могут решать один и тот же вопрос различным образом, а в суде можно получить разные результаты для одного и того же дела в зависимости от того, какой школы придерживается данный судья. Дело в том, что внимание здесь обращено на правильность согласования вторично-выводимой нормы (деятельность факихов) с первично-установленной (воля Законодателя), а не на то, будут ли совпадать результаты деятельности факихов разных школ: правильность (истинность) их решений определяется не фактом отсутствия противоречий между ними, а правильностью вывода каждой из них из первично-установленных основ.
Иджма̄‘ — «консенсус» по тому или иному юридическому вопросу служит последней из основ фикха. Идея консенсуса как источника норм восходит, очевидно, к известному хадису, в котором Мухаммад утверждает, что его умма не может единогласно «впасть в заблуждение» (д̣ала̄л), т. е. единогласно принять неправильное решение по какому-либо вопросу. С началом исламских завоеваний консенсус уммы перестал быть даже теоретически достижимым; это требование было сужено сперва до факихов уммы, а затем и до факихов определенной местности.
От основ фикха как источников норм надо отличать науку об основах фикха (‘илм ал-’ус̣ӯл, ‘илм ’ус̣ӯл ал-фик̣х), в которой исследуются сами эти источники, а также разрабатываются теоретические приемы рассуждения и работы с ними. Сочинения по основам фикха составляют важный жанр литературы и предоставляют богатый материал для изучения теоретического мышления арабо-мусульманской культуры, который пока еще недостаточно использован исследователями.
Деятельность факихов привела к возникновению мазхабов (араб. маз̱хаб «путь следования»), или школ исламского права; в настоящее время существуют четыре суннитских мазхаба и один шиитский (джафаритский), которые называются по имени своих основателей. К концу классического периода начинается процесс,
665
результаты которого получили известное название «закрытие дверей иджтихада». Он заключался в постепенном перемещении внимания факихов с творческого развития Закона на слепое следование авторитету представителей своего мазхаба, как правило, наиболее близких по времени. Последовавшая эпоха, начало которой датируют XIII—XIV вв., получила название эпохи традиционализма (так̣лӣд). При этом была упущена самая суть процессуального выстраивания исламского Закона — необходимая связь с изначально-установленной истиной, постоянная сверка вновь выводимого знания и этих изначально-установленных основ. Эпоха традиционализма была (как это ни покажется странным) и эпохой забвения Корана и сунны в качестве живых источников права, эпохой, когда сочинения и рассуждения факихов первых, самых творческих веков ислама были преданы забвению ради подражания более поздним и не всегда лучшим произведениям представителей того или иного мазхаба. Именно против этого с такой силой восстали корифеи нахды (араб. нахд̣а «возрождение») конца XIX — начала XX в., попытавшиеся отбросить балласт веков ради возвращения творческого импульса развитию исламского Закона. (В этом они имели исторического предшественника в лице знаменитого Мух̣аммада Ибн ‘Абд ал-Вахха̄ба, 1703—1792.) Вот почему возвращение к Корану и сунне далеко не всегда означает движение вспять, назад от современности: как раз наоборот, это может быть стремлением дать исламскому Закону и исламскому мировоззрению новую жизнь в условиях современности, вернувшись к тем механизмам и процедурам вывода новых норм, которые обеспечивали его жизнеспособность в прошлом.
Сегодня исламский Закон является действующей системой права лишь в небольшой части того, что называется исламским миром. Это арабские страны Аравийского полуострова и Персидского залива, избежавшие колониальной зависимости, а за пределами арабского мира — Иран, где исламский Закон был введен после революции 1979 г. В остальных странах действуют системы права, построенные на основе западных, в основном — тех систем права, которые действовали в их метрополиях; здесь шариат признается лишь в качестве одного из источников права, хотя до сих пор это было скорее ритуальной уступкой традиции. Вместе с тем на протяжении второй половины XX в. во всем исламском мире наблюдался устойчивый и массовый рост исламского сознания. Этот сложный и совсем не однозначный процесс далек от своего завершения, и тем не менее усиление исламских политических партий — реальность сегодняшнего исламского мира, в том числе и в странах т. н. «арабской весны». Сможет ли исламский мир предложить свой вариант цивилизационного развития, опирающийся на собственные культурные традиции и собственное мировидение — и, вероятно, собственную эпистему, — это вопрос, на который должно ответить будущее.
 |

|
666
Философия суфизма (см. об этом [Насыров 2009]) представлена в первую очередь учением Мух̣йӣ ад-Дӣна Ибн ‘Арабӣ, именуемого Величайшим шейхом, а также его последователей.
Ибн ‘Арабӣ родился в 1165 г. в г. Мурсия (современная Испания), а умер в 1240 г. в Дамаске. В юношеском возрасте испытал первый мистический опыт. Считается автором нескольких сот работ, хотя некоторые из них исследователи признают апокрифическими. Основные произведения изданы, но многие по-прежнему остаются в рукописи.
Три сочинения Ибн ‘Арабӣ имеют первостепенное значение для понимания его философии. Это, во-первых, ранний труд Инша̄’ ад-дава̄’ир («Составление окружностей»), в котором намечены основные контуры философской системы и разработано важнейшее понятие «Третья вещь» (аш-шай’ ас-с̱а̄лис̱). Во-вторых, ал-Футӯх̣а̄т ал-маккиййа («Мекканские откровения») — многотомное энциклопедическое произведение, которое Ибн ‘Арабӣ создавал на протяжении второй половины своей жизни. Наконец, это Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам («Геммы мудрости») — небольшое произведение, законченное незадолго до смерти и содержащее квинтэссенцию философских взглядов Величайшего шейха.
Философию Ибн ‘Арабӣ отличает ряд черт. Это прежде всего высокая степень систематичности. Ибн ‘Арабӣ не придерживается манеры формально-систематичного изложения своих взглядов, которая в большей или меньшей степени характерна для прочих направлений и школ классической арабо-мусульманской философии. Однако это лишь подчеркивает имплицитную систематичность его учения, которая становится явной при исследовании терминологии. Категории, понятия и термины, вплоть до самых редких, употребляются на протяжении обширного пространства его текстов в одном и том же смысле и, что не менее важно, ясно обнаруживают системные связи между собой. Этот терминологический тезаурус и представляет собой философскую систему Ибн ‘Арабӣ в свернутом состоянии и может быть развернут как последовательное систематическое изложение его философии.
Другая яркая особенность текстов Ибн ‘Арабӣ — их полифония. Величайший шейх великолепно владеет всем арсеналом языков арабо-мусульманской культуры: и языком коранической и околокоранической мифологии, и языком филологов, и языком факихов, и языком мутакаллимов, и языком предшествующей философии, и, конечно же, языком суфиев. Он не только владеет ими, но и говорит на них,
667
поэтому его тексты многослойны. Это нередко ошибочно принимают за несистематичность. На самом же деле в этом находит свое проявление не просто систематичность, но и та высшая степень совершенства в создании текста, когда принцип его построения отражает центральную содержательную идею, которую хочет донести до читателя автор. Как любая вещь в мире в качестве своей оборотной стороны, или своего скрытого (ба̄т̣ин), указывает на божественность, так и любой отрывок текста Ибн ‘Арабӣ следует читать как явленное (з̣а̄хир) указание на скрытую (ба̄т̣ин) за ним философскую истину, причем такой переход от явного к скрытому не произволен, а всегда обоснован и закономерен. Таким образом, каждый из слоев текста Ибн ‘Арабӣ, написанный своим языком, сообщает не только некие содержательные положения, относящиеся к данной отдельной области знания или практики, но и отсылает к своему философскому истолкованию. Наконец, такой принцип построения текста намекает на важнейший вывод из философии Ибн ‘Арабӣ: истину (х̣ак̣к̣) невозможно не выразить, и любое положение может казаться неправильным лишь при внешнем (з̣а̄хир), т. е. частичном, его прочтении, в отрыве от его ба̄т̣ин-стороны, при установлении же з̣а̄хир-ба̄т̣ин-баланса всякое отдельное и частичное положение обретает свою полноту и становится выразителем истины.
Поэтому подлинное истолкование текста Ибн ‘Арабӣ предполагает как экспликацию содержания каждого из его отдельных слоев (Ибн ‘Арабӣ часто пишет сжато, поэтому и явный — з̣а̄хир — слой текста нуждается в разворачивании), так и непременный переход к его ба̄т̣ин-уровню, т. е. философскому смыслу того, что сказано нефилософским языком. Порой Ибн ‘Арабӣ показывает, как должен осуществляться такой переход к внутреннему, но часто читателю приходится делать это самому, причем без такой операции текст Ибн ‘Арабӣ останется не истолкованным в своей полноте, а значит, и нефилософским. Как выглядит один и тот же текст Величайшего шейха при применении такого метода прочтения и в его отсутствие, можно увидеть, сравнив два комментария (см. [Ибн Араби 2012; Амули 2012]).
Таким образом, включение дискурсов, характерных для классической арабо-мусульманской культуры, свидетельствует — при применении адекватной техники чтения — о виртуозности Ибн ‘Арабӣ в выражении своих философских идей, а вовсе не об эклектичном, бессистемном заимствовании наработанного культурой материала. То же относится и к взглядам отдельных мыслителей: Величайший шейх упоминает и обсуждает тезисы и выдающихся суфиев, и фала̄сифа, и мутакаллимов, и ал-Г̣аза̄лӣ, и многих других, однако всякий раз дает им свое истолкование и показывает их место в собственной системе взглядов, представляя их как тот или иной аспект подлинной, целостной истины. Система Ибн ‘Арабӣ имеет поэтому логический приоритет в отношении этой полифонии взглядов: она не может быть сведена к их набору, напротив, они обретают свой смысл и полноту, только будучи включены в ее контекст.
Наконец, особенностью философии Ибн ‘Арабӣ является ее новаторский характер. Ибн ‘Арабӣ предлагает такое решение центральных онтологических и гносеологических проблем, которое, с одной стороны, отталкивается от парадигмы классической арабо-мусульманской философии, а с другой — по сути дела, преодолевает ее.
668
Парадигматический вопрос о единстве первоначала и множественности мира истолковывается в контексте процессуального взгляда на мир, во-первых, как вопрос о возможности утверждать единство перводействователя, во-вторых, как вопрос о его соотношении с множественностью следствий, находимых в мире, и, в-третьих, как вопрос о возможности отнести все множественные действия к единому перводействователю (тавх̣ӣд аф‘а̄л — «утверждение единства действий»). Свой ответ на этот вопрос предлагали и разные направления арабо-мусульманской философии, и вероучение. Эти ответы были разными, но они всегда строились на основе альтернативного выбора: либо Бог, либо человек объявлялись подлинным действователем в каждом отдельном случае. При этом религиозное благочестие требовало отдать перевес Богу, чем и объясняется тот факт, что в ашаритском каламе очень быстро возобладала позиция, противоположная мутазилитской и объявлявшая только Бога подлинным действователем, а значит, и творцом всех следствий, включая волю человека (что фактически низводило человека до статуса неодушевленной субстанции, неспособной выбирать и проводить в жизнь свой выбор). Ибн ‘Арабӣ предлагает принципиально другой, безальтернативный ответ на вопрос об истинном действователе: не Бог или человек, а Бог-и-человек являются агентом любого действия. Такой ответ, с одной стороны, решал противоречия и сложности, с которыми сталкивалась мысль на протяжении классического периода, а с другой — требовал изменить само парадигматическое основание, определявшее соотношение между Богом и миром.
Вот почему, если брать взгляды Ибн ‘Арабӣ в их целостном истолковании, то окажется, что этот мыслитель закладывает основу для нового этапа философствования, который мог бы опираться на другую парадигму, нежели та, что определяла движение философской мысли на классическом этапе ее развития. Если Ибн Х̱алдӯн, о взглядах которого речь пойдет ниже, является выразителем нового, неклассического типа философствования, то Ибн ‘Арабӣ предлагает такое осмысление классической философской проблематики, которое — при последовательном продумывании предложенных им решений — открывает новые горизонты и фактически предлагает новую базовую парадигматику.
Оба этих мыслителя предлагают взгляд на предмет, который обнаруживает его устойчивость и закономерность в нем самом, а не в некоем трансцендентном ему основании. Для Ибн Х̱алдӯна это — процесс обустраивания мира человеком, который определяется собственными, имманентными закономерностями. Для Ибн ‘Арабӣ это — процесс ежемгновенного воплощения божественности в мире. При всем различии предмета и содержания своих учений Ибн Х̱алдӯн и Ибн ‘Арабӣ схожи именно в этом: оба они обнаруживают процесс и его внутреннюю логику как имманентное основание устойчивости предмета их мысли, исключающее необходимость опоры на нечто внешнее.
Краеугольным камнем философской парадигмы классического периода служит философски переосмысленное понятие Бога: оно составляет трансцендентный источник и самого мира, и его устойчивости. Бог — Первоначало мира,
669
никак от него не зависящее и служащее абсолютным источником действенности. Этим задается и линейный характер причинности: Первоначало — только причина, но ни в каком смысле не следствие. Наконец, Первоначало безусловно едино, тогда как его следствие, мир, множествен. Проблема соотношения единства и множественности — парадигмально заданная для философской мысли классического периода, и как бы она ни решалась, неизменным оставалось исходное представление о безусловном единстве Первоначала и множественности его следствий.
Эти представления о Первоначале и мире Ибн ‘Арабӣ подвергает сомнению и критическому исследованию. Действительно ли предшествующим учениям удалось понять Бога как Первоначало, т. е. как абсолютную причину всего существующего? И действительно ли удалось сохранить представление о единстве Бога, понятого как Первоначало, т. е. как первопричина мира?
На оба вопроса Ибн ‘Арабӣ дает отрицательный ответ.
Бог, взятый как Абсолют, т. е. как не ограниченный ничем и ни в чем не нуждающийся, не может быть причиной чего бы то ни было. Основание этого вывода — чисто логическое: причина (‘илла) невозможна без следствия (ма‘лӯл), а значит, говорит Ибн ‘Арабӣ, нечто не может быть причиной, если оно не связано со своим следствием. В самом деле, причиняющее и причиненное — это действующее и претерпевающее, и они образовывают неразъемную пару, где одно невозможно без другого. Но это значит, что причина зависит от следствия: чтобы быть причиной, она нуждается в наличии следствия, — тогда как абсолютный Бог не может в чем-либо нуждаться. Таким образом, абсолютный Бог не может быть причиной мира, т. е. не может играть роль Первоначала.
Абсолютный Бог и абсолютно непознаваем. Любой атрибут, который мы можем приписать Богу, — это наш, и только наш атрибут. Все, что мы говорим о Боге, является не более чем нашим отражением: мы «опрокидываем» на Бога все те атрибуты, которые находим в себе. Мы увидим ниже, что такая стратегия познания не является неправильной, — но она не дает и не может дать знания об абсолютном Боге. Даже если мы отрицаем атрибуты в отношении Бога, все равно мы ничего не узнаем о нем, поскольку отрицаемое — также не более чем наши собственные атрибуты, и такое отрицание не может ничего сообщить о Боге как таковом, т. е. о самом Боге, или о Боге как «Самости» (з̱а̄т).
Бог, взятый как абсолютная Самость, — это «сокровенное» (г̣айб), то, куда нет доступа ни для кого, кроме самого Бога. Сокровенное противопоставляется «свидетельствуемому» (ша̄хид, шаха̄да) — тому, что доступно тем или иным познавательным силам человека. Сокровенное и свидетельствуемое служат логическими условиями друг для друга, поскольку получают эти характеристики только в оппозиции друг к другу: без свидетельствуемого нет и сокровенного, поскольку тогда оно не могло бы быть ни от чего сокрыто. Вместе с тем онтологически они строго разведены: сокровенное не имеет никакой связи со свидетельствуемым, не выступает как его причина.
670
Бог как сокровенное — это чистое «Он». Ибн ‘Арабӣ употребляет это местоимение с определенным артиклем: ал-хува, The Him, — указывая на совершенную единичность божественной оности (хувиййа). С одной стороны, местоимение «он» служит указанием на отстраненность сокрытого абсолюта: «он» исключает какую-либо связь с нами, тогда как «ты» предполагало бы диалогичность, а «я» — субъектную неразличенность. С другой стороны, «он» отправляет нас к понятию оности, которая указывает на чистую вещь, вещь как таковую: в таком качестве это понятие было использовано ал-Кирма̄нӣ, когда ему нужно было указать на Бога как недосягаемого ни для каких познавательных стратегий. В этом отношении позиции ал-Кирма̄нӣ и Ибн ‘Арабӣ имеют определенное сходство: в обоих случаях ни утверждение, ни отрицание атрибутов не дает никакого знания о Боге. Правда, Ибн ‘Арабӣ, в отличие от ал-Кирма̄нӣ, отождествляет Самость Бога и его существование, необходимое благодаря самому себе: это чистое существование, или чистая необходимость, равные Самости Бога, составляют единственное положительное содержание этого понятия.
Бог, взятый как Самость, т. е. так, как его брали все предшествующие учения, кладя это понятие в основу своих построений, — это чистый Абсолют (мут̣лак̣), в котором нет никакой «скованности» (так̣йӣд), а значит, нет и никакой «связанности» (та‘аллук̣) с чем бы то ни было, поскольку любая связь накладывала бы ограничения, сковывая абсолют. Так понятый Бог не может порождать что-либо, говорит Ибн ‘Арабӣ, а значит, не может служить началом для мира.
Чтобы увидеть Бога как причину мира, необходимо взять его не как Абсолют, не как Самость, а как божественность. Понятие божественности (’улӯха, ’улӯхиййа) у Ибн ‘Арабӣ — одно из ключевых, а разделение Самости и божественности — важнейший исходный шаг в построении учения.
Точка зрения божественности предполагает рассмотрение Бога не как Самости, а как «божества» (’ила̄х). Принципиальный момент заключается в следующем: «божество» требует наличия «обожествляемого» (ма’лӯх), то есть мира.
Божество и обожествляемое выступают как пара, которая имеется сразу и которая ни в каком смысле — ни хронологически, ни логически — не предполагает последовательного вывода одного из другого. Напротив, смысл понятия «божественность», которое ближайшим образом раскрывается как пара «божество-обожествляемое», — в том, что эта конфигурация или имеется сразу и целиком, или не имеется вовсе. Пара «божество-обожествляемое» выстроена по процессуальной логике: точно так же действующее и претерпевающее не могут быть оторваны друг от друга, они или имеются как пара, или не имеются вовсе. При этом следует иметь в виду, что действующее и претерпевающее не обязательно связаны генетическим отношением, например «слышимые» звуки не произведены «слышащим» человеком, «читаемая» книга не создана «читающим», и т. д.
«Божество», иначе говоря, не продуцирует «обожествляемое», а имеется вместе с ним. Мир может быть понят как составляющий пару для божества, но не как продуцируемый Богом или выводимый из Бога в каком бы то ни было смысле.
671
В этом — величайшая новация Ибн ‘Арабӣ, поскольку он фактически отрицает возможность понять Бога как Первоначало мира. Это касается и трансцендентного, и имманентного аспектов: Бог как Самость, т. е. как Абсолют, трансцендентен миру, но не является его началом и, следовательно, первым в отношении него; Бог как божество, т. е. как непосредственно связанный с миром (обожествляемым), также не порождает этот мир, а значит, не служит его началом. Бог-и-мир, божество-и-обожествляемое составляют у Ибн ‘Арабӣ целостную конструкцию, которая обоснована только самой собой и своей внутренней логикой. Помещая основание миропорядка внутри него, а не вовне, Ибн ‘Арабӣ фактически делает шаг от мышления средневекового типа к мышлению нововременному.
Итак, устойчивость миропорядка — это устойчивость связи между двумя его сторонами, Богом и миром, или божеством и обожествляемым. Эта связь, понятая как процесс, служит чем-то третьим наряду с ними. Для обозначения этого третьего как процесса, связывающего Бога и мир, божество и обожествляемое, Ибн ‘Арабӣ использует целый ряд терминов: соотнесенности, божественные имена, Третья вещь, Облако, Совершенный человек и др. Эти термины принадлежат разным языкам (выше говорилось о полифонии текстов Ибн ‘Арабӣ), но обозначают одно и то же: постоянный, непрестанный и устойчивый процесс взаимного отображения Бога и мира (божества и обожествляемого).
Термин соотнесенности (нисаб) — наиболее частотный из всех перечисленных. Он принадлежит философскому языку и выступает в паре с другим — с термином «сопряженности» (ид̣а̄фа̄т). Под соотнесенностями и сопряженностями Ибн ‘Арабӣ понимает в самом общем виде связанность Бога с «возможным» (мумкин), под которым понимается любая вещь мира. Такая связанность позволяет говорить не о Самости как абсолюте, а о «божестве» как соотнесенном с «обожествляемым», т. е. с миром. Божество едино как таковое, а множественны его соотнесенности с вещами мира, поскольку те множественны сами по себе. Множественность «опрокидывается» в единство божества благодаря его связанности (или, что то же самое, соотнесенности и сопряженности) с вещами мира.
Ибн ‘Арабӣ поясняет эту мысль следующим примером. Речь человека едина, поскольку говорящий — един, более того, один. Но эта же речь множественна постольку, поскольку соотнесена с разными предметами, о которых идет речь: множественность внешних, независимых от речи предметов делает ее множественной, хотя сама по себе она едина. Точно так же множественность вещей мира, связанных с Богом, заставляет нас понимать его не как абсолют, а как божество, единое само по себе, но множественное постольку, поскольку оно соотнесено со всем множеством существующих вещей.
Соотношение понятий «Самость» и «божественность» — узловая проблемная точка учения Ибн ‘Арабӣ. Самость и божественность — не что-то двойственное; это один и тот же Бог. Вместе с тем абсолютная Самость исключает разговор о мире, тогда как божественность, наоборот, невозможна без наличия вещей мира как соотнесенных с Богом, как изначально составляющих для него пару. Дело
672
не только в смене точки зрения, но и в смене онтологии: Самость — это необходимое само по себе существование, тогда как мир, хотя и соотнесен с божеством, тем не менее собственным существованием не обладает и может получить его только от божественной Самости. Самость, или необходимое-само-по-себе существование, с одной стороны, не может иметь связи с миром, а с другой — мир не может существовать без божественной Самости.
Онтология задана у Ибн ‘Арабӣ системой категорий, ядро которых составляет пара «необходимое-возможное». Постепенно разворачиваясь, они образуют разветвленную и сложную сеть, включающую едва ли не все термины, использованные предшествующей философской мыслью в области онтологии. Разумеется, эти категории подвергаются у Ибн ‘Арабӣ переосмыслению в соответствии с общим контекстом его учения.
Пара «необходимое-возможное» заимствована из лексикона фальсафы. Ал-Фа̄ра̄бӣ и Ибн Сӣной была разработана сложная система онтологических категорий. Любая вещь мира, взятая сама по себе, вне связи с чем бы то ни было, является «возможной» (мумкин). Возможность определяется как неспособность вещи самой по себе дать перевес ни собственному существованию, ни собственному несуществованию. Таким образом, возможная вещь не является ни существующей, ни несуществующей. Если она связывается с вещью, передающей ей «необходимость» (вуджӯб), она становится «необходимой благодаря другому»: то, что передает необходимость, называется причиной существования вещи. Если она связывается с вещью, передающей ей «невозможность» (имтина̄‘), она становится «невозможной благодаря другому»: то, что продуцирует невозможность, называется причиной несуществования вещи. Существование и несуществование — это, соответственно, необходимость-благодаря-другому и невозможность-благодаря-другому; однако возможность как особое онтологическое состояние не является ни тем ни другим, и тройка «возможность-необходимость-невозможность» не может быть выражена в бинарной системе онтологических категорий «существование-несуществование».
Чтобы передать необходимость своему следствию, причина должна ею обладать. Эту необходимость она получает, в свою очередь, от своей причины. Так для любой вещи мира выстраивается ряд предшествующих ей причин. Если бы такой ряд был бесконечным, никакое данное сущее не было бы сущим, поскольку не смогло бы получить свою необходимость: бесконечность невозможно пройти, и если бы изначальная причина была отделена от данного сущего бесконечной цепью передачи необходимости, эта необходимость просто не дошла бы до данного сущего, а значит, оно бы не существовало. Поскольку сущее существует, то есть необходимо, значит, ряд причин не бесконечен: он имеет начало — вещь, которая необходима сама по себе и не нуждается в причине. Это и есть Первопричина, Первая вещь, или Первое — понятие Бога, переосмысленное в фальсафе.
Наконец, понятием, завершающим эту систему категорий, служит понятие невозможного самого по себе — того, что никогда не может стать существующим. Это — чистое несуществование, противостоящее чистому существованию
673
Первопричины, которое никогда не сменяется несуществованием. А все вещи мира, являющиеся возможными, попеременно существуют и не существуют, оставаясь при этом возможными сами по себе и становясь необходимыми (= существующими) или невозможными (= несуществующими) благодаря причинам своего существования и несуществования.
Такова фарабиево-авиценновская система онтологических категорий. Ибн ‘Арабӣ использует ее, одновременно переосмысливая. Чистое существование, или существование, необходимое само по себе, или чистая необходимость — это чистая Самость Бога. Сам Бог и есть само существование. Это фундаментальное положение онтологии Ибн ‘Арабӣ надо понимать в прямом смысле, как оно сформулировано: везде, где мы встречаемся с существованием, мы встречаемся с самим Богом, с его Самостью.
Однако речь именно о существовании, или необходимости, но никак не о возможной вещи (то есть вещи мира) как таковой. У фала̄сифа возможное имеется как таковое, как чистая вещь, независимо от собственного существования и несуществования, и причина лишь передает вещи необходимость (или невозможность), но не производит ее из ничего. Возможные вещи в фальсафе напоминают утвержденные вещи мутазилитов, которые также лишь ждут действия Действователя, который передаст им существование (но не сотворит их из ничего). Этот взгляд, определенный процессуально-действенной эпистемой, хорошо заметен и в фальсафе, поскольку возможная вещь не производится действователем, а имеется сама по себе как претерпевающее для его действия, которое состоит в передаче необходимости, или существования. Существование, таким образом, понимается как атрибут вещи, который придается ей или отнимается от нее.
У Ибн ‘Арабӣ категория «возможное» получает кардинальное переосмысление.
Во-первых, она фактически обозначает все три онтологических модуса вещи мира, которые в фарабиево-авиценновской системе категорий обозначены самостоятельными категориями: несуществование; возможность; существование. Во-вторых, если в фальсафе состояние существования и несуществования вещи наступают попеременно, то у Ибн ‘Арабӣ любая возможная вещь одновременно сочетает все три онтологических модуса. И в-третьих, ни о какой лестнице причин у Ибн ‘Арабӣ речи не идет: возможное получает необходимость напрямую, непосредственно от Самости Бога; более того, такая необходимость и есть Самость Бога.
Рассмотрим эти положения подробно.
Возможное по определению «нуждается» (х̣а̄джа, ифтик̣а̄р) в необходимости, поскольку не имеет ее в себе самом. Это и значит, что возможное нуждается в Самости Бога, поскольку чистая необходимость и есть Сам Бог. Такую нужду возможного в необходимом и, напротив, отсутствие нужды необходимого в возможном Ибн ‘Арабӣ определяет как «божество» (’ила̄х). Категория «божество», таким образом, указывает и на самостную необходимость Бога, и на его связанность с возможным. Возможное при этом не произведено Богом, а лишь «связано» с ним: не будучи онтологически самостоятельным, оно вместе с тем не является следствием.
674
Возможное, получившее существование (или, что то же самое, необходимость), — это существующие вещи мира, любая из которых доступна нашему обыденному восприятию. Такую вещь Ибн ‘Арабӣ называет также «существующая воплощенность» (‘айн мавджӯда). Существующие вещи мира (существующие воплощенности) характеризуются тем, что заключены каждая в своих границах. Это позволяет говорить об их «инаковости» (г̣айриййа) в отношении друг друга, поскольку границы вещи, замыкающие ее, тем самым отделяют ее от всех прочих вещей. Существующие вещи, инаковые в отношении друг друга, могут быть ранжированы по степеням совершенства, где одни превосходят (тафа̄д̣ул) другие.
Возможное получает необходимость от Самости Бога, благодаря чему устанавливается соотнесенность между этой вещью мира и Богом. Но наличие соотнесенности означает, что мы говорим уже не о чистой, абсолютной божественной Самости (она ни с чем не может быть соотнесена), а о божестве. Соотнесенность божества с каждой вещью мира и со всем миром в целом означает, что все вещи «отражены» в божественности. Смысл категории «соотнесенность» — в том, что она устанавливает процессуальное отношение между противоположностями. Действующее и претерпевающее, взятые именно в этом качестве, т. е. не как субстанции, а как соотнесенные стороны процесса, служат в каком-то смысле зеркальным отражением друг друга, «реагируя» друг на друга и тем самым отображая друг друга. У Ибн ‘Арабӣ эта логика процесса лежит в основании выстраивания его онтологии.
Если абсолютная Самость Бога никак не различена и мы можем сказать о ней лишь то, что она — чистое существование и чистая необходимость, то божественность, будучи единством (поскольку это не что-то иное, нежели Сам Бог), вместе с тем представляет собой бесконечное многообразие, имеющееся вследствие ее соотнесенности с многообразием вещей мира. Вещи мира, таким образом, находят свое отражение в божественности, они как будто опрокинуты в божественность, создавая в ней множественность, притом что сама по себе она едина. Именно в этом состоит, по мнению Ибн ‘Арабӣ, подлинное и действительно удачное решение проблемы единства и множественности, над которой безуспешно бились предшествующие течения арабо-мусульманской мысли.
В мире, который — как обожествляемый — составляет пару для божества, возможное получает существование, и каждая вещь мира является существующей воплощенностью. Отраженная в божественности, с которой каждая вещь соотнесена по логике процесса, она же наличествует как «несуществующая воплощенность» (‘айн ма‘дӯма). Несуществующая и существующая вещи, или воплощенности, точно отражают одна другую (в этом смысле они — одна и та же вещь), за исключением атрибута существования: он имеется у вещи в мире, но его нет у несуществующей воплощенности. Помимо термина «несуществующая воплощенность», Ибн ‘Арабӣ использует также синонимичный термин «утвержденная воплощенность» (‘айн с̱а̄бита). Если у мутазилитов утвержденность указывала на чистую вещь до ее существования и несуществования, то у Ибн ‘Арабӣ этот термин оказывается равнозначен несуществованию.
675
Утвержденная, или несуществующая, воплощенность, теряя атрибут существования, вместе с ним утрачивает и те его следствия, которые характерны для нее же как существующей, то есть как для вещи в мире. Это — замыкающие границы, которые однозначно фиксируют вещь и делают ее «иной» (г̣айр), нежели все другие вещи. С утратой атрибута существования вещь утрачивает такие границы, теряя и инаковость в отношении всех других вещей. Несуществующая, или утвержденная, воплощенность — это та же вещь, что имеет атрибут существования и наличествует в мире, однако в божественности она, не обладая инаковостью в отношении всего прочего, характеризуется, как говорит Ибн ‘Арабӣ, «способностью» (’ахлиййа — на современном языке мы бы сказали «квалифированностью») оказаться любой другой вещью.
Неинаковость вещей не означает утраты их самости; она означает стирание фиксирующих границ между ними. Как именно работает механизм неинаковости, мы увидим ниже, когда будем разбирать соотношение между вечностью и временем.
Таким образом, понятие «возможное» как будто «растянуто» у Ибн ‘Арабӣ так, что охватывает и божество, и обожествляемое, и соотнесенность между ними. Возможное, как говорит Ибн ‘Арабӣ, укоренено в обеих сторонах миропорядка и протягивается между ними, соединяя их; оно отражает божественность в мире, а мир — в божественности, самим фактом отражания (скажем так, фиксируя процессуальность) соединяя их. В каком-то смысле возможное — это весь миропорядок, и единственное, что ограничивает эту формулу, — тот факт, что возможное получает существование от Самости Бога. Но и такое ограничение максимально смягчается, поскольку божество, в котором присутствует возможное в качестве утвержденных воплощенностей, — это не что-то иное, нежели Самость Бога, а значит, источник необходимости, передаваемой возможному, не столь уж далек от него.
Пара «божество-обожествляемое» у Ибн ‘Арабӣ получает иное наименование как пара «Истинный-Творение» (ал-х̣ак̣к̣/ал-х̱алк̣). «Истинный» — одно из имен Бога; у Ибн ‘Арабӣ оно указывает на Бога как чистую необходимость и Бога как божество. Истинный соотнесен с Творением по логике процесса, где каждая из противоположных сторон необходима для другой и отражает ее.
Пара категорий «явное-скрытое» (з̣а̄хир-ба̄т̣ин), выражающая логику процесса и служащая снятой формой пары «действующее-претерпевающее», применяется для характеристики соотношения между Истинным и Творением. Истинный — скрытое, стоящее за явленным Творением. Поскольку речь идет о процессуальной логике, это означает, что скрытое (Истинный) составляет необходимую вторую сторону любой вещи мира, рассматриваемой как явное, и без указания на эту вторую сторону вещь просто не будет адекватно воспринята и понята. Точно так же Истинный Бог не может быть правильно понят, если мы не примем во внимание тот факт, что он служит скрытым для явленного, то есть для мира, который необходимо сопутствует ему. Это имеет прямое отношение к теории познания Ибн ‘Арабӣ, к его этике и другим сторонам учения.
676
Истинный и Творение — это пара, которую связывает процесс дарения существования утвержденным воплощенностям и, напротив, отнятия у них этого атрибута. Необходимое-само-по-себе существование, или чистая необходимость, — это то, что равно Самости Бога. Это единственное, что исключено из общего правила з̣а̄хир-ба̄т̣ин-соответствия (соответствия «явное-скрытое») между Истинным и Творением. Поэтому существование, явленное в существующих воплощенностях, т. е. в вещах мира, — это не что иное, как Сам Бог, поскольку возможное не обладает существованием ни в каком смысле. Существование всегда превышает любую вещь и является не чем иным, как Самим Богом.
Вот почему Ибн ‘Арабӣ говорит, что вещь — это местоявление Бога. Арабское слово маз̣хар имеет тот же корень, что з̣а̄хир (явное), з̣ухӯр (явление) и др., а его модель — имя места, указывающее на локус, в котором происходит действие, отраженное в корне слова. Вот почему «местоявление» — адекватный, фактически буквальный перевод для слова маз̣хар.
Бог явлен в вещи как ее существование, тогда как вещь «закрывается» Богом, скрывается за ним. Так оказывается, что вещи скрыты, тогда как Бог явлен: эта перемена мест, обычно закрепленных за Богом и миром (где явный мир указывает на Бога как скрытого от наших глаз действователя), имеет первостепенное значение в теории познания Ибн ‘Арабӣ.
Термин проявление (таджаллин) указывает у Ибн ‘Арабӣ на различные аспекты двуединства Бога и мира, Истинного и Творения. Проявление Бога предполагает парность явного и скрытого, в которой Бог и вещь могут занимать любое из этих двух мест.
Бог вечен (к̣адӣм), тогда как мир существует во времени. Отношение между Богом и миром, выстроенное по процессуальной логике как отношение между ба̄т̣ин (скрытым) и з̣а̄хир (явным), распространяется и на отношение между вечностью и временем. Они — необходимые корреляты друг для друга: нет вечности без времени, и нет времени без вечности. Одно стоит за другим и отражает себя в другом.
Мы привыкли понимать время как протяженность, как то, что делится на прошлое, настоящее и будущее. Такое представление крайне проблематично, поскольку не позволяет дать удовлетворительный ответ на вопрос о том, что такое настоящее время. С одной стороны, настоящее — единственное, чем мы владеем доподлинно: мы всегда живем в настоящем времени, тогда как прошлое дано как воспоминание, а будущее — как предчувствие. С другой стороны, настоящее должно иметь нулевую длительность, поскольку, если время — это протекание, любое длящееся настоящее уже включало бы в себя прошлое и будущее. Тогда время не может быть протеканием; и тем не менее представление о времени как об априорной форме опыта (Кант), как о некоем вместилище событий, как о геометрической линии, на которой размечена хронология, является едва ли не всеобщим в нашей культуре. Мы представляем время как континуум, в котором настоящее приходит из будущего и уходит в прошлое: мы как будто движемся вдоль этой временнóй линии. С таким пониманием времени напрямую соотносится и представление о причинности. Мы думаем, что прошлые события связаны с настоящими и будущими как причины и следствия: причинно-следственные нити протягиваются из прошлого в будущее через настоящее, тем самым скрепляя ткань времени. Прошлое поэтому — не просто наша память, оно присутствует в нашем сегодняшнем опыте в снятом виде, как наследие, как причина наших чувств, мыслей и поступков, как причина нынешнего состояния мира. Пусть такое представление о причинности создает неразрешимую проблему предопределенности будущих событий и свободы воли, мы не можем отказаться от него, поскольку оно прочно встроено в фундамент привычной нам картины мира.
Все эти представления придется отбросить, если мы хотим понять, что такое вечность и время у Ибн ‘Арабӣ и каково соотношение между ними.
Для обозначения вечности Ибн ‘Арабӣ применяет термины, которые встречаются в Коране и которые использовались в арабо-мусульманской мысли с момента ее зарождения. Термин ’азал указывает на отсутствие начала и предполагает понимание вечности как безначальности. Термин ’абад указывает на отсутствие конца и дает понимание вечности как бесконечности, нескончаемости. Термин к̣адӣм буквально означает «древний», «ветхий» и ориентирует на понимание вечности как бесконечной укорененности в прошлом. С вечностью во всех этих нюансировках связано представление о прочности, пребывании и неподверженности изменению или гибели. Вечное отличается от временнóго прежде всего этим: временнóе возникает и гибнет, для него неизбежна порча и разрушение, тогда как вечное переживает любые времена и недоступно для изменений и гибели.
Таким образом, смысл, первичный в отношении вечности и времени, — это смысл события: определенное событие, а именно возникновение и гибель, отделяет смысл вечности от смысла времени. Хотя вечность «сильнее» времени, поскольку в ней «больше» временного субстрата, она не относится ко времени как некий снятый его вид, как то, что сразу и одновременно включает в себя все время и как будто заключает в себе в одновременности все события. Можно сказать, что с точки зрения своей субстанции вечность не отличается от времени; вечность скорее сопровождает время, но сопровождает именно потому, что вечный действователь
677
порождает время благодаря своим действиям сотворения и уничтожения вещей. Процессуально-действенная эпистема задает здесь и логику понимания вечности и времени, и содержание этих понятий: они определяются событийно, через действия, лежащие в их основе. Речь, конечно, идет о собственно арабо-мусульманском понимании вечности и времени — том, которое представлено в философии мутазилизма и суфизма, а также в вероучении, тогда как греческое, прежде всего аристотелевское, понимание времени, пришедшее вместе с фальсафой, опирается на иной фундамент.
Процессуально-действенное понимание времени органично сочетается с его трактовкой как атомарного, состоящего из неделимых моментов, где каждый такой момент представляет собой единство двух событий: уничтожения и возникновения. Такое понимание времени было предложено в мутазилизме. Ибн ‘Арабӣ сохраняет мутазилитское учение об атомарном времени, но вместе с тем существенно модифицирует его.
678
Главным новшеством служит отрицание прошлого и будущего как рядоположенных настоящему. Моменты времени у Ибн ‘Арабӣ, в отличие от мутазилитов (а также ашаритов, воспринявших эту теорию), не располагаются один за другим, образуя некую последовательность. Вместо этого мы имеем непрестанное «сейчас» (’а̄н да̄’им). Иначе говоря, моменты времени сменяют один другой, но не образуют ряд, и прежние моменты времени не могут быть поняты как «прошлое», а те, что еще не наступили, — как «будущее». Мы имеем только «сейчас», всегда только момент настоящего времени, в котором отражается и воплощается вечность.
Такое отрицание прошлого и будущего возможно, только если мы не признаем ни в каком виде причинно-следственную связь между моментами времени, а точнее, между состояниями вещей в сменяющие один другой моменты времени. Но именно это и верно для Ибн ‘Арабӣ: он утверждает, что в каждый атомарный момент времени происходит полное обновление мира. В каждый момент времени мир — целиком новый, в нем не остается ничего от прежнего момента времени. Причинно-следственные связи выстраиваются не между моментами времени, а между каждым моментом времени — и вечностью. Чтобы понять, как именно это происходит, рассмотрим подробнее онтологию взаимного отражения вечности и времени.
Вещь в ее временнóм существовании в мире, или «существующую воплощенность», Ибн ‘Арабӣ называет также словом «форма» (с̣ӯра). Этот термин имеет мало общего с его пониманием в фальсафе: Ибн ‘Арабӣ не признает не только субстанциальные формы в смысле Аристотеля, но и отрицает субстанции в смысле мутазилитов, которые понимали субстанцию как то, что пребывает два и более моментов времени подряд. В мире есть только акциденции, но не субстанции; единственное, что может быть названо субстанцией (и то метафорично, а не в собственном смысле), — это Самость Бога, поскольку она существует всегда.
Каждая вещь в мире является «формой» в смысле своей фиксированности в определенных границах и представляет собой тот или иной набор акциденций. Все эти акциденции ежемгновенно погибают. Это означает, что существующая воплощенность теряет атрибут существования и оказывается несуществующей, или утвержденной, воплощенностью — самой же собой в божественной, или вечностной, стороне миропорядка. Но здесь она уже — не «форма», поскольку с утратой атрибута существования утрачиваются и фиксированные границы вещи, и она готова стать любой другой, воплотив в себе в принципе любой другой набор качеств, или акциденций. Мгновение гибели и будет мгновением нового воплощения вещи в мире: утвержденная воплощенность появится во временнóм существовании как новая «форма», т. е. как новая вещь. Эта новая вещь может воплотить тот же набор акциденций, что был явлен в ней в прежнем ее воплощении, в прежнем моменте времени; тогда мы говорим, что вещь не изменилась. Она может частично поменять его; тогда мы скажем, что вещь изменилась. Она может поменять его полностью, представ как совершенно другая вещь; тогда люди говорят, что произошло чудо. Однако по сути между обычным, привычным нам течением дел и его нарушением, который воспринимается как разрыв обыденности, как чудо, — по сути между ними
679
нет разницы, поскольку и то и другое представляет собой новое воплощение-в-мире того, что утверждено-в-божественности.
Причинно-следственная связь устанавливается в пределах одного момента времени, т. е. в пределах одной связки «гибель-возникновение»; иначе говоря, в пределах связки «утвержденная воплощенность-существующая воплощенность». Вспомним, что вещь-в-мире отражает саму себя как утвержденную-в-Боге. Вещь-в-мире определена как такая-то (как некая «форма») потому, что она же утверждена в божественности в таком-то, а не в другом состоянии своей подготовленности к тому, чтобы явиться в мире; а в божественности она утверждена именно в таком состоянии потому, что так она воплощена в данный момент времени в мире. Причинность здесь — круговая, а не линейная: пока мы не поймем, что причина определяет саму себя через свое следствие, мы не увидим истинное устройство миропорядка, которое состоит в том, что «застывание» вечности в моменте времени фиксирует обе стороны — и божественную, и мирскую — в определенном состоянии, характерном для данного момента, и только для него, причем эта фиксация — взаимная, где каждая из сторон определяет другую.
Вот почему невозможно говорить о прошлом и будущем: их нет вовсе, поскольку в настоящем, наступившем моменте времени нет ничего от прошедших мгновений и ничто из настоящего не останется в последующих моментах. Момент настоящего определен только собой в обеих своих сторонах — вечностной и временнóй, скрытой и явной, отражающих одна другую.
Такие «такты» уничтожения-и-возникновения мира, то есть моменты времени, в которые вечностная божественность застывает как данное состояние временнóго мира, не имеют начала и конца: они всегда сопровождают вечность. Вечность — это форма существования времени, а время — форма существования вечности: они не могут не отражаться друг в друге, вечность не может не застывать как момент настоящего, а настоящий момент времени не может не возвращаться в вечность.
Метафорически этот процесс выражается как «дыхание Бога»: дыхание неотъемлемо от живого существа (одно из имен Бога — «Живой») и состоит из вдоха (гибель мира, т. е. превращение каждой существующей воплощенности в утвержденную воплощенность) и выдоха (обратный процесс обретения атрибута существования и превращения в существующую воплощенность). Говорят также о «дыхании Милостивого», поскольку под «милостью» понимается атрибут существования, а именно отнятие и придание атрибута существования вещам задает динамику этого процесса. На кораническом языке этот процесс называется у Ибн ‘Арабӣ «новое творение» (х̱алк̣ джадӣд): если в Коране под этим подразумевается однократное пересотворение тел после конца времен и вложение в них душ (подготовка к Суду), то в суфизме — ежемгновенное обновление мира без начала и конца.
Такое двуединство вечности и времени означает, что мир не имел начала во времени и не будет иметь конца, — точно так же, как Бог. Вечность застывает в моменте «сейчас», который никогда не повторяется — но вечно обновляется. Можно считать, что наступают новые моменты времени, каждое из которых — очередное
680
«сейчас». А можно считать, что вечность зафиксирована в единственном «сейчас» (так сноп света сходится конусом к своему точечному источнику), причем это «сейчас» все время обновляется, и такому обновлению этого непрестанного «сейчас» соответствует — по правилам соотношения между явным и скрытым, миром и божеством — постоянное обновление божественности.
Это еще один пункт учения Ибн ‘Арабӣ, в котором он кардинально переосмысливает традиционное положение и вероучения, и философии о неизменности Бога. Для него абсолютно неизменна Самость Бога — но она как абсолют не может иметь никакой связи с миром. Божество, непосредственно связанное с миром, столь же переменчиво, как переменчив сам мир: Бог находится в постоянном «превращении» (тах̣аввул), и это превращение соответствует непрестанной смене «состояний» (однокоренное х̣а̄л) мира.
Итак, двуединство Истинный-Творение, или вечность-время, или божество-обожествляемое — это процесс фиксации ежемгновенного взаимного соответствия между этими двумя сторонами. Как процесс, он требует не только этих двух сторон, но и третьего компонента — того, что соединяет их. Двуединство, достраиваемое до триединства, действительно демонстрирует нам логику процесса и истину мироустройства.
Таким третьим компонентом, как говорилось выше, выступает у Ибн ‘Арабӣ связанность Бога и мира, их взаимное отражение, переход друг в друга. Эта связанность выражается на философском языке термином «соотнесенности», на языке вероучения — «божественные имена», на языке исламской мифологии — «Облако» (хадис об Облаке см. [Ибн Араби 2014: 155—163]), а на собственном языке Ибн ‘Арабӣ — «Третья вещь».
Третья вещь не характеризуется ни существованием, ни несуществованием. Существование и несуществование — это онтологический статус двух сторон мироустройства, двух других «вещей» — мира и божественности. Третья вещь, связывающая их, в каком-то смысле стоит выше их — ведь именно процесс превращает свои стороны в действующее и претерпевающее, без процесса они распадутся и перестанут быть действующим и претерпевающим. Поэтому Третья вещь — это то, что скрепляет миропорядок, то, без чего он разрушится. В этом неоднократно заявленном тезисе Ибн ‘Арабӣ отчетливо видно преодоление парадигматики классического периода: уже не Бог является Первоначалом мира и его трансцендентным источником; Бог и мир взаимно связаны и взаимно необходимы, ни один из них не служит источником другого, — а выше их стоит Третья вещь, скрепляющая их единство и делающая возможными и Истинного, и Творение как стороны процесса.
Третья вещь, согласно Ибн ‘Арабӣ, — это собрание всех «истинностей» (х̣ак̣а̄’ик̣, ед. х̣ак̣ӣк̣а). Этот термин употреблялся в арабо-мусульманской философии, начиная с мутазилитов, и приобрел множество значений. Ибн ‘Арабӣ использует его иногда так же, как он использовался в фальсафе, где обозначал родовую принадлежность вещи (например, «человечность») или нечто близкое к платоновской идее («квадратность», «столовость»). Но чаще под истинностью он понимает
681
то, что выражено в арабском языке, как правило, именем процесса (масдаром) и что обычно теряет в переводе свою процессуальную окрашенность, например знание (следовало бы сказать: познание), воля (воление), могущество (могуществование, если это выразит по-русски процессуальность). Истинности в этом понимании — это и божественные имена (язык вероучения), и акциденции (язык философии), «набор» которых составляет ту или иную «форму» — вещь в ее временнóм существовании — и которые отражены в божественности, хотя и не зафиксированы там как «формы», то есть как вещи, имеющие твердо определенные границы.
К понятию Третьей вещи мы вернемся, когда будем говорить о понимании человека в учении Ибн ‘Арабӣ.
Теория познания Ибн ‘Арабӣ вобрала, насколько это возможно, достижения и положения предшествующей мысли, однако в целом строится в соответствии с онтологическим базисом его учения. Поскольку последний существенно отклоняется от парадигматики предшествующего периода, теория познания Ибн ‘Арабӣ также содержит новые, прежде не выдвигавшиеся положения.
Высшим термином теории познания служит у Ибн ‘Арабӣ ‘илм. Это слово, являющееся масдаром (именем процесса), соединяет значение действия и его результата, поэтому ‘илм обозначает и познание, и знание, причем эти два значения нередко трудно разделить. Термин ма‘рифа, также означающий «знание», у Ибн ‘Арабӣ чаще всего синонимичен термину ‘илм, хотя в суфизме было принято разделять их на том основании, что ма‘рифа, в отличие от ‘илм, не употребляется в отношении Бога, а значит, составляет исключительную характеристику человека. Используются и другие термины, употреблявшиеся прежними авторами: идра̄к (постижение), их̣а̄т̣а (объятие) и др.
Ибн ‘Арабӣ признает, как это делали и предшествующие мыслители, разделение знания на непосредственное и опосредованное. Непосредственное знание дается в откровении (кашф); близкие к этому понятия, такие как внушение (вах̣й) и прочие, передают тот же смысл. Опосредованное знание — это знание, добываемое с помощью чувств и разума. Особую роль играет воображение (х̱айа̄л), занимающее своеобразное промежуточное место между непосредственным и опосредованным знанием.
Непосредственность знания не обязательно означает, что оно дано в «готовом» виде: откровение дается и как «видение» (ру’йа), требующее толкования. В то же время рациональное, дискурсивное знание не обязательно ущербно в сравнении с непосредственным. Критика в адрес разума, которой немало в текстах Ибн ‘Арабӣ, касается конкретных форм рациональности и даже конкретных учений, прежде всего ашаритской версии вероучения и общей картины мира, принятой в фальсафе: эти учения, опирающиеся на рациональные доказательства, содержат утверждения, несовместимые с основоположением философии Ибн ‘Арабӣ — тезисом о триединстве мироустройства, где взаимное отражение божественности и мира скреплено Третьей вещью.
Вместе с тем Ибн ‘Арабӣ ясно говорит, что положения его учения могут быть изложены рационально, что в них нет ничего, чего разум не мог бы самостоятельно
682
постичь и исследовать на предмет истинности. Хотя он и утверждает, что многие, если не все, положения его учения были даны ему в откровении (об откровенческом характере знания говорит и название его главного труда — «Мекканские откровения»), это не значит, что человек, лишенный дара откровения, не может постичь это учение. Скорее отношение между откровением и разумом напоминает здесь отношение между контекстом открытия и контекстом обоснования в современной философии науки: полученные в некоем «наитии» истины нуждаются в рациональной проверке, обосновании и изложении.
В целом такое понимание соотношения между непосредственным и опосредованным познанием как источником учения и средством его проверки и изложения характерно для классической арабо-мусульманской мысли: фактически то же самое говорил ас-Сухравардӣ, утверждая, что получил знание, зафиксированное в «Мудрости озарения», интуитивно, хотя изложено оно дискурсивно; точно так же ближайший ученик и воспитанник Ибн ‘Арабӣ, С̣адр ад-Дӣн ал-К̣ӯнавӣ, скажет, систематизируя учение Ибн ‘Арабӣ, что свое знание он получил в откровении (а не от своего учителя!), излагает же его как строгую науку, по всем принятым тогда формальным правилам [Кунави 2015: 5].
Поскольку Ибн ‘Арабӣ не придерживается учения фала̄сифа о субстанциальных формах, он не воспроизводит и их положение о познании как состоящем из двух ступеней — чувственной и рациональной, хотя очевидно, что он хорошо знаком с ним. И это не случайно: онтологический базис учения Ибн ‘Арабӣ не дает оснований применить удобную и хорошо разработанную в фальсафе теорию познания. Вместе с тем Ибн ‘Арабӣ, насколько возможно, использует ее положения, например о делении знания на необходимое (д̣арӯрийй) и нуждающееся в доказательстве: первое очевидно для любого человека в здравом уме, второе нуждается в процедурах вывода. Порой он как будто переименовывает хорошо известные термины. Например, то, что называлось познанием с помощью чувств (х̣исс), Ибн ‘Арабӣ называет вкушением (з̱авк̣), понимая этот термин и в прямом смысле, как чувственное восприятие вкуса, и в переносном, как «вкушение состояний», т. е. определенные экзистенциальные переживания. Однако считать познание, как это делали фала̄сифа, схватыванием форм, отвлекаемых от материи, и дальнейшим оперированием ими в разуме, он не может: Ибн ‘Арабӣ не признает гилеморфизм как учение (хотя в его текстах встречаются слова «первоматерия», «материя», «форма») и не считает, что вещи обладают субстанциальными формами. Все это делает использование аристотелианской фразеологии не более чем данью традиции, в лучшем случае частичным, фрагментарным воспроизведением отдельных тезисов аристотелевской теории познания.
В целом теория познания Ибн ‘Арабӣ строится на другом основании. В арабо-мусульманской мысли еще во времена мутазилитов была создана теория указания на смысл2. Основанная на модели «явное-скрытое», эта теория предполагает,
683
что смыслы наличествуют как скрытые в душе человека, но могут быть выявлены благодаря указанию чего-то явного, например звуковой или графической стороны слова. Слово — это указание явного на скрытое, т. е. процессуальное триединство. По самой логике процесса смысл невозможно «вложить» в человека, продуцировав его: процессуальное триединство исключает последовательное возникновение его звеньев и требует их сразу-наличия. Поэтому смысл можно только «разбудить», указав на него и тем самым включив в полную процессуальную конфигурацию. Ибн ‘Арабӣ считает, что все смыслы изначально имеются в душе человека и лишь активизируются — благодаря указанию на них — в каждый следующий момент времени, в каждое новое «сейчас». Познание поэтому — это не вывод, индуктивный или дедуктивный, а возникновение такой конфигурации, в которой смысл будет выявлен благодаря указанию на него.
Смыслы, наличествующие в душе человека, отнюдь не представляют собой нечто сугубо субъективное. Еще мутазилиты называли смыслами не только то, что находится в душе человека, но и характеристики, которые даются вещам. В этом значении термин «смысл» сближается с термином «истинность», как он употребляется Ибн ‘Арабӣ, и примерами смыслов могут служить знание или могущество. Поэтому можно говорить о том, что смыслы разлиты в божественной стороне миропорядка (где они не заключены в фиксирующие границы) и собраны в некие сосуды — «формы» в мирской стороне миропорядка. Смыслы могут быть иначе названы акциденциями, всякий раз новым собранием которых в каждый следующий момент времени служат вещи мира.
Слово с̣ӯра «форма» означает также «образ», «облик». Вещи мира имеют явленные чувству, и прежде всего зрению, облики и образы. В отличие от этого, смыслы как таковые, в своей чистой форме, облика не имеют. Однако смыслы могут быть представлены в облике-«форме», и именно такова, согласно Ибн ‘Арабӣ, функция воображения (х̱айа̄л). При этом «надевание формы» бесплотным и не имеющим облика смыслом — не произвольное, оно опирается на некоторое основание. Один из любимых примеров Ибн ‘Арабӣ — знание (смысл), предстающее в форме молока3: такое представление правильно, поскольку переход от бесплотного смысла к форме обоснован тем, что то и другое полезно. Таким образом, функция воображения у Ибн ‘Арабӣ — совсем иная, нежели в фальсафе, где воображение оперирует формами, оказавшимися в разуме, составляя из них новые комбинации.
Вместе с тем не все смыслы могут быть представлены в некой форме, поскольку, согласно Ибн ‘Арабӣ, бывают смыслы, не допускающие такого представления.
684
Наиболее явственно положительная оценка разума и рационального знания проявляется у Ибн ‘Арабӣ в двух моментах: в вопросе о силлогистике и о современном ему научном знании в целом. Ибн ‘Арабӣ положительно оценивает силлогистику, но его особое внимание привлекает тройственность, которой характеризуется силлогизм: это, во-первых, три термина силлогизма (один из которых повторен) и, во-вторых, две посылки и вывод, автоматически порождаемый ими. В этой тройственности он видит аналогию с тройственностью мироустройства, что соответствует его учению. Нередко он высоко отзывается и о научных, в том числе астрономических, знаниях своего времени, не ставя их под сомнение и неоднократно подчеркивая, что науки в разное время получают разное развитие у разных народов.
И все же истина мироустройства в ее целостности схватывается не силлогизмами и не науками: они отражают лишь аспект истины или ее часть. Подлинность мироустройства может быть открыта только той познавательной стратегии, которую Ибн ‘Арабӣ называет «растерянность» (х̣айра).
В самом общем виде растерянность означает следующее: никакое действие не может быть однозначно отнесено ни к одному из двух агентов действия — Богу или человеку, которые оспаривали в истории арабо-мусульманской мысли звание истинного действователя. Такое решение — совершенно неожиданное в рамках классической арабо-мусульманской мысли. Чтобы высветить подлинное значение этого тезиса, отметим, что в контексте учений, определенных процессуально-действенной эпистемой, решение вопроса о действователе определяет и решение всех основных философских вопросов. Дискуссия, открытая мутазилитами, шла вокруг того, только ли Бог или же Бог и человек являются подлинными действователями, автономно осуществляющими свое действие. Хотя решения были разными, неизменным оставалось одно: представление о том, что действие может иметь только одного истинного действователя.
Именно это положение, аксиоматичное для предшествующих поколений (и соответствующее разуму в его традиционном понимании), становится невозможным в той онтологии, которая лежит у Ибн ‘Арабӣ в основании понимания мироустойства. Любой атрибут человека, выраженный как имя действователя, имеет свое отображение в божественности. Для каждого единичного момента «сейчас» миропорядок зафиксирован как процесс взаимного отражения и взаимного обусловливания божественной и мирской сторон. Это значит, что действие имеет не одного действователя, а двух: оно скрепляет божественную и мирскую стороны, Бога и человека, будучи произведено ими обоими, т. е. каждым не меньше, чем другим.
Это значит, что любое фиксированное высказывание, например «Человек произвел данное действие», должно быть опрокинуто в божественность, где превратится в свою противоположность: «Бог произвел данное действие». При этом каждое из противоположных высказываний не исключает другое, а возможно только благодаря ему: разыскивая основание любого из этих двух высказываний, мы найдем в качестве такового его противоположность.
685
Растерянность поэтому предполагает безостановочный переход между противоположными высказываниями относительно агента любого действия, так что истина оказывается выраженной именно как такой переход, как такая обусловленность данного высказывания его противоположностью.
Растерянность имеет и другой аспект. Как говорилось выше, любая вещь мира служит местоявлением Бога, поскольку ее существование (а именно оно выделяет вещь и отделяет ее от прочих) — это Сам Бог. Бог тем самым является в вещи, тогда как вещь скрывается за Богом: эта игра явленности и скрытости, в которой Бог и вещь меняются местами, показывает нам второй смысл термина «растерянность». Если в первом случае человек открывает невозможность остановиться в непрестанном переходе от самого себя к Богу и обратно, то теперь он видит то же самое в любой вещи мира и в мире в целом. Именно растерянность адекватна подлинному устройству миропорядка, поскольку позволяет видеть Бога как скрытое (ба̄т̣ин) за каждой явленной (з̣а̄хир) в мире вещью и, напротив, позволяет увидеть вещь как оборотную сторону Бога. Растерянность предполагает закономерный переход от одной противоположности к другой, что соответствует требованию закономерного и обязательного видения скрытого за явленным и наоборот.
Растерянность близко связана с тем, что в суфизме традиционно именуется словом «гибель» (фана̄’). Было бы ошибкой трактовать это понятие в субстанциальном ключе, как «растворение» мистика в Боге, как их субстанциальную неразличимость4. Более адекватно процессуальное понимание: речь идет о том, что человек не может провести фиксированную границу между собой как действователем — и Богом как агентом тех же поступков.
Мы видели, что именно в этом смысл растерянности в ее первом понимании. Но это является также не чем иным, как доведенным до своего логического конца требованием исламского вероучения — видеть Бога как истинного агента любых действий, видеть его как единственного Действователя. Именно в этом пункте граница между «традиционным» исламом и его суфийской интерпретацией оказывается как нельзя более тонкой: мистицизм лишь доводит до совершенства базовую идею вероучения. Но в этом пункте возникает и наибольшее трение между вероучением, претендующим на нормативность, и суфийскими интерпретациями ислама: вероучители обвиняют суфиев в пантеизме, в претензии на единение с Богом, то есть слияние с ним. Если бы такие обвинения были обоснованы, это попросту выводило бы суфизм за рамки ислама, а всех его многочисленных последователей превращало бы в «пятую колонну» среди мусульман.
Конечно, некоторые высказывания известных суфиев как будто дают основание для таких обвинений — взять хотя бы знаменитое восклицание ал-Х̣алла̄джа «Я — Истинный!». Но дело опять-таки в том, в какой логике — в логике субстанции или в логике процесса — интерпретируется это высказывание. В первом случае
686
оно действительно означает отсутствие субстанциальных различий между Богом и человеком. Но правильна скорее всего вторая интерпретация — процессуальная. Местоимение первого лица «я» — это местоимение действователя: только тот, кто является подлинным агентом действия, имеет право употребить это местоимение, сказав о себе «я». Если человек видит в качестве агента любого своего действия не себя, а Бога, то это и будет выражено в данной формуле: ее смысл в том, что «я» принадлежит Истинному, т. е. Богу, а не человеку. Подлинный субъект в высказывании «Я — Истинный» — не ал-Х̣алла̄дж, а местоимение «я»: ал-Х̣алла̄дж говорит, что не имеет права присвоить себе «я», поскольку оно придлежит Богу как действователю. В такой интерпретации это «скандальное» высказывание едва ли не совпадает с тезисом вероучителей-ашаритов, утверждающих, что человек лишен и воли, и могущества и что все его действия в каждое мгновение творятся Богом (равно как и весь мир вокруг него). Халладжиево восклицание лишь расставляет все по своим местам и не страдает половинчатостью, характерной для позиции ашаритов, предлагающих человеку — при всем сказанном — считать себя автором своих поступков и нести за них ответственность.
Растерянность показывает истину мироустройства, однако характеристики растерянности в корне отличаются от характеристик истинного знания в их понимании всей предшествующей арабо-мусульманской мыслью. Растерянность исключает фиксированность, а значит, и «успокоенность», незыблемость, отсутствие необходимости в приращении, которые характеризуют высший тип знания, «уверенность» (йак̣ӣн), в его традиционном понимании. Растерянность, напротив, требует безостановочного движения, обнаруживая в самом этом процессе — истину.
Выделить особый орган познания у Ибн ‘Арабӣ достаточно сложно. Он упоминает и органы познания, как они понимались в фальсафе — чувство и разум. Часто он говорит о «проницательности» (бас̣ӣра), которая позволяет схватить истину вещей, «прозреть» ее, и потому сближается с однокоренным «зрением» (бас̣ар). «Сердце» (к̣алб) человека способно уловить ежемгновенную «переменчивость» (однокоренное так̣аллуб — то же самое, что тах̣аввул «изменение форм») Бога, отраженную в переменчивости мира. И все же подлинная истина открывается не какому-то отдельному органу человека, а человеку в целом. Можно сказать, что весь человек и служит самым совершенным органом познания и одновременно — его объектом и предметом.
Понимание человека — кульминационный пункт всей системы взглядов Ибн ‘Арабӣ, тот фокус, в котором сходятся различные линии его учения. Человек равен у Ибн ‘Арабӣ триединству миропорядка (Бог-и-мир, скрепленные Третьей вещью) и вбирает его в себя. Это можно рассматривать как своеобразную форму гуманизма, которая не просто вытесняет Бога за рамки философской и научной картины мира, как это было в Европе, но подчиняет божественное человеческому, наделяет человека теми функциями, которые традиционно отводились Богу. У Ибн ‘Арабӣ человек становится всем миропорядком в его целостности.
687
Мир в каждое «сейчас» — это определенный набор истинностей, зафиксированных в границах отдельных «форм». Эти же истинности представлены в божественной стороне миропорядка (поскольку мир отражен в божественности), они же составляют Третью вещь, будучи соотнесенностями между мирским и божественным. Имея различный онтологический статус в этих трех областях миропорядка, истинности остаются везде самими собой.
Человек, согласно Ибн ‘Арабӣ, — это собрание всех истинностей. Это означает, что в человеке отражен и весь мир, и божественная сторона миропорядка, а также Третья вещь, связывающая и тем самым соединяющая эти две стороны.
Это верно с метафизической точки зрения для любого человека. Но не любой человек знает об этом — знает, конечно, не в смысле некоего дискурсивного знания, как оно изложено, к примеру, здесь. Знает в смысле открывает это в себе. Движение к истине — это не завоевание неких новых рубежей, которые еще не достигнуты человеком; движение к истине — это открытие в себе того, чем человек является изначально.
Такое открывание в себе истины устройства миропорядка как самого человека Ибн ‘Арабӣ обозначает термином тах̣ак̣к̣ук̣. Это слово имеет тот же корень, что х̣ак̣ӣк̣а (истина, истинность) и означает подлинное осуществление в самом себе истины мироустройства.
Такое осуществление означает и постижение истины в смысле ее познания. Поскольку в человеке собран весь миропорядок, он в самом себе может открыть истину всего мира. В этом Ибн ‘Арабӣ видит смысл известного хадиса «Кто познает самого себя, тот познает своего Господа» (ман ‘арафа нафса-ху ‘арафа рабба-ху), к которому любит обращаться: осуществив в себе истину мироустройства, человек знает и видит, что каждая его характеристика, взятая как явное (з̣а̄хир), имеет в качестве скрытого (ба̄т̣ин) божественность, точнее, ту же самую истинность в ее утвержденности в божественном. Знать себя таким образом — значит видеть Бога в качестве скрытого, а поскольку человек исчерпывает истинность мироздания, то и видение Бога как скрытого за явленным человеком — полное.
Не забудем, что мироустройство — это триединство, то есть соотнесенность божественности и мира, где соотнесенность — самостоятельная область процессуальной связи между двумя сторонами. Полное, подлинное видение божественного в качестве скрытого для явленного в мире предполагает и овладение этой областью соотнесенностей, то есть Третьей вещью. Человек, действительно в полной мере осуществивший в себе истину миропорядка, становится самой Третьей вещью, осуществляет в себе связанность божественной и мирской сторон. В этом смысл понятия «Совершенный человек» (’инса̄н ка̄мил): это человек, овладевший тайной мироустройства, полностью осуществивший в себе связанность Бога и мира, ставший такой связанностью. Так триединство мироздания завершается в человеке, который становится неотличим от него.
Мироустройство — это процесс ежемгновенного воплощения божественности в мире, «фокусировки» всех истинностей в их определенном состоянии в данном
688
«сейчас». Человек, осуществивший в себе миропорядок, ставший Третьей вещью, то есть связанностью божественности и мира, тем самым овладевает этим процессом. Он как будто держит в руках и божественную, и мирскую стороны мироустройства, он сам осуществляет ежемгновенную «пульсацию» мироздания. Такой человек, говорит Ибн ‘Арабӣ, обладает «энергией» (химма), то есть способностью «распоряжаться» (тас̣арруф) мирозданием.
Означает ли это, что такой человек может делать все, что пожелает? Оказывается, что это не так. В любое «сейчас» каждая вещь мира такова, какова она в божественности, соответствуя самой себе именно в данное «сейчас»: круговая причинность, связывающая божественность и мир, означает, что никакая вещь не могла бы быть другой, нежели она есть. Обычное понимание действия предполагает волю, направленную на что-то иное, нежели сам действователь. Однако в данном случае ничего иного попросту нет, поскольку человек (здесь — Совершенный человек) исчерпывает все мироздание. Так абсолютное могущество оборачивается абсолютным бессилием, поскольку человек не имеет, как говорит Ибн ‘Арабӣ, «противника», кого-то, кто бы ему противо-действовал: будучи единственным действователем, он не может ничего поменять.
Ежемгновенная пульсация миропорядка, которую Совершенный человек «держит в руках», осуществив ее в себе, — это процесс, онтологическое основание которого заключается в давании атрибута существования возможным вещам. Чистое, собственное существование, как уже говорилось, — это Самость Бога, ничто иное, и давать существование может только Сам Бог, являясь тем самым в вещах мира — своих местоявлениях. Если человек осуществляет в себе триединство мироздания, он тем самым осуществляет в себе и божественную Самость — тот четвертый по счету элемент мироустройства, который не прибавляется к его триединству, а встроен в него, поскольку без него процесс (а мироустройство и есть процесс) не может осуществиться. В этом смысле человек становится Абсолютом — и Ибн ‘Арабӣ не слишком завуалированно указывает на это. Непосредственность действия, то есть способность творить, которым прежняя мысль наделяла только Бога, служит, по Ибн ‘Арабӣ, отличительной чертой человека: это ставит точку и завершает понимание человека как абсолютного универсума.
Этика Ибн ‘Арабӣ может быть понята как развитие общеисламских представлений в контексте его учения.
Краеугольным положением исламской этики служит тезис о поступке как процессуальном единстве намерения и действия5. Отталкиваясь от него, Ибн ‘Арабӣ говорит, что поступок будет правильным, если за явленным, то есть за той вещью мира, на которую направлена воля, человек будет видеть Бога как скрытое — как неотъемлемую вторую сторону этой вещи. Иначе говоря, поступок правилен, если человек при формировании намерения не ограничивается явленным, но
689
его намерением становится стремление к скрытому через явленное. Тогда, что бы человек ни делал и на что бы ни была направлена его воля, намерением его всегда будет божественное, стоящее за мирским. Видеть эту связанность двух сторон мироздания и значит видеть истину, и в этом смысле этическое предписание непосредственно вытекает у Ибн ‘Арабӣ из онтологического основания его учения.
Этот принцип объясняет и веротерпимость, которая доведена в учении Ибн ‘Арабӣ до своих крайних пределов. Поскольку скрытое для любой явленной вещи мира — это Бог, следовательно, по истине невозможно поклоняться чему-то, кроме Бога. Но именно «по истине», то есть при том условии, которое вытекает из онтологии Ибн ‘Арабӣ и лежит в основании его этики: таким условием служит императив видеть скрытое за явленным и схватывать истину как единство и взаимный переход этих двух сторон.
Тогда, если человек видит за любым идолом — Бога, проявлением которого служит данный идол, значит, он поклоняется Богу, и никому иному, а запрещать ему делать это — значит запрещать поклоняться Богу в одной из «форм» нашего мира. Вот почему какая-либо война или борьба с «неправильными» вероисповеданиями исключена позицией Ибн ‘Арабӣ, поскольку ею исключено понятие «неправильного» вероисповедания. Любое вероисповедание истинно, говорит Ибн ‘Арабӣ (при этом сам он — добропорядочный мусульманин и считает ислам совершенной религией), но лишь при том условии, что оно не отрицает истину никакого другого вероисповедания — истину в том смысле, какой был указан выше: любое другое вероисповедание требует поклонения тому же Богу. Из этого следует, что любое вероисповедание, в том числе ислам, если оно отрицает истину других вероисповеданий, само становится неистинным.
До такой высоты веротерпимость в подлинном смысле слова, т. е. не как безразличие к разнице вероисповеданий, не как вынужденное допущение других исповеданий наряду со своим, но как обязательное признание их истины, без которого твое собственное вероисповедание теряет свою истинность, — до такой высоты веротерпимость едва ли поднималась в каком-либо из учений вплоть до нашего времени.
Эсхатологический оптимизм, в целом характерный для исламского сознания, также достигает своего крайнего выражения в учении Ибн ‘Арабӣ. Любой человек ежемгновенно находится и в божественной, и в мирской сторонах: близость к Богу вовсе не служит результатом некоего отдаленного единичного события, как это представляет вероучение (воскресение, Суд, снискание райской участи). Человек не может не быть не просто подле Бога, но в Боге ежемгновенно, поскольку таково устройство мироздания: нельзя быть существом-мира, не будучи одновременно отраженным в божественности. Поэтому все люди без исключения обретают «счастье», ибо не могут не оказаться в Боге. Для обычных людей это открывается только после их смерти, поскольку при жизни они не ведают истину мироустройства и не чувствуют — как об этом с удивлением говорит Ибн ‘Арабӣ — того,
690
что ежемгновенно «восходят к Богу». Смерть — не что иное, как тот факт, что данный человек не воплотился как мирское существо в данный момент времени: произошел вдох, говорит Ибн ‘Арабӣ, используя метафору божественного дыхания как ежемгновенной пульсации миропорядка, но не случился выдох. Тогда для всех становится ясным то, что при жизни открыто только человеку, «осуществившему в себе истинность» (мух̣ак̣к̣ик̣) мироустройства: все мы укоренены в божественности и в этом смысле равны ей.
Философский суфизм после Ибн ‘Арабӣ несет на себе печать его решающего влияния. Его ученик С̣адр ад-Дӣн ал-К̣ӯнавӣ (1207—1274) развивал его взгляды и стремился изложить их в систематизированном виде. Он же положил начало дошедшей до наших дней традиции комментирования «Гемм мудрости». Тексты Ибн ‘Арабӣ непросты для восприятия, особенно новичками, поэтому его учение изучалось преимущественно через призму комментариев. Хотя традиционные комментарии ценны для прояснения многих моментов, их нельзя воспринимать как точное выражение сути взглядов Ибн ‘Арабӣ, поскольку нередко в виде комментария излагается собственная позиция автора комментария. Так среди прочего постепенно сложилось и страдающее неадекватностью неоплатоническое прочтение Ибн ‘Арабӣ, которое получило полное развитие в западном востоковедении начала XX в. (а затем оказало влияние и на отечественных ученых). Такое прочтение, ставящее учение Ибн ‘Арабӣ в субстанциальный, а не процессуальный контекст, предполагает и перекодировку процессуального триединства миропорядка в субстанциальное единство Бога и человека — тезис, несовместимый с исламом в принципе. Это прочтение было по понятным причинам подхвачено противниками суфизма среди вероучителей и факихов, в том числе знаменитым Ибн Таймиййей (1263—1328). Название «единство существования» (вах̣дат ал-вуджӯд), которое дали учению Ибн ‘Арабӣ его толкователи, также интерпретировалось его оппонентами как субстанциальное единение Бога и человека, хотя это не соответствует пониманию процесса дарения существования вещам, имеющимся наряду с Богом, самим Ибн ‘Арабӣ (см. выше). Концепция «единства существования» встретила оппозицию со стороны суфийского мыслителя ас-Симна̄нӣ (ум. 1336), выдвинувшего концепцию «единства свидетельствования» (вах̣дат аш-шухӯд) как альтернативную. В то же время взгляды Ибн ‘Арабӣ нашли сторонников в суфийской среде в лице таких выдающихся мыслителей, как ал-К̣а̄ша̄нӣ (ум. 1329) и ал-Джӣлӣ (1325—1428). Суфизм оказал большое влияние на арабо-мусульманскую философскую мысль, особенно в период позднего средневековья, равно как и на исламскую культуру в целом. Большую известность суфийские идеи получили благодаря творчеству таких поэтов и мыслителей, как Фарӣд ад-Дӣн ‘Ат̣т̣а̄р (ум. 1220), Ибн ал-Фа̄рид̣ (1181—1235), Джала̄л ад-Дӣн Рӯмӣ (1207—1273), Мах̣мӯд Шабистарӣ (ум. 1320) и др., опиравшихся на суфийскую символику любви, тоски по Возлюбленному и т. п.
 |

|
691
Ибн Х̱алдӯн (1332—1406) — выдающийся арабский историк и создатель науки об обустраивании мира (‘илм ал-‘умра̄н).
Жизненный и творческий путь ученого во многом необычен. Валӣ ад-Дӣн ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Ибн Х̱алдӯн родился в Тунисе, получил хорошее образование, занимал государственные посты и участвовал в перипетиях политической истории того бурного для Северной Африки времени. В 1375 г. он полностью отходит от дел и на четыре года поселяется в замке К̣ал‘ат ибн Сала̄ма, в котором посвящает себя задуманному труду — написанию «Мукаддимы», идеи и общий план которой он вынашивал уже давно. Работа над первым вариантом книги была закончена за пять месяцев; там же Ибн Х̱алдӯн приступил к сочинению Кита̄б ал-‘ибар — своей большой истории. Работая без библиотеки и лишь по памяти, он сразу же по окончании своего уединения почувствовал необходимость в источниках. Перебравшись в 1382 г. в Египет, ставший его пристанищем (Ибн Х̱алдӯн похоронен в Каире), арабский ученый практически до конца жизни дорабатывал, уточнял и расширял «Мукаддиму».
Именно это сочинение принесло ему в конце концов всемирную известность и славу: здесь изложена концепция обустраивания мира как процесса и определены его закономерности. Науку об обустраивании Ибн Х̱алдӯн определяет как новую, никогда прежде не существовавшую, как необычную и впервые дающую подлинное, научное объяснение всему, что происходит с человеком в процессе обустраивания мира, как критерий отбора сообщений, которым должен пользоваться историк.
Научная методология Ибн Х̱алдӯна заключается прежде всего в требовании находить только естественные причины событий. Лишь природа вещей, и прежде всего природа самого человека, может служить необходимым и достаточным объяснением того, как складывается обустраивание земли и что происходит с человеком в ходе такого обустраивания. Это придает научному стилю Ибн Х̱алдӯна внешние черты простоты: стремясь во всем дойти до базовых причин, объясняющих в конечном счете самые сложные явления, он предлагает очевидные наблюдения, с которыми не может не согласиться любой человек, и столь же очевидным образом извлекает из них следствия. Наконец, Ибн Х̱алдӯн фактически применяет «бритву Оккама» (хотя и не формулирует это требование прямо), прибегая к экономии
692
объяснительных средств и стремясь свести максимальное количество явлений к минимальному числу причин.
Исходя исключительно из природы человека при объяснении процесса обустраивания земли, Ибн Х̱алдӯн смотрит на него трезвым взглядом, лишенным какой-либо предзаданности. Это означает полный разрыв с традиционным исламским видением человека как преемника Бога на земле, как носителя «залога веры» (’ама̄на), как исполнителя Закона (мукаллаф): все эти положения, веками определявшие понимание человека и его жизненных ориентиров, не имеют для «новой науки» Ибн Х̱алдӯна ровно никакого значения. Иными словами, понимание человека у Ибн Х̱алдӯна лишено какой-либо нормативности: он ничего не предписывает ему. Напротив, Ибн Х̱алдӯн предельно реалистичен в понимании человека и всего, что происходит с ним в процессе обустраивания земли. Человек осуществляет свою деятельность по обустраиванию мира, движимый исключительно собственной природой. Он вовсе не исполняет некий трансцендентный, возложенный на него долг, не стремится снискать посмертную награду: эти соображения, определявшие понимание человека в религиозной перспективе, начисто теряют свою силу в пространстве научной мысли Ибн Х̱алдӯна. Для объяснения всего, что происходит с человеком, достаточно его природы и природы вещей, а горизонт того, что подлежит объяснению, очерчен исключительно земным и не требует никакого обращения к небесному и потустороннему.
Все это резко отличает взгляд Ибн Х̱алдӯна, беспощадный, трезвый и ироничный, лишенный какой-либо нормативной предзаданности, от взгляда его коллег и современников: арабский ученый принадлежит к тому типу мыслителей, который в западной культуре называют нововременным. Ибн Х̱алдӯн оставался мусульманином и вовсе не собирался воевать против религии; однако в том, что касается его научных разысканий, религия полностью утратила для него функцию хранительницы истины об устройстве мира. Таким образом, в его собственном творчестве наука оказалась отделена от религии в части метода и установок.
Это позволяет характеризовать методологию Ибн Х̱алдӯна как рационализм, а его общий подход к построению науки об обустраивании мира как антропоцентричный: человек и его естество служат отправной точкой и фундаментальным мерилом истины. В «Мукаддиме» Ибн Х̱алдӯна начинает складываться парадигма нового типа, исключающая трансцендентное начало бытия и отводящая центральное место человеку. Если бы эта работа была продолжена и развита другими, мы увидели бы, вероятно, рождение собственной философии нововременного типа в арабо-мусульманском мире.
Природа человека в понимании Ибн Х̱алдӯна характеризуется двумя основополагающими тезисами. Это, во-первых, физическая невозможность выжить в одиночку и, во-вторых, психологическая тяга к образованию сообществ по принципу близости.
Первый тезис был хорошо известен в арабо-мусульманском мире благодаря сочинениям античных авторов и сам по себе не вызывал существенных сомнений. Ибн Х̱алдӯн, примыкая к этой линии, указывает на два основных аспекта, определяющих физическую нужду человека в сотрудничестве с другими.
693
Во-первых, в одиночку человек не может прокормить себя. Отталкиваясь от реалий современного ему производства, Ибн Х̱алдӯн подчеркивает, что одному человеку не под силу ни изготовить все орудия, потребные для производства минимально необходимого ему питания, ни пустить их в дело, произведя весь комплекс работ. Все это можно сделать только сообща, благодаря сотрудничеству, причем совместное производство дает не просто арифметическое сложение сил, но и обеспечивает рост эффективности труда каждого отдельно взятого человека.
Во-вторых, в одиночку человек не может защитить себя от нападения животных. Будучи лишен естественных орудий защиты и нападения (клыки, бивни, когти и т. п.), он вынужден производить замещающее их оружие. Как и в случае орудий труда, человек не в силах сделать это в одиночку и нуждается в сотрудничестве с себе подобными.
Такого рода наблюдения, хранившиеся в запасниках знаний классической арабо-мусульманской цивилизации, не выходили на первый план и не определяли понимание человека в сочинениях авторов классического периода. У Ибн Х̱алдӯна, напротив, они становятся одним из двух столпов его антропологии.
Второй тезис имеет собственно арабское, доисламское происхождение. Доисламское родоплеменное общество цементировалось духом кровно-родственного единства. Оно имело довольно сложную структуру, различные звенья которой были образованы по принципу близости или дальности родства. Этот дух единства получил название «спаянность» (‘ас̣абиййа). Спаянность, характерная для родоплеменного общества, означает, что человек воспринимает угрозу члену сообщества—своему родственнику как угрозу самому себе и потому не задумываясь берет в руки оружие и защищает интересы соплеменников как собственные. То же самое относится и к операциям, предполагающим нападение, а не защиту: то или иное родоплеменное образование, спаянное кровно-родственной близостью, действует как единое, неразъемное целое.
На место такого спонтанного коллективного действия, вызванного спаянностью, ислам поставил индивидуально-продуманное действие. Каждый человек должен сформировать в своей душе намерение и только затем действовать: действие (фи‘л), совершаемое благодаря намерению (ниййа), формирует поступок (‘амал). Намерение — это «собранность» души, ее твердая решимость достичь той или иной цели. Целеполагание невозможно без ясного осознания альтернатив и различения добра и зла, а значит, предполагает определенное продумывание, определенную аналитическую работу. Намерение по самому своему смыслу не может быть коллективным, оно сугубо индивидуально, поскольку место его формирования и обитания — душа человека, его «внутреннее» (ба̄т̣ин), которое скрыто от других и составляет область, доступную только самому человеку.
Эти две ориентации в формировании человеческих поступков диаметрально противоположны, и нет ничего удивительного в том, что ислам резко отрицательно относится к спаянности (‘ас̣абиййа), причисляя ее к наследию века невежества (джа̄хилиййа), от которого человек безусловно должен избавиться. Сам термин ‘ас̣абиййа оказался почти вытесненным из сочинений авторов классической эпохи и встречается в них крайне редко.
694
На этом фоне тем более выпукло проявляется смелое обращение Ибн Х̱алдӯна к чистой природе человека. Он отбрасывает всю нормативность, привнесенную исламом в понимание человека, оставляет его лицом к лицу с его природой, рассматривая таким, каков он сам по себе, а не таким, каким он должен быть согласно неким трансцендентным ему установкам. В этом проявляется требование ибн-халдуновской методологии: найти естественную причину, объясняющую поведение человека. И арабский ученый открывает ее в природе человека: нам свойственно чувствовать привязанность к родственникам, ощущать происходящее с ними так, как будто это происходит с нами, и эта привязанность тем сильнее, чем ближе родство. Спаянность, таким образом, естественна для человека: Ибн Х̱алдӯн занимает не нормативную (оценивающую), а естественно-научную точку зрения, и видит в спаянности вторую фундаментальную основу, определяющую ход обустраивания мира человеком.
Таким образом, природа человека в этих двух аспектах служит исходной, базовой причиной процесса обустраивания мира. Физическая невозможность выжить в одиночку влечет нужду в «общежитии» (иджтима̄‘), т. е. совместном проживании ради сотрудничества в труде. С другой стороны, спаянность, вызванная кровно-родственной близостью, делает совместное проживание возможным: с распадом спаянности, подчеркивает Ибн Х̱алдӯн, люди разбегаются при малейшей опасности и неизбежно гибнут. Общежитие и спаянность людей являются двумя независимыми друг от друга и вместе с тем необходимыми друг для друга сторонами процесса обустраивания мира.
Обустраивание мира протекает как процесс, заданный своими двумя сторонами: общежитием людей и их спаянностью. Предметом «новой науки» Ибн Х̱алдӯна служат «состояния» (ах̣ва̄л, ед. х̣а̄л) процесса обустраивания мира и его результата — обустроенности. «Состояние» представляет собой нечто фиксированное, неизменное. В качестве такового «состояние» может служить предметом теоретического рассмотрения, которое как раз и имеет дело с неизменным, поскольку только неизменное может быть схвачено как закономерное. В данном случае неизменность фиксируется не как субстанциальность, а как точность и неизменность состояний процесса. Такая «схваченность» состояния обеспечивается тем, что процесс протекает между двумя сторонами, связывая их, и при фиксации сторон процесса его состояние может быть зафиксировано как неизменное.
Наиболее фундаментальной закономерностью обустраивания мира является соответствие двух сторон этого процесса — общежития и спаянности. Это соответствие имеет как статическое, так и динамическое выражение.
Статический аспект соответствия между двумя сторонами процесса обустраивания мира заключается в том, что он протекает на двух различающихся уровнях, которые Ибн Х̱алдӯн называет бада̄ва (вар. бида̄ва) и х̣ад̣а̄ра (вар. х̣ид̣а̄ра). Каждый уровень выделяется характерным именно для него качеством и количеством совместного труда людей, с одной стороны, и типом их спаянности в сообщество — с другой. На каждом из этих двух уровней тип общежития и спаянности «пригнаны» друг
695
к другу и не могут быть иными. Только когда они соответствуют своему уровню, процесс обустраивания мира может протекать.
Жизнь на открытых пространствах (бада̄ва) является первым из двух уровней обустраивания мира. Наиболее авторитетный классический словарь арабского языка Лиса̄н ал-‘араб Ибн Манз̣ӯра определяет бада̄ва и х̣ад̣а̄ра как взаимные противоположности, как два способа организации жизни людей. Первый предполагает существование на открытых взору (однокоренное бада̄ «явился, открылся взору, стал ясным») пространствах. Сюда включаются, согласно Ибн Х̱алдӯну, все виды организации жизни от кочевничества до оседлого животноводства и земледелия. Второй означает существование за укрепленными стенами, когда пространство обитания и обустраивания очерчено физически различимой границей крепостных стен, за пределы которых не проникает взор; поэтому х̣ад̣а̄ра означает «жизнь на огороженных пространствах». Исследователями ибн-халдуновской мысли были опробованы различные варианты передачи термина бада̄ва: кочевничество, жизнь в пустыне, примитивность. Эти переводы выражают немаловажные оттенки термина, которые оказываются более или менее заметными в зависимости от контекста, однако они не могут служить базовым переводом этой важнейшей категории ибн-халдуновской мысли: в самом общем смысле бада̄ва означает «жизнь на открытых пространствах» и раскрывается как обустраивание мира, заданное как связь между определенными типами общежития и спаянности.
Общежитие, то есть совместное проживание людей с целью сотрудничать ради удовлетворения потребностей и выживания перед лицом угроз, обеспечивает на стадии бада̄ва производство минимума материальных благ, необходимых для физического выживания человека. На этой стадии производится только «необходимый» (д̣арӯрийй) продукт без каких-либо излишков. В своем крайнем выражении этот тип общежития представлен бытом бедуинов: кочевники, как неоднократно подчеркивает Ибн Х̱алдӯн, привыкли существовать на грани физического выживания и довольствуются минимумом потребления. Если другие виды жизни на открытом пространстве и не столь аскетичны, для них тем не менее характерно главное, что отличает общежитие на стадии бада̄ва: отсутствие прибавочного продукта, когда весь произведенный продукт потребляется ради удовлетворения нужд физического существования. Это не обязательно предполагает натуральное хозяйство, поскольку допускает обмен, однако исключает какие-либо излишки продукта, которые оставались бы после базово-необходимого потребления.
На стадии жизни на открытых пространствах все не только трудятся сообща, но и вместе участвуют в защите своего сообщества. Отсутствует излишек, который можно было бы направить на покупку профессиональных воинов, поэтому каждый член сообщества сам является воином и защитником.
Эта всеобщность и равенство в труде и военном деле открывают полный простор для чувства спаянности. Будучи естественной для человека, на стадии жизни на открытых пространствах спаянность раскрывается во всей своей полноте, охватывая всех без исключения членов родоплеменного сообщества. Более того,
696
она распространяется даже на тех, кого племя берет под свою опеку (мава̄лин, ед. мавлан) и кто не связан с родоплеменным сообществом кровным родством, хотя в этом случае спаянность — самая слабая. Далее, спаянность не одинакова в пределах одного родоплеменного сообщества: чем ближе родство, тем сильнее спаянность. Если взять одну родовую линию, то ее спаянность можно представить как систему концентрических кругов, где самая сильная спаянности располагается в центре, а по мере движения к периферии, т. е. по мере возрастания дальности родства, ее сила убывает. Племя состоит из ряда родовых линий, и спаянность племени — это сложная система векторов сил, образованных как суперпозиция отдельных спаянностей.
Такая спаянность, когда каждый «стоит горой» за всех, а все — за каждого, когда в мгновение ока любой превращается из труженика в воина и наоборот, согласована с типом общежития, характерным для стадии жизни на открытых пространствах. Необходимость максимальной отдачи каждого ради обеспечения общего выживания предполагает близость и равенство людей и отсутствие отношений принуждения.
Жизнь на огороженных пространствах (х̣ад̣а̄ра) представляет собой вторую стадию процесса обустраивания мира. Как и на стадии бада̄ва, она задается соотношением между характерным именно для нее типом общежития и типом спаянности.
На стадии городской жизни производство не ограничивается необходимым продуктом. Сверх него производится и «прибавочный» продукт (за̄’ид), который не необходим для непосредственного физического выживания человека. Его Ибн Х̱алдӯн называет «дополнительным» (кама̄лийй), или «связанным с потребностью» (х̣а̄джийй): эти два термина выступают у него как синонимы, и под «потребностью» (х̣а̄джа) он понимает те потребительские запросы, которые превышают уровень «необходимого» (д̣арӯрийй) для выживания человека. Прибавочный продукт направляется на удовлетворение подобных запросов.
С удовлетворением дополнительных запросов человека связано развитие ремесел, искусств и наук на стадии жизни на огороженных пространствах. В стремлении удовлетворить эти запросы, которые становятся все обильнее и изощреннее с ростом материального производства и, следовательно, увеличением прибавочного продукта, производители, во-первых, разнообразят свое производство и, во-вторых, доводят его до крайних пределов совершенства. Ремесла расщепляются и множатся по мере углубляющейся специализации, и в каждом из них мастера соревнуются в изысканности, стремясь угодить взыскательному покупателю. Так развивается строительство многоэтажных домов, изготовление мебели, дорогой одежды, домашней утвари, изысканных кушаний и т. п. В городах прибавочный продукт расходуется на нужды не только личного, но и общественного потребления: строятся гигантские цистерны-водохранилища, города украшаются насаждениями, единственная цель которых — радовать глаз, и т. д. Получают развитие искусства: дома украшаются богатой отделкой, инкрустацией и мозаикой, развивается пение и прочие искусства,
697
нацеленные на увеселение. Наконец, прибавочный продукт расходуется на развитие наук: в городах, обустроенность которых, как выражается Ибн Х̱алдӯн, обильна, могут существовать ученые, делом жизни которых является достижение совершенства в тех или иных науках. В последней, шестой главе «Мукаддимы» Ибн Х̱алдӯн подробно классифицирует и описывает все виды наук и искусств, получившие развитие в классической исламской цивилизации, что делает «Мукаддиму» важным источником сведений о духовной жизни классического времени.
В отличие от стадии жизни на открытых пространствах, когда спаянность является всеобъемлющей для членов сообщества, на стадии х̣ад̣а̄ра сфера спаянности сужается. Спаянность постепенно перестает играть цементирующую роль, и по мере ее вытеснения ее место занимают отношения принуждения (к̣ахр) и закабаления (истибда̄д). Равенство людей и всеобщее «чувство локтя», характерное для стадии бада̄ва, уходят в прошлое, а на их место приходят отношения подчинения, страха, зависимости и работы за плату. С развитием городской жизни утрачивается и естественная основа спаянности — чувство кровно-родственного единства, поскольку в городах племенная структура сообщества разрушается и перестает играть определяющую роль. Сужение сферы спаянности, изменение ее природы и характера, вызванное утратой ее естественного основания, и замена спаянности отношениями принуждения выражается в появлении государства (давла).
Термин давла имеет ряд значений. Его базовое значение — нечто добываемое и переходящее из рук в руки, своего рода приз, достающийся победителю. Таким призом и служит высшая государственная власть. Поскольку уже начиная с Омейядов власть в исламском халифате фактически утратила черты выборности и стала наследственной, термин давла начал обозначать также правящую династию; например, в словосочетании давла ’умавиййа значения «государство Омейядов» и «династия Омейядов» не исключают, а дополняют друг друга. У Ибн Х̱алдӯна термин давла сохраняет свою многозначность, обозначая и государство как власть, и государство как территорию, и правящую династию. Кроме того, под термином давла Ибн Х̱алдӯн понимает также те слои общества, которые обладают «влиянием» (джа̄х) и представляют собой основного потребителя на рынке (сӯк̣). Таким образом, термин «государство» обозначает у Ибн Х̱алдӯна как властные структуры, так и тот слой общества, который обладает влиянием и властью, способен осуществлять внеэкономическое принуждение и играет существенную роль на рынке.
Ибн Х̱алдӯн вскрывает экономическую роль государства на основе созданной им трудовой теории стоимости. Стоимость (к̣ӣма) произведенного продукта — это труд, вложенный в его производство, и более ничего. Обмениваясь товарами на рынке, люди обмениваются трудом: именно труд служит подлинным эквивалентом при обмене товарами. Стремясь к накоплению, в том числе к созданию сокровищ (накопление драгоценных металлов), люди на самом деле стремятся скопить труд. Стоимость товара может отличаться от его цены (си‘р) на рынке в результате изменений баланса спроса и предложения, как естественных (сезонные колебания),
698
так и искусственно создаваемых («придерживание» — их̣тика̄р, совр. «монополия» — товара в ожидании повышения цен на него). Таковы основные положения, сформулированные Ибн Х̱алдӯном за три с лишним века до появления европейской политэкономии и во многом совпадающие с ее постулатами.
Государство как слой обладающих влиянием (джа̄х) людей оказывается, согласно Ибн Х̱алдӯну, в преимущественном положении, поскольку способен присваивать труд людей, добровольно отдаваемый ими обладателям влияния в обмен на услуги, которые те могут оказывать им в силу своего положения. Речь идет, таким образом, о перераспределении прибавочного продукта в пользу высших слоев общества.
Общежитие, или совместный труд людей, на стадии городской жизни соответствует типу спаянности. Прибавочный продукт, присваиваемый государством, т. е. высшими слоями и самим правителем, с одной стороны, создает экономический спрос на товары, искусства и науки, не связанные с потребностями физического выживания, что приводит к соответствующему развитию производства, стремящегося удовлетворить этот спрос. С другой стороны, прибавочный продукт делает возможным покупку наемной воинской силы, которая берет на себя функции защиты государства. Это делает ненужным тот тип спаянности, который был совершенно необходим на прежней стадии обустраивания мира — на этапе жизни на открытых пространствах, когда любой член сообщества был одновременно и воином. Утрачивая способность постоять за себя, люди теперь включаются в отношения принуждения и подчинения. Вместе с тем это делает возможным узкую специализацию и достижение такого совершенства в науках и ремеслах, которое немыслимо на этапе внегородской жизни. Обустраивание мира на стадии жизни на огороженных пространствах протекает как процесс, заданный согласованностью своих двух сторон — общежития и спаянности.
Таков статический аспект закономерного соответствия между двумя сторонами процесса обустраивания мира, который протекает на двух различающихся уровнях — внегородской и городской жизни, или жизни на открытый пространствах (бада̄ва) и жизни на огороженных пространствах (х̣ад̣а̄ра). Кроме него, есть и динамический аспект этого соответствия, определяющий как закономерную эволюцию процесса обустраивания мира в пределах каждой стадии, так и закономерный переход с первой на вторую и закономерную остановку этого процесса на второй стадии по завершении ее эволюции.
Процесс обустраивания мира задан двумя сторонами — общежитием и спаянностью. В этой паре ведущая роль принадлежит спаянности: она служит двигателем процесса обустраивания мира, выступая в качестве его активной стороны. Ее эволюция, вызванная естественными причинами, определяет и эволюцию процесса обустраивания мира.
Эволюция спаянности на этапе внегородской жизни определяется двумя основными факторами.
Во-первых, это сложная конфигурация спаянностей отдельных родовых линий, образующих то или иное родоплеменное сообщество. В силу естественных причин
699
спаянность тем сильнее, чем ближе родство. Спаянности разных родовых линий обладают разной мощью в зависимости от количества их представителей.
Во-вторых, это естественное стремление человека захватить как можно больше и подавить своих ближних. Пока разные родовые линии обладают примерно одинаковой мощью, родоплеменное сообщество живет более или менее сбалансированно. Но если определенная родовая линия получает заметный перевес, естественное стремление к захвату и господству получает возможность реализовать себя. Тогда начинается превращение спаянности во «владение» (мулк), связанное с «преобладанием» (таг̣аллуб).
Если племенное образование, в котором наблюдается такое преобладание одной из спаянностей над прочими, во-первых, достаточно сильно, чтобы сплотить под своим руководством все племенное сообщество и захватить власть в расположенном неподалеку государстве, находящемся на второй стадии обустроенности и живущем городской жизнью, а само это государство, во-вторых, уже прошло естественную эволюцию до конца и ему остается только погибнуть, а значит, оно не способно защищаться, то такое племенное образование может, получив власть, перейти с первой стадии процесса обустраивания мира на вторую его стадию.
После этого начинается эволюция спаянности на этапе городской жизни. Она идет по линии постепенного сужения круга спаянности, пока он не дойдет до минимума — точки: спаянность остается достоянием только государя, тогда как все остальные жители государства оказываются лишены ее.
На этом этапе спаянность меняет свою природу: она постепенно теряет свое естественное основание (кровно-родственная близость). Впрочем, ее проявление остается прежним: это способность защищать самого себя и свои интересы с оружием в руках, не позволяя никому господствовать над собой. Однако с потерей естественной основы спаянности круг ее носителей постепенно сужается, поскольку государь, обладая максимальными возможностями принуждения и следуя естественному стремлению единолично господствовать, лишает всех прежних носителей спаянности одного за другим возможности проявлять ее: кто-то бывает умерщвлен, кто-то — отправлен в ссылку, а кто-то сам отказывается от независимости. Круг спаянности таким образом сужается, пока не дойдет до своего минимума — точки, которая представлена самим государем: он остается единственным ее носителем. Такое сужение круга спаянности до минимума в конце концов подрывает силы государства, и оно гибнет.
Эволюцию спаянности на этапе городской жизни Ибн Х̱алдӯн описывает как пять фаз, которые проходит государство от зарождения до гибели. Первая — фаза возникновения нового государства, когда власть вырвана у представителей прежней правящей династии. На этой фазе спаянность остается еще практически всеобщей. Вторая — фаза закабаления, когда государь оттесняет наиболее видных носителей спаянности от кормила власти, заменяет их новыми ставленниками и вербует наемную армию. Третья — фаза процветания и творческого развития, когда налаженное государство успешно функционирует, а государь сам следит
700
за всеми делами. Четвертая фаза — начало упадка, когда государь не предпринимает ничего нового, а лишь пытается имитировать деяния своих предшественников в надежде сохранить прежнюю славу. Пятая фаза — разложение и гибель государства, когда государь перестает заниматься делами, перепоручая это недостойным, а в государстве царит разлад. Так продолжается до тех пор, пока власть в государстве не захватит новое родоплеменное сообщество—носитель свежей, цветущей спаянности. Такая эволюция государства от его зарождения до гибели занимает, по Ибн Х̱алдӯну, сто двадцать лет (три поколения). Это — теоретически высчитанный срок, определенный естественной эволюцией нравов, тогда как в реальности он может сокращаться или растягиваться в зависимости от исторических условий.
Таким образом, переход с первой стадии обустраивания мира на вторую является закономерным, вызывается естественными причинами и совершается при выполнении ряда условий. Столь же естественной является эволюция процесса обустраивания мира на второй стадии, т. е. на этапе городской жизни, поскольку она вызвана исключительно естественными причинами. Эта эволюция закономерно заканчивается распадом сообщества, прошедшего все фазы развития на второй стадии обустраивания мира.
Процесс обустраивания мира в целом протекает на двух стадиях, бада̄ва и х̣ад̣а̄ра, которые относятся друг к другу как «основа» (’ас̣л) и «ветвь» (фар‘). Это означает, что на второй стадии («ветвь») появляется нечто дополнительное, расширяющее «основу»—первую стадию, делающее ее содержательно более богатой. В том, что касается общежития, таким дополнением служит прибавочный продукт — дополнение к необходимому, создающее излишек, который расходуется на развитие производства. В том, что касается спаянности, таким дополнением оказывается ее поляризация: достигая максимума в фигуре государя, она в то же время доходит до минимума у всех остальных ее носителей. Вместе с тем по правилам ’ас̣л-фар‘-перехода в ветви должна сохраняться основа. В данном случае это общее методологическое требование выполняется. В том, что касается совместного труда («общежитие»), дополнительный продукт надстраивается над необходимым и служит дополнением к нему, так же как дополнительное потребление, связанное с х̣а̄джа «потребностью», не отменяет базового потребления, являющегося «необходимым» (д̣арӯрийй). Что касается психологической силы, цементирующей сообщество («спаянность»), то ее поляризация на этапе городской жизни модифицирует ее и служит дополнительной характеристикой к ее простому наличию у членов сообщества на первой стадии: лишь полное угасание спаянности на последней, пятой фазе, когда ее утрачивает и сам государь, означает распад процесса обустраивания мира данным сообществом. Что касается процесса обустраивания мира, связывающего спаянность и общежитие, то на стадии городской жизни оно дает гораздо более обильные плоды (‘умра̄н как «обустроенность» — результат ‘умра̄н как «обустраивания»), значительно превышающие те, что могут быть достигнуты на стадии жизни на открытых пространствах.
701
Переход от основы к ветви, или «ветвление» (тафрӣ‘), понимается в классической арабо-мусульманской мысли как образование целого. Таким образом, две стадии обустраивания мира — первая и вторая, или основная и дополнительная — исчерпывают описание этого процесса в целом, а прослеживание закономерностей движения каждого отдельного сообщества по этой лестнице фаз полностью описывает закономерности развития человеческих сообществ. Это означает, что Ибн Х̱алдӯн в «Мукаддиме» выполнил задачу полного описания обустраивания мира людьми, исходя из естественных причин и их природы.
Каждое отдельное сообщество проходит все стадии эволюции по лестнице ‘умра̄н или их часть; однако, если брать процесс обустраивания мира в целом, безотносительно к сообществам, участвующим в нем, то этот процесс никак не меняется: в мире всегда присутствуют обе стадии этого процесса и всегда происходит передвижение какого-то сообщества с первой на вторую. Теоретически можно представить исчезновение второй стадии, но не первой: ветвь может исчезнуть, не затронув основу, но исчезновение основы неизбежно влечет исчезновение ветви. Этим объясняется та имплицитная оценка, которую дает Ибн Х̱алдӯн экономическому процветанию на стадии городской жизни: он описывает все усовершенствования и ухищрения несколько иронично, во-первых, как следствие человеческой ненасытности, ведущей в возникновению все новых потребностей; во-вторых, как явление по своей сути ненужное, поскольку оно превышает физическую необходимость человеческого существования; в-третьих, как явление временное: процветание любого данного сообщества на стадии х̣ад̣а̄ра неизбежно закончится его распадом; и в-четвертых, как явление, сопряженное с неизбежным падением нравов, все более углубляющимся по мере экономического роста. Человечество вполне могло бы существовать на стадии бада̄ва, и все достижения городской жизни, пусть они и вызывают удивление и восхищение, тем не менее не являются необходимыми для жизни (хотя и вызваны естественным ходом развития).
Концепция исторического развития Ибн Х̱алдӯна нередко характеризуется исследователями как циклическая. За цикл неверно принимают полный путь развития бада̄ва ⇒ х̣ад̣а̄ра с неизбежной гибелью государства на конечной стадии городской жизни. Однако это — не круговое движение, поскольку здесь в принципе не может быть возвращения к началу и повтроения. Кроме того, для отдельного сообщества совсем не обязателен и переход со стадии бада̄ва на стадию х̣ад̣а̄ра.
Любое сообщество может оставаться на стадии внегородской жизни, не переходя на вторую стадию обустраивания, если ни одна из родовых линий не может сплотить своей спаянностью все родоплеменное сообщество и заставить его действовать в своих интересах. Если такое случается и если поблизости оказывается пришедшее в упадок государство, неспособное противостоять пришельцам, то возможен переход на стадию городской жизни, эволюция которой (пять фаз развития государства) неизбежна. На последней стадии — стадии разложения — сообщество может существовать достаточно долго, и все зависит лишь от того, насколько быстро власть в государстве будет захвачена другим сообществом, переходящим
702
с первой стадии обустраивания мира на вторую. Но после этого прежнее сообщество, чье государство погибло, не возвращается на первую стадию: такое, согласно Ибн Х̱алдӯну, невозможно в силу естественных причин, поскольку люди, изнеженные городской жизнью, имеющие высокие запросы и потребности и отличающиеся развращенными нравами, уже не смогут образовать сообщество на стадии бада̄ва.
Таким образом, эволюция каждого отдельного сообщества, если она имеет место, не циклична, а линейна. В целом же процесс обустраивания мира также не цикличен, а скорее статичен: в нем всегда имеются две стадии, и каждая из его стадий и каждая из фаз внутри этих стадий закономерно определена.
Из двух сторон процесса обустраивания мира, т. е. общежития и спаянности, именно спаянность выступает как его активная сторона, определяющая эволюцию сообщества. С эволюцией спаянности связана и эволюция нравов, которые закономерно определены для каждой из стадий и фаз процесса обустраивания мира.
Нравы людей в целом обусловлены в своей основе природными, в том числе климатическими и географическими, факторами. Ибн Х̱алдӯн заимствует пришедшее из античности деление земли на семь климатов, из которых лишь в срединном наблюдаются условия для развития человеческих способностей и нравов, тогда как в других климатах нравы дикие, приближающиеся к звериным. Но и в срединном климате, где обитают арабы и берберы — два народа, историю которых описывает Ибн Х̱алдӯн, — нравы существенно различаются в зависимости от географических условий. Чем холоднее (например, на возвышенностях), тем взвешеннее, спокойнее, дальновиднее и прозорливее люди; чем местность более жаркая и влажная, тем люди беззаботнее и опрометчивее. Это определено естественными причинами и свойствами первоэлементов, смесь которых образует человеческое тело.
Если брать человека как такового, то естественно-научный взгляд на него, свободный от внешней предзаданности, заставляет Ибн Х̱алдӯна дать весьма неприглядный его портрет как существа, практически лишенного нравственности и действующего едва ли не исключительно под влиянием своих животных страстей. Он неоднократно повторяет, что человек агрессивен, жаден и завистлив по природе: заметив, что другой владеет чем-то достойным внимания, он не остановится ни перед чем, чтобы отнять это. Предоставленные самим себе, люди очень скоро истребили бы друг друга в этой войне каждого против всех. Вот почему им необходим «усмиритель» (ва̄зи‘) — некто, стоящий выше всех и способный обуздать эту всеобщую взаимную агрессию. В родоплеменном обществе такую функцию исполняют племенные старейшины и вожди, а на следующей ступени обустроенности — государь (с̣а̄х̣иб ад-давла).
Наконец, нравы решающим образом зависят от стадии обустраивания мира, на которой находится данное сообщество, и по мере продвижения по этапам обустраивания эволюционируют от похвальных и достойных к низменным и никчемным. Самая начальная стадия обустроенности, на которой существуют кочевники-бедуины, предполагает и самые суровые, и вместе с тем похвальные и необходимые для выживания нравы. Здесь каждый равен другому и никогда не согласится
703
занять подчиненное положение, каждый готов отстаивать свое достоинство с оружием в руках. Бедуины, пишет Ибн Х̱алдӯн, презирают прочих обитателей земли и считают их стоящими ниже себя: они никогда не согласятся променять свою нравственность на какие-либо материальные выгоды. На стадии городской жизни начинается безудержная деградация нравов, связанная с поляризацией спаянности, прежде того равномерной. По мере утраты спаянности характерные для нее нравы уступают место изнеженности, неспособности постоять за себя, готовности подчиниться и попасть в зависимость, лживости, лицемерию, безразличию к собственным детям и прочим порокам.
Законы процесса обустраивания мира, открытые Ибн Х̱алдӯном, позволяют зафиксировать его «состояния» как неизменные модусы соотношения между двумя его сторонами — общежитием и спаянностью. Помимо рассмотренных макрозакономерностей, определяющих статику и динамику этого процесса, Ибн Х̱алдӯн выводит ряд других, имеющих меньший масштаб, но не менее непреложных законов: распадение государства как территории на два или больше с ослаблением спаянности; зависимость величины территории государства от количества носителей спаянности, способных защищать его границы; неизбежность гибели государства, достигшего максимального экономического расцвета и уровня роскоши, и т. д.
Связь науки об обустраивании мира и исторической науки определяется тем, что, как указывает сам Ибн Х̱алдӯн, «плод» его новой науки — исправление исторических сообщений. Это означает, что закономерности обустраивания мира служат для историка фальсификационным критерием отбрасывания заведомо ложных сообщений, которые не должны включаться в историю. Отбраковыванию подлежат все сообщения, которые, во-первых, не согласуются с закономерностями обустраивания мира, а во-вторых, вообще с природой и природными закономерностями. Закономерности обустраивания мира не являются предметом изучения историка; их открывает другая наука — наука об ‘умра̄н. Историк только использует, но не исследует их: они остаются «за» его текстом, выступая как будто в качестве того «скрытого», с которым должно согласовываться «явное», т. е. создаваемое историком сочинение. Стал чуть ли не общим местом упрек в адрес Ибн Х̱алдӯна, суть которого в том, что открытые им в «Мукаддиме» закономерности он же сам не использует, как будто забывая о них, когда переходит к собственно исторической части своего сочинения. Но рассуждать так — все равно что утверждать, будто архитектор забывает о сопромате, поскольку формулы последнего не вычерчены на каждом кирпиче здания. Такой упрек несправедлив и не учитывает принципа соотношения науки об ‘умра̄н (науки об обустраивании мира) и науки та’рӣх̱ (науки истории): первая лишь подсказывает историку, какие сообщения из массива доступных ему данных он должен отбросить, тогда как закономерности обустраивания мира как таковые должны исследоваться отдельно, в особых сочинениях.
Судьба наследия Ибн Х̱алдӯна оказалась разной в арабском мире и в Европе. Гениальность, прозорливость и смелость мысли арабского ученого резко контрастирует с практически полным отсутствием последователей: Ибн Х̱алдӯн
704
не оставил после себя школы, хотя имел многих блестящих учеников, отдававших должное его таланту, но не пожелавших развить идеи «Мукаддимы». Думается, дело в том, что идеи Ибн Х̱алдӯна оказались слишком необычными для его окружения и не смогли преодолеть мощную инерцию арабо-мусульманской культуры с ее гигантским, поистине необозримым духовным потенциалом, накопленным к концу классического периода: последовать за Ибн Х̱алдӯном означало отказаться от этого богатства, поставить его под сомнение, а то и вовсе отбросить ради того, чтобы выстроить совершенно новый взгляд на человека. Первым переводом «Мукаддимы» стал ее перевод на турецкий язык, и целый ряд османских историков обращались к этому произведению, хотя предметом внимания служили в основном выборочные положения Ибн Х̱алдӯна о государстве, а его революционные открытия, и прежде всего — в области методологии, не были подхвачены и развиты.
В Европе, всерьез заинтересовавшейся «Мукаддимой» в самом конце XVII в., с публикацией ее текста в 1858 г. началось ее интенсивное научное изучение, продолженное и в XX в.: арабский ученый вызывает неослабевающий интерес исследователей, некогда пораженных совпадениями его идей с гораздо более поздними открытиями европейских наук (политэкономии, социологии, психологии, философии истории, культурологии). В этот процесс включились исследователи арабских и других стран мусульманского мира, а также представители других регионов: изучение Ибн Х̱алдӯна приобрело сегодня всемирный характер.
 |
8.3.4 Цитируемая литература |

|
705
Автономова 2008 — Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыт философии языка. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008.
Азхари 2001 — Ал-Азхарӣ. Тахз̱ӣб ал-луг̣а. Байрӯт: Да̄р их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, 2001.
Амули 2012 — Амули Х. Х. Комментарий к первой главе «Гемм мудрости» Ибн ал-‘Араби // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 3. М.: Вост. лит., 2012. С. 124—137.
Анисов 2009 — Анисов А. М., Смирнов А. В. Логические основания философии времени мутазилитов // Философский журнал. № 2 (3). 2009. С. 132—163. М.: ИФ РАН, 2009.
Аристотель 1976 — Аристотель. Метафизика // Сочинения: В 4 т. / Ред. В. Ф. Асмус. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 63—367.
Аристотель 1981 — Аристотель. Физика // Сочинения: В 3 т. / Ред. И. Д. Рожанский. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 59—262.
Аскалани 1379 — Ибн Х̣аджар ал-‘Аск̣ала̄нӣ. Фатх̣ ал-ба̄рӣ Шарх̣ С̣ах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ («Триумф Всемогущего» — комментарий к «Сахиху» ал-Бухари) / Ред. Мух̣ибб ад-Дӣн ал-Х̱ат̣ӣб: В 13 т. Байрӯт: Да̄р ал-ма‘рифа, 1379 х.
Аттас 2001 — Аль-Аттас М. Н. Введение в метафизику ислама. М.; Куала-Лумпур, 2001.
Афнан 1964 — Afnan S. Philosophical terminology in Arabic and Persian. Leiden, 1964.
Ашари 1980 — Ал-Аш‘арӣ. Мак̣а̄ла̄т ал-исла̄миййӣн ва их̱тила̄ф ал-мус̣аллӣн (Что говорили мусульмане и в чем разошлись вершившие молитву) / Ред. Г. Риттер. 3-е изд. Висбаден, 1980.
Ашмави 1984 — Ал-‘Ашма̄вӣ, М. С. Рӯх̣ ал-‘ада̄ла (Дух справедливости). 3-е изд. Байрӯт: Да̄р ик̣ра̄’, 1984.
Баали 2005 — Baali F. The Science of Human Social Organization: Conflicting Views on Ibn Khaldun’s (1332—1406) Ilm al-umran. Lewiston, N. Y.: Edwin Mellen Press, 2005.
Багдади 1981 — Ал-Баг̣да̄дӣ, ’Абӯ Манс̣ӯр. ’Ус̣ӯл ад-дӣн (Основы религии). 3-е изд. Байрӯт: Да̄р ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1981. (Воспр. 1-го стамбульского изд. 1928 г.)
Бациева 1965 — Бациева С. М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна «Мукаддима». М.: Наука (Гл. ред. вост. лит-ры), 1965.
Березкин 2007 — Березкин Ю. Е. Три кита: мотив опоры земли в европейском фольклоре и его восточноазиатские параллели // АБ-60: Сб. ст. к 60-летию Альберта Кашфулловича Байбурина. СПб.: Европейский Университет в Санкт-Петербурге, 2007. С. 298—317.
Бессмертная 2010 — Бессмертная О. Ю. Культурный билигвизм? Игра смыслов в одной скандальной статье (из истории отношений мусульманских оппозиционеров и русских «государствеников» в позднеимперской России) // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 197—383.
Блашер 1999 — Blachere R. Al-Azharī // Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.
Бухари 1987 — Ал-Бух̱а̄рӣ. Ал-Джа̄ми‘ ас̣-С̣ах̣ӣх̣ ал-Мух̱тас̣ар (Сокращенный «Сахих» аль-Бухари). Ал-Йама̄ма-Байрӯт: Да̄р Ибн Кас̱ӣр, 1987.
706
Вежбицкая 1999 — Вежбицкая А. Из книги «Семантика: примитивы и универсалии» // Семантические универсалии и описание языков / Пер. А. Д. Шмелева. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 3—88.
Виннер 1997 — Виннер Д. И. О различении внешнего и внутреннего отрицания в традиционной логике // Традиционная логика и канторовская диагональная процедура. М.: Янус-К, 1997. С. 5—21.
Витгенштейн 1994 — Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы / Сост., вступ. ст., примеч. М. С. Козловой. Ч. I. М.: Гнозис, 1994.
Газали — Ал-Г̣аза̄лӣ. Их̣йа̄’ ‘улӯм ад-дӣн (Воскрешение религиозных наук). Байрӯт: Да̄р ал-ма‘рифа, б. г.
Гибб 1962 — Gibb H. A. R. Studies on the Civilization of Islam. Boston: Beacon press, 1962.
Дарими 1998 — ад-Да̄римӣ. Нак̣д̣ ал-’има̄м ‘Ус̱ма̄н б. Са‘ӣд ад-Да̄римӣ ‘ала̄ ал-Марӣсӣ ал-джахмийй ал-‘анӣд (Опровержение имамом Усманом б. Саидом ад-Дарими упорствующего джахмита аль-Мариси). Ас-Са‘ӯдиййа: Мактабат ар-рушд, 1998.
Деррида 1994 — Derrida J. Of the Humanities and the Philosophical Discipline. The Right to Philosophy from the Cosmopolitical Point of View (the Example of an International Institution). SURFACES, Vol. IV. 310 Folio 1 (1994). Montreal. URL: http://www.pum.umontreal.ca/revues//surfaces/vol4/derridaf.html (21.03.2015).
Джабири 2009а — Ал-Джа̄бирӣ М. А. Таквӣн ал-‘ак̣л ал-‘арабийй (Формирование арабского разума). 10-е изд. Байрӯт, 2009.
Джабири 2009б — Ал-Джа̄бирӣ. Бунйат ал-‘ак̣л ал-‘арабийй (Структура арабского разума). 9-е изд. Байрӯт, 2009.
Джами 1370 — Джа̄мӣ, ‘Абд ар-Рах̣ма̄н. Нак̣д ан-нус̣ӯс̣ фӣ шарх̣ Нак̣ш ал-Фус̣ӯс̣ (Тексты, выбранные для раскрытия «Оттисков “Гемм”») / Ред. Джала̄л ад-Дӣн ’Аштийа̄нӣ. 2-е изд. Тегеран: Му’ассаса-йи мут̣а̄ла‘а̄т ва тах̣к̣ӣк̣а̄т-и фархангӣ, 1370 с. х.
Джанди 1381 — Ал-Джандӣ, Му’аййад ад-Дӣн. Шарх̣ Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Комментарий к «Геммам мудрости») / Ред. Джала̄л ад-Дӣн ’Аштийа̄нӣ. К̣ум: Буста̄н-и кита̄б, 1381 с. х.
Джассас 1917 — Ал-Джас̣с̣а̄с̣. Ах̣ка̄м ал-к̣ур’а̄н (Коранические нормы). Стамбул, 1335/1917.
Джахиз 1990 — Ал-Джа̄х̣из̣. Ал-Байа̄н ва-т-табйӣн (Ясность и разъяснение): В 4 ч. Байрӯт: Да̄р ал-джӣл, 1990.
Джунайд 2005 — Ал-Джунайд. Ал-А‘ма̄л ал-ка̄мила (Полное собр. соч.) / Ред. Су‘а̄д ал-х̣акӣм. 2-е изд. Ал-К̣а̄хира: Да̄р аш-шурӯк̣, 2005.
Джурджани 1405 — Ал-Джурджа̄нӣ. Ат-Та‘рӣфа̄т (Определения) / Ред. Ибра̄хӣм ал-Абйа̄рӣ. Байрӯт: Да̄р ал-кита̄б ал-‘арабийй, 1405 х.
Дури 1974 — Ад-Дӯрӣ, К̣ах̣т̣а̄н ‘Абд ар-Рах̣ма̄н. Аш-Шӯра байна ан-наз̣ариййа ва-т-тат̣бӣк̣ («Шура» в теории и на практике). 1-е изд. Баг̣да̄д: Мат̣ба‘ат ал-’умма, 1974.
Жюльен 2001 — Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик? Стратегия смысла в Китае и Греции / Пер. В. Г. Лысенко. М.: Московский философский фонд, 2001.
Ибн Араби 847 — Ибн ‘Арабӣ. Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам. 847 г. х. Рукопись (переп. Мух̣аммад б. ал-Муба̄рак). Б-ка Айасофийа, № 2444.
Ибн Араби 1853 — Ибн ‘Арабӣ. Ал-Футӯх̣а̄т ал-маккиййа (Мекканские откровения). Т. 1—4. Каир: Бӯла̄к̣, 1853—1857.
Ибн Араби 1980 — Ибн ‘Арабӣ. Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Геммы мудрости): В 2 ч. / Ред. и коммент. Абӯ ал-‘Ала̄ ‘Афӣфӣ. 2-е изд. Ч. 1. Байрӯт: Да̄р ал-кита̄б ал-‘арабийй, 1980.
Ибн Араби 1985 — Ибн ‘Арабӣ. Ал-Футӯх̣а̄т ал-маккиййа (Мекканские откровения) / Ред. ‘Ус̱ма̄н Йах̣йа̄. Т. 1—14. Б. м.: Ал-Хай’а ал-мис̣риййа ал-‘а̄мма ли-л-кита̄б, 1985—1992.
707
Ибн Араби 1996 — Ibn ‘Arabî. La Production des Cercles. Kitâb inshâ’ ad-dawâ’ir al-ihâtiyya. Traduit de l’arabe, présenté et annoté par Paul Fenton & Maurice Cloton, texte arabe établi par H. S. Nyberg. Paris: Éditions de l’Éclat, © 1996.
Ибн Араби 1998 — Ибн ‘Арабӣ. Ал-Футӯх̣а̄т ал-маккиййа (Мекканские откровения). Т. 1—4. Байрӯт: Да̄р их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, 1998.
Ибн Араби 2012 — Ибн ‘Арабӣ. Геммы мудрости (отрывок) // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 3. М.: Вост. лит., 2012. С. 62—76.
Ибн Араби 2013 — Ибн Араби. Составление окружностей // Ибн Араби. Избранное / Пер. с араб., вводная ст. и коммент. И. Р. Насырова. Т. 1. М.: Языки славянской культуры: Садра, 2013. С. 49—93.
Ибн Араби 2014 — Ибн Араби. Избранное / Пер. с араб., вводная ст. и коммент. А. В. Смирнова. Т. 2. М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2014.
Ибн ал-Араби 1999 — Ибн ал-‘Арабӣ, ’Абӯ Бакр ал-Ма‘а̄фирӣ. Ал-Мах̣с̣ӯл фӣ ’ус̣ӯл ал-фик̣х (Все, что сделано в науке основ фикха). ‘Амма̄н: Да̄р ал-байа̄рик̣, 1999.
Ибн Баттал 2003 — Ибн Бат̣т̣а̄л. Шарх̣ Сах̣ӣх̣ ал-Бух̱а̄рӣ (Комментарий к «Сахиху» аль-Бухари) / Ред. ’Абӯ Тамӣм Йа̄сир б. Ибра̄хӣм. 2-е изд. Ар-Рийа̄д̣: Мактабат ар-рушд, 2003.
Ибн Маджа — Сунан Ибн Ма̄джа («Сунна» Ибн Маджи) / Ред. Мух̣аммад Фу’а̄д ‘Абд ал-Ба̄к̣ӣ. Байрӯт: Да̄р ал-фикр, б. г.
Ибн Манзур — Ибн Манз̣ӯр. Лиса̄н ал-‘араб (Язык арабов). Байрӯт: Да̄р с̣а̄дир, б. г.
Ибн Муфлих 1930 — Ибн Муфлих̣. Ал-’Āда̄б аш-шар‘иййа (Этика согласно Закону). Каир: 1348/1930.
Ибн Сина 1891 — Ибн Сӣна̄. Ан-Намат̣ ат-та̄си‘ фӣ мак̣а̄ма̄т ал-‘а̄рифӣн (Девятый раздел о макамах познавших) // Ибн Сӣна̄. Ал-Анма̄т̣ ас̱-с̱ала̄с̱а ал-’ах̱ӣра мин ал-иша̄ра̄т ва-т-танбӣха̄т. Раса̄’ил аш-шайх̱ ар-ра’ӣс ’Абӣ ‘Алӣ ал-Х̣усайн б. ‘Абдалла̄х Ибн Сӣна̄ фӣ асра̄р ал-х̣икма ал-машрик̣иййа. Ал-Джуз’ ас̱-с̱а̄нӣ. Лейден: Брилль, 1891.
Ибн Сина 1894 — Ибн Сӣна̄. Риса̄ла фӣ ма̄хиййат ас̣-с̣ала̄т (Трактат о сущности молитвы) // Раса̄’ил аш-шайх̱ ар-ра’ӣс ’Абӣ ’Алӣ ал-Х̣усайн б. ’Абдалла̄х Ибн Сӣна̄ фӣ асра̄р ал-х̣икма ал-ишра̄к̣иййа. Ал-Джуз’ ас̱-с̱а̄лис̱. Лейден: Брилль, 1894.
Ибн Сина 1954 — Ибн Сӣна̄. ‘Уйӯн ал-х̣икма (Родники мудрости) / Ред. и предисл. ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Бадавӣ. Каир, 1954.
Ибн Сина 1966 — Ибн Сӣна̄. Ал-Иша̄ра̄т ва-т-танбӣха̄т, ма‘а шарх̣ Нас̣ӣр ад-Дӣн ат̣-Т̣ӯсӣ («Намеки и подсказки», с коммент. Насир ад-Дина ат-Туси) / Ред. Сулайма̄н Дунйа̄. 2-е изд. В 4 ч. Ч. 3. Ал-’Ила̄хиййа̄т (Божественная наука). Мис̣р: Да̄р ал-ма‘а̄риф, 1966.
Ибн Сина 1968 — Ибн Сӣна̄. Ал-Иша̄ра̄т ва-т-танбӣха̄т, ма‘а шарх̣ Нас̣ӣр ад-Дӣн ат̣-Т̣ӯсӣ / Ред. Сулайма̄н Дунйа̄. 2-е изд. В 4 ч. Ч. 2. Ат̣-Т̣абӣ‘иййа̄т (Физика). Мис̣р: Да̄р ал-ма‘а̄риф, 1968.
Ибн Таймиййа — Ибн Таймиййа. Кутуб ва раса̄’ил ва фата̄вӣ шайх̱ ал-исла̄м Ибн Таймиййа (Книги, трактаты и фетвы шайх-ал-ислама Ибн Таймиййи). Мактабат Ибн Таймиййа. 2-е изд. Б. м., б. г.
Ибн Хазм 1979 — Ибн Х̣азм. Ал-Ах̱ла̄к̣ ва-с-сийар фӣ муда̄ва̄т ан-нуфӯс (Нравы и поведение и излечение душ). 2-е изд. Байрӯт: Да̄р ал-’а̄фа̄к̣ ал-джадӣда, 1979.
Ибн Халдун — Ибн Х̱алдӯн. Мук̣аддима (Введение). Байрӯт: Да̄р ал-фикр, б. г.
Ибн Халдун 1961 — Ибн Халдун. Введение (фрагменты) // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока / Пер. С. М. Бациевой. М.: Изд- во соц.-эк. лит-ры, 1961. С. 559—628.
708
Ибн Халдун 1967а — Ibn Khaldûn. The Muqaddimah: an introduction to history / Transl. from the Arabic by Franz Rosenthal. 2d ed. Princeton (N. J.): Princeton University Press, 1967.
Ибн Халдун 1967б — Ibn Khaldûn. Discours sur l’histoire universelle. Al-Muqaddima. Traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil. Troisième édition revue. “Thesaurus” Sindbad, ©1967—1968.
Ибн Халдун 1980 — Ибн Халдун. Пролегомены к «Книге поучительных примеров и дивану сообщений о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших властью великих размеров» // Игнатенко А. А. Ибн-Хальдун. М.: Мысль, 1980. С. 121—155.
Ибн Халдун 2005 — Ибн Х̱алдӯн. Мук̣аддима (Введение) / Ред., предисл. и коммент. ‘Абд ас-Сала̄м аш-Шадда̄дӣ. 1-е изд. Ч. 1—3, 1—5. Ад-Да̄р ал-Байд̣а̄’: Х̱иза̄нат Ибн Х̱алдӯн, Байт ал-фунӯн ва-л-‘улӯм ва-л-’а̄да̄б, 2005.
Ибн Халдун 2008 — Ибн Халдун. Введение (ал-Мукаддима) / Сост., пер. с араб. и примеч. А. В. Смирнова // Историко-философский ежегодник 2007. М.: Наука, 2008. С. 187—217.
Ибн Ханбал — Муснад ал-има̄м Ах̣мад б. Х̣анбал («Муснад» имама Ибн Ханбала). Мис̣р: Му’ассасат К̣урт̣уба, б. г.
Ибн Хиббан 1993 — Сах̣ӣх̣ Ибн Х̣ибба̄н би-тартӣб Ибн Билба̄н («Сахих» Ибн Хиббана, упорядоченный Ибн Бильбаном) / Ред. Шу‘айб ал-Арна’ӯт̣. 2-е изд. Байрӯт: Му’ассасат ар-риса̄ла, 1993.
Ибн Хишам 1984 — Ибн Хиша̄м. Шуз̱ӯр аз̱-з̱ахаб фӣ ма‘рифат кала̄м ал-‘араб (Золотые самородки знания об арабской речи) / Ред. ‘Абд ал-Г̣анӣ ад-Дак̣ир. Сӯрийа̄: аш-Шарика ал-муттах̣ида ли-т-тавзӣ‘, 1984.
Игнатенко 2004 — Игнатенко А. А. Зеркало ислама. М.: Русский институт, 2004.
Иджи 1997 — Ал-’Ӣджӣ. Ал-Мава̄к̣иф фӣ ‘илм ал-кала̄м (Положения науки калама). Байрӯт: Да̄р ал-джӣл, 1997.
Икбал 2002 — Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе / Пер. М. Т. Степанянц. М.: Вост. лит., 2002.
Иснави 1987 — ал-Иснавӣ, Джама̄л ад-Дӣн. Ат-Тамхӣд фӣ тах̱рӣдж ал-фурӯ‘ ‘ала̄ ал-’ус̣ӯл (Пролегомены к выведению ветвей из основ). 4-е изд. Байрӯт: Му’ассасат ар-риса̄ла, 1987.
Кайсари 1375 — Ал-К̣айс̣арӣ, Да̄вуд. Мат̣ла‘ х̱ус̣ӯс̣ ал-килам фӣ ма‘а̄нӣ Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Избранно сказанное о смыслах «Гемм мудрости») / Ред. Джала̄л ад-Дӣн ’Аштийа̄нӣ. 1-е изд. Тегеран: Ширкат-и интиша̄ра̄т-и ‘илмӣ ва фархангӣ, 1375 с. х.
Касим б. Салам 1396 — Ал-К̣а̄сим б. Сала̄м, ’Абӯ ‘Убайд ал-Харавӣ. Г̣арӣб ал-х̣адӣс̱ (Необычное в хадисах) / Ред. Мух̣аммад ‘Абд ал-Му‘ӣд Х̱а̄н. Байрӯт: Да̄р ал-кита̄б ал-‘арабийй, 1396 х.
Кашани 1423 — Ал-Ка̄ша̄нӣ. Ис̣т̣ила̄х̣а̄т ас̣-с̣ӯфиййа (Терминология суфиев) / Ред. Маджӣд Ха̄дӣ За̄де. Тахра̄н, 1423 х.
Кашани 2000 — Ал-Ка̄ша̄нӣ. Лат̣а̄’иф ал-и‘ла̄м фӣ иша̄ра̄т ’ахл ал-илха̄м (Тонкое оповещение о намеках для вдохновенных) / Ред. Маджӣд Ха̄дӣ За̄де. Тахра̄н, 2000.
Кашани 2007 — Ал-К̣а̄ша̄нӣ. Шарх̣ ал-К̣а̄ша̄нӣ ‘ала̄ Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Комментарий аль-Кашани к «Геммам мудрости») / Ред. ‘А̄с̣им Ибра̄хӣм ал-Кайа̄лӣ. 1-е изд. Байрӯт: Да̄р ал-кутуб ал-‘илмиййа, 2007.
Кинди 1950 — Раса̄’ил ал-Киндӣ ал-фалсафиййа (Философские трактаты аль-Кинди) / Ред. ’Абӯ Рӣда. Мис̣р: Да̄р ал-фикр ал-‘арабийй, 1950.
709
Кирабаев 2002 — Кирабаев Н. С. О философских основаниях мусульманской культуры // Homo philosophans: Сб. к 60-летию проф. К. А. Сергеева. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002.
Кирмани 1983 — Ал-Кирма̄нӣ, Х̣амӣд ад-Дӣн. Ра̄х̣ат ал-‘ак̣л (Успокоение разума). Байрӯт: Да̄р ал-Андалус, 1983.
Кирмани 1995 — Аль-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума (Рахат аль-акль) / Пер. с араб., введ. и коммент. А. В. Смирнова. М.: Ладомир, 1995.
Кныш 1995 — Кныш А. Д. Введение // Ибн ал-‘Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-маккийя). СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1995.
Койре 1985 — Койре А. Заметки о парадоксах Зенона // Койре А. Очерки истории философской мысли. М.: Прогресс, 1985. С. 27—50.
Кубрякова 2004 — Кубрякова Е. С. Язык и знание. М.: Языки славянской культуры, 2004.
Кунави 1413 — Ал-К̣ӯнавӣ, С̣адр ад-Дӣн. Тарджамат ва матн Кита̄б ал-Фукӯк (Пер. и оригинал «Книги, разбирающей [тайны основ сказанного в “Геммах”]») / Ред. Мух̣аммад Х̱ава̄джавӣ. Тахра̄н: Мавла̄, 1413 х. (= 1371 с. х.).
Кунави 2015 — Ал-Кунави. Ключ к сокрытому (Мифтах ал-гайб) / Пер. Я. Эшотса. М.: Наука (Вост. лит.), 2015.
Куртуби 1372 — Ал-К̣урт̣убӣ, ’Абӯ ‘Абдалла̄х. Ал-Джа̄ми‘ ли-ах̣ка̄м ал-к̣ур’а̄н (Свод коранических норм): В 20 ч. Каир: Да̄р аш-ша‘б, 1372 х.
Куртуби 1967 — Ал-К̣урт̣убӣ. Ал-Джа̄ми‘ ли ах̣ка̄м ал-к̣ур’а̄н (Свод коранических норм). 3-е изд. Каир: Да̄р ал-кутуб, 1387/1967.
Кутб 1970 — Sayyed Kotb. Social Justice in Islam / Transl. J. B. Hardie. N. Y.: Octagon Books, 1970.
Кушайри 1989 — Ал-К̣ушайрӣ. Ар-Риса̄ла (Трактат) / Ред. ‘Абд ал-Х̣алӣм Мах̣мӯд, Мах̣мӯд б. аш-Шарӣф. Ал-К̣а̄хира, 1989.
Лебедев 2013 — Лебедев В. В. Полвека в арабистике. М.: Восточная книга, 2013.
Лихачев 2006 — Лихачев Д. С. Три основы европейской культуры и русский исторический опыт // Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006.
Лукашев 2012 — Лукашев А. А. Ибн Араби и Махмуд Шабистари: два подхода к решению проблемы соотношения единого и множественного // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 3. М.: Вост. лит., 2012. С. 252—263.
Лукашев 2014 — Лукашев А. А. Философский текст на фарси: опыт перевода отрывка из работы Али Шариати «Революционное самосовершенствование» // Ишрак: ежегодник исламской философии. № 5. М.: Вост. лит., 2014. С. 449—466.
Маварди 1990 — Ал-Ма̄вардӣ, ’Абӯ ал-Х̣асан. Ал-Ах̣ка̄м ас-султ̣а̄ниййа ва-л-вила̄йа̄т ад-дӣниййа (Нормы правления и религиозные функции). 1-е изд. Байрӯт: Да̄р ал-кита̄б ал-‘арабийй, 1990.
Мавсуа 1986 — Ал-Мавсӯ‘а ал-фик̣хиййа (Энциклопедия фикха). Изд. 2-е. Ч. 5. Кувайт: Виза̄рат ал-авк̣а̄ф ва-ш-шу’ӯн ал-исла̄миййа, 1986.
Маджалла 1880 — Ал-Маджалла, ва хийа тах̣тавӣ ‘ала̄ ал-к̣ава̄нӣн аш-шар‘иййа ва-л-ах̣ка̄м ал-‘адлиййа (Маджаллат ал-ах̣ка̄м ал-‘адлиййа) (Реестр юридических принципов). 2-е изд. Константинополь, 1880.
Малик — Муват̣т̣а’ ал-’има̄м Ма̄лик («Муватта» имама Малика) / Ред. Мух̣аммад Фу’а̄д ‘Абд ал-Ба̄к̣ӣ. Мис̣р: Да̄р их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, б. г.
Масиньон 1978 — Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов // Арабская средневековая культура и литература (Сборник статей зарубежных ученых). М.: Наука (Глав. ред. вост. лит-ры), 1978. С. 46—59.
710
Муслим — Муслим. Ас̣-С̣ах̣ӣх̣ («Сахих») / Ред. Мух̣аммад Фу’а̄д ‘Абд ал-Ба̄к̣ӣ. Байрӯт: Да̄р Их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, б. г.
Назарли 2006 — Назарли М. Д. Два мира восточной миниатюры: проблемы прагматической интерпретации сефевидской живописи. М.: Изд. центр РГГУ, 2006.
Наср 1989 — Нас̣р, Закарийа̄. Фӣ ал-‘адл ва ан-низ̣а̄м ал-иджтима̄‘ийй (О справедливости и социальном устройстве) // Ал-Мурӣдиййа ва абх̣а̄с̱ тура̄с̱иййа ух̱ра̄. Ал-К̣а̄хира: Да̄р ал-джӣл, 1989. С. 325—378.
Насыров 2009 — Насыров И. Р. Основания исламского мистицизма: генезис и эволюция. М.: Языки славянских культур, 2009.
Неретина, Огурцов 2014 — Неретина С., Огурцов А. Онтология процесса: процесс и время. М.: Голос, 2014.
Нерсесянц 1982 — Нерсесянц С. В. Правопонимание средневековых юристов // Историко-правовые исследования: проблемы и перспективы. М., 1982.
Низам ал-мулк 1407 — Низ̣а̄м ал-мулк. Сийа̄сат на̄ма ав Сийар ал-мулӯк (Книга о правлении, или жизнь владык) / Ред. Йӯсуф Х̣усайн Бакка̄р. 2-е изд. К̣ат̣ар: Да̄р ас̱-с̱ак̣а̄фа, 1407 х.
Низам ал-мульк 1949 — Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-мулька / Пер., введ. и примеч. Б. Н. Заходера. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949.
Нофал 2015 — Нӯфал Ф. Му‘аммар б. Абба̄д ас-Суламӣ ва а̄ра̄’у-ху ал-кала̄миййа ал-фалсафиййа (Мутакаллим Муаммар б. Аббад ас-Сулами и его философия). Байрӯт: Да̄р ал-Фа̄ра̄бӣ, 2015.
Рази 2000 — Ар-Ра̄зӣ, Фах̱р ад-Дӣн. Ат-Тафсӣр ал-кабӣр («Большое толкование [к Корану]»). Байрӯт: Да̄р ал-кутуб ал-‘илмиййа, 2000.
Рассел 1999 — Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Водолей, 1999.
Сагадеев 1974 — Сагадеев А. В. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского средневековья (по поводу одной типологической концепции) // Эстетика и жизнь. Вып. 3. М.: Искусство, 1974. С. 453—488.
Селхайм 1999 — Sellheim R. Al-Layth b. al-Muẓaffar // Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0. Leiden: Koninklijke Brill NV, 1999.
Сепир 1993 — Сепир Э. Грамматист и его язык // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 248—258.
Смирнов 2001 — Смирнов А. В. Логика смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2001.
Смирнов 2005 — Смирнов А. В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: Семиотика и изобразительное искусство. М.: ИФ РАН, 2005.
Смирнов 2012 — Смирнов А. В. Работа над ошибками: чем объяснить герменевтическую неудачу Т. Ибрагима? // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 3. М.: Вост. лит., 2012. С. 601—634.
Смирнов 2015 — Смирнов А. В. Классическая арабо-мусульманская мысль // История этических учений / Ред. А. А. Гусейнов. М.: Академический проект: Трикста, 2015. С. 193—290.
Солопова 2008 — Солопова М. А. Зенон Элейский // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 386—390.
Стоянов 1862 — Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Харьков, 1862.
711
Суйути — Ас-Суйӯт̣ӣ. Хам‘ ал-хава̄ми‘ фӣ шарх̣ Джам‘ ал-джава̄ми‘ (Плачу навзрыд, комментируя «Свод сводов») / Ред. ‘Абд ал-Х̣амӣд Ханда̄вӣ: В 3 т. Мис̣р: ал-Мактаба ат-тавфӣк̣иййа, б. г.
Сулами 1986 — Ас-Суламӣ. Т̣абак̣а̄т ас̣-с̣ӯфиййа (Разряды суфиев). 3-е изд. Каир: Мат̣ба‘ат ал-маданӣ, 1986.
Сухраварди 1952 — Ас-Сухравардӣ. Х̣икмат ал-ишра̄к̣(Мудрость озарения) // OEuvres philosophiques et mystiques de Shihabaddin Yahya Sohrawardi [par] Henry Corbin. Prolégomènes en français et éd. critique. Téheran: Institut franco-iranien, 1952. V. <1>
Сюкияйнен 2010 — Сюкияйнен Л. Р. Общие принципы фикха как юридическое выражение этических ценностей ислама // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 1. М.: Языки славянских культур, 2010.
Табари 1405 — Ат̣-Т̣абарӣ. Джа̄ми‘ ал-байа̄н ‘ан та’вӣл ’а̄й ал-Кур’а̄н (Свод разъяснений по вопросам комментирования аятов Корана). Байрӯт: Да̄р ал-фикр, 1405 х.
Тавхиди — Ат-Тавх̣ӣдӣ. Кита̄б ал-имта̄‘ ва ал-му’а̄наса (Книга услад и развлечений). Ч. 1. Байрӯт: б. г.
Тартуши 1994 — Ат̣-Т̣арт̣ӯшӣ, ’Абӯ Бакр Мух̣аммад. Сира̄дж ал-мулӯк (Светильник владык) / Ред. Мух̣аммад Фатх̣ӣ ’Абӯ Бакр. Ал-К̣а̄хира: ад-Да̄р ал-мис̣риийа ал-лубна̄ниййа, 1994.
Таухиди 2012 — Абу Хаййан ат-Таухиди. Книга услады и развлечения. Восьмая ночь. Диалог логика с грамматиком (в сокращении) / Пер., вступл. и примеч. Д. В. Фролова // Ишрак: Ежегодник исламской философии. № 3. М.: Вост. лит., 2012. С. 547—572.
Тафтазани 1981 — Ат-Тафта̄за̄нӣ. Шарх̣ ал-мак̣а̄с̣ид фӣ ‘илм ал-кала̄м (Разъяснение искомого в науке калама). Ба̄киста̄н: Да̄р ал-ма‘а̄риф ан-ну‘ма̄ниййа, 1981.
Таханави 1984 — Ат-Таха̄навӣ. Кашша̄ф ис̣т̣ила̄х̣а̄т ал-фунӯн (Словарь научных терминов). Т. 1—2. Стамбул: Да̄р кахрама̄н, 1984. (Репринт калькутского издания 1862 г.)
Тирмизи — Ат-Тирмиз̱ӣ. Ал-Джа̄ми‘ ас̣-С̣ах̣ӣх̣ Сунан ат-Тирмиз̱ӣ («Сунна» Тирмизи) / Ред. Ах̣мад Мух̣аммад Ша̄кир и др. Байрӯт: Да̄р их̣йа̄’ ат-тура̄с̱ ал-‘арабийй, б. г.
Ткаченко 2008 — Ткаченко Г. А. Прощание с потенциальным текстом культуры // Ткаченко Г. А. Избранные труды. Китайская космология и антропология. М.: ООО «РАО Говорящая книга», 2008. С. 78—90.
Турка 1378 — Турка Ис̣фаха̄нӣ, С̣а̄’ин ад-Дӣн. Шарх̣ Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Комментарий к «Геммам мудрости») / Ред. Мух̣син Бӣда̄рфур. К̣ум: Бӣда̄р, 1378 с. х.
Укбари 1995 — Ал-‘Укбарӣ. Ал-Луба̄б фӣ ‘илал ал-бина̄’ ва ал-и‘ра̄б (Избранное о причинах бина и ираба) / Ред. ‘Абд ал-’Ила̄х ан-Набаха̄н. 1-е изд. Димашк̣: Да̄р ал-фикр, 1995.
Федорова 2010 — Федорова Ю. Е. Переход «явное-скрытое» как механизм формирования смысла поэтического текста: беседы шейха Сан‘ана с его учениками в поэме ‘Аттара «Язык птиц» // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 469—490.
Федорова 2015 — Федорова Ю. Е. Модель «явное-скрытое» в поэтико-философском контексте: Си мург и Симург как соотношение «сложное единство — простое единство» // «Рассыпанное» и «собранное»: стратегии организации смыслового пространства в арабо-мусульманской культуре / Отв. ред. А. В. Смирнов. М.: ООО «Садра»: Языки славянской культуры, 2015. С. 139—164.
Фрагменты 1989 — Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989.
712
Фролов 2006а — Фролов Д. В. К вопросу о понятии предложения в арабской грамматике // Фролов Д. В. Арабская филология: Грамматика, стихосложение, корановедение: Ст. разных лет. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 17—33.
Фролов 2006б — Фролов Д. В. Способы определения понятий в традиционной арабской грамматике // Фролов Д. В. Арабская филология: Грамматика, стихосложение, корановедение: Ст. разных лет. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 65—94.
Фролова 2010 — Фролова Е. А. Арабская философия: Прошлое и настоящее. М.: Языки славянских культур, 2010.
Фролова 2016 — Фролова Е. А. Дискурс арабской философии. М.: ООО «Садра»: Языки славянской культуры, 2016.
Хваразми 1382 — Хва̄размӣ, Та̄дж ад-Дӣн Х̣усайн. Шарх̣ Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам (Комментарий к «Геммам мудрости») / Ред. Наджӣб Ма̄йил Харавӣ. Тахра̄н: Мавла̄, 1382 с. х.
Чалисова, Смирнов 2000 — Чалисова Н. Ю., Смирнов А. В. Подражания восточным стихотворцам: встреча русской поэзии и арабо-персидской поэтики // Сравнительная философия. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 2000. С. 245—344.
Чалисова 2010 — Чалисова Н. Ю. О непереводимом и непереведенном в газелях Хафиза // Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 385—468.
Шавкани — Аш-Шавка̄нӣ. Фатх̣ ал-к̣адӣр (Триумф Всемогущего). Т. 3. Байрӯт: Да̄р ал-фикр, б. г.
Шамилли 2007 — Шамилли Г. Б. Классическая музыка Ирана: правила познания и практики. М.: Композитор, 2007.
Шарани — Аш-Ша‘ра̄нӣ. Ат̣-Т̣абак̣а̄т ал-кубра̄ (Великие разряды). Ч. 1. Байрӯт: Да̄р ал-фикр, б. г.
Шехади 1982 — Shehadi F. Metaphysics in Islamic philosophy. Delmar (N. Y.), 1982.
Шиммель 1994 — Schimmel A. Deciphering the signs of God: a phenomenological approach to Islam. Albany: SUNY Press, © 1994.
Шиммель 2012 — Шиммель А. Мир исламского мистицизма / Пер. Н. И. Пригариной, А. С. Рапопорт. 2-е изд. М.: ООО «Садра», 2012.
Ширази 1403 — Аш-Шӣра̄зӣ, ’Абӯ Исх̣а̄к̣. Ат-Табс̣ира фӣ ’ус̣ӯл ал-фик̣х (Разъяснения по основам фикха). Димашк̣: Да̄р ал-фикр, 1403 х.
Шукуров 1999 — Шукуров Ш. М. Искусство и Тайна. М.: Алетейа, 1999.
Этика 2001 — Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2001.
713