|
Всечеловеческое vs. общечеловеческое |
| ББК | 87.152.46+71.0 |
| УДК | 124.2+008-027.21 |
| Авторский знак | С 50 |
| Автор | Смирнов Андрей Вадимович |
| Заглавие | Всечеловеческое vs. общечеловеческое |
| Гриф | Институт философии Российской академии наук |
| Рецензирование | доктор философских наук, профессор В. А. Конев, доктор исторических наук, профессор А. Л. Юрганов |
| Город | Москва |
| Издательство | ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК |
| Год | 2019 |
| Объем | 216 |
| ISBN | 978-5-907041-24-0 |
| Аннотация | В центре внимания — вопрос о логике смыслополагания, объясняющей глубинный механизм сознания и разворачивающейся в системах культуры. Предложено понимание деятельности сознания как эпистемной цепочки — условной линии наращивания сложности когнитивных актов, скрепленной исходной интуицией субъект-предикатного склеивания и имеющей по меньшей мере три значимых уровня: чувственное восприятие, обыденная речь и теоретическое мышление, включая формальное доказательство. Объяснено различие исходных интуиций для субстанциальной логики смыслополагания, развернутой в опыте европейской культуры, и процессуальной, развернутой в опыте арабо-мусульманской культуры. Поставлен вопрос о логике русской культуры. Показано, что сам по себе факт различия логик смыслополагания означает неустранимую исходную множественность разума и исключает оправданность принятия какой-либо культуры, разворачивающую только одну из возможных логик, в качестве общечеловеческой. Альтернативой выступает идея всечеловеческого. Прослежено возникновение и развитие учения о всечеловеческом в русской мысли. Системно рассмотрены концепции классического евразийства. |
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
А. В. СМИРНОВ
ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
VS.
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
 |
 |
|
ООО «САДРА» |
Издательский Дом ЯСК |
2
|
УДК ББК |
124.2+008-027.21 87.152.46+71.0 С50 |
|
|
|
|
Утверждено к печати решением Ученого совета Института философии РАН 20 декабря 2018 г. |
|
|
|
|
Издание осуществлено при поддержке Фонда исследований исламской культуры имени Ибн Сины Рецензенты: доктор философских наук, профессор В. А. Конев доктор исторических наук, профессор А. Л. Юрганов |
|
|
|
С 50 |
Смирнов А. В. Всечеловеческое vs. общечеловеческое. — М.: ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК, 2019. — 216 с. ISBN 978-5-907041-24-0 В центре внимания — вопрос о логике смыслополагания, объясняющей глубинный механизм сознания и разворачивающейся в системах культуры. Предложено понимание деятельности сознания как эпистемной цепочки — условной линии наращивания сложности когнитивных актов, скрепленной исходной интуицией субъект-предикатного склеивания и имеющей по меньшей мере три значимых уровня: чувственное восприятие, обыденная речь и теоретическое мышление, включая формальное доказательство. Объяснено различие исходных интуиций для субстанциальной логики смыслополагания, развернутой в опыте европейской культуры, и процессуальной, развернутой в опыте арабо-мусульманской культуры. Поставлен вопрос о логике русской культуры. Показано, что сам по себе факт различия логик смыслополагания означает неустранимую исходную множественность разума и исключает оправданность принятия какой-либо культуры, разворачивающую только одну из возможных логик, в качестве общечеловеческой. Альтернативой выступает идея всечеловеческого. Прослежено возникновение и развитие учения о всечеловеческом в русской мысли. Системно рассмотрены концепции классического евразийства. УДК 124.2+008-027.21 ББК 87.152.46+71.0 |
||
 |
© Фонд Ибн Сины, 2019 © А. В. Смирнов, 2019 © Институт философии РАН, 2019 © ООО «Садра», 2019 © Издательский Дом ЯСК, 2019 |
3
Оглавление
Глава 3. Процессуальная логика арабо-мусульманской культуры60
Глава 4. Странничество русской интеллигенции.
Славянофильство и западничество92
Глава 5. Н.Я. Данилевский: категория «всечеловеческое»
и концепция культурно-исторических типов116
Глава 6. Ф.М. Достоевский: «всечеловеческое»
и всемирная отзывчивость151
Глава 7. Классическое евразийство: «всечеловеческий» проект цивилизационного развития России165
4
 |

|
5
Эта книга сшивает воедино три слоя вопросов. Первый из них связан с категорией «сознание». Это — старая философская, глубинная эпистемологическая проблематика: как возможно наше сознание, как оно работает, как возникает мысль, рассуждение; что такое истина, что принимается как очевидное и не требующее доказательств. И так далее — иначе говоря, это вопросы, связанные с проблемой сознания и познания. Второй слой — вопросы, имеющие отношение к категории «культура». Что такое культура и цивилизация, сколько в мире культур и цивилизаций, изолированы они друг от друга или они общаются, есть ли между ними какие-то непроходимые перегородки или таких перегородок нет? Наконец, третий слой вопросов связан с понятием «глобализация». Каков смысл этого процесса, который разворачивается сейчас, на наших глазах? Каковы его перспективы и что он означает для мироустройства и для судеб отдельных культур?
Вопросы, относящиеся к этим трем слоям, весьма и весьма различны. Однако я постараюсь показать, что ответы на одни из них определяют подход к другим в том порядке, в котором они были названы. Иначе говоря, разные стратегии познания, или разные типы сознания, определяют типологию культур — «лицо» крупных культурных ареалов в современном мире, а сам факт наличия подобных крупных, эпистемно-определенных ареалов культур требует иного подхода к выстраиванию международных отношений, чем тот, который мы наблюдаем сейчас.
Книга написана на основе одноименного курса лекций, прочитанного 16–20 апреля 2018 г. в Школе философии Пекинского педагогического университета. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность руководству университета и Школы философии за приглашение
6
и оказанное гостеприимство. Моя особая благодарность — профессору Чжан Байчуну, знатоку русской философии и культуры, за идею и организацию этого цикла лекций и их перевод на китайский язык. Я рад возможности поблагодарить всех моих друзей и коллег из Института философии РАН и российских университетов за заинтересованное обсуждение рукописи этой книги и ценные замечания.
А. В. Смирнов
 |

|
7
Начнем с самых последних событий, свидетелями которых мы являемся. Мы знаем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, вокруг Сирии. Мы знаем, в какой ситуации находится Россия — не только сейчас, но и последние несколько лет, когда она ощущает на себе всё усиливающееся давление со стороны стран Запада.
Есть такая книга — «Охота на снарка», которую Льюис Кэрролл, замечательный английский математик, опубликовал через несколько лет после своих шедевров «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Снарк — вымышленное, никем не виденное существо, и тем не менее — существо, на которое открыта охота. Кэрролл — очень ироничный и остроумный автор. Он любил детей и писал для них. Но в его адресованных детям поэмах много иронии и не меньше мудрости. Эта история — об охоте на снарка. Снарк не существует. Однако охотники уверены, что он есть. Более того, им известны точные признаки снарка, и они знают, как его можно поймать. С этой целью они садятся на корабль. Правда, у этого корабля бушприт и руль периодически меняются местами, и корабль плывет то вперед, то назад. У капитана корабля — самая хорошая карта из всех возможных. Ведь все другие уже исписаны: на них моря, острова, проливы — совсем не осталось чистого, незаполненного места. А его карта — совершенно пустая: на ней обозначены только стороны света, а больше ничего. И, наконец, когда ветер наполняет паруса, команда не знает точно, куда именно поплывет корабль, и хотя капитан надеется, что, когда ветер западный, корабль плывет на восток, наверняка этого сказать нельзя.
И вот, на таком корабле, с таким капитаном и с такой картой они всё же приплывают в страну, где думают встретить снарка. Команда сходит на берег, и капитан говорит: Just a place for the snark «Вот здесь уж точно водится снарк!». Он говорит это один раз, повторяет второй,
8
а затем и третий: Just a place for the snark! I have said it thrice, what I tell you three times is true! «Здесь точно должен быть снарк! Я трижды это сказал. А что я трижды повторил — то и истинно!»1.
Если вдруг кто-то не читал эту завораживающую историю, наверняка прочитает. Но я заговорил о ней не для того, чтобы напомнить о замечательном английском писателе. Дело в том, что с точки зрения России сегодняшние международные отношения во многом напоминают эту ситуацию. Не случайно в последнее время российские руководители, и не только они, не раз говорили, что отношения между Россией и Западом сейчас едва ли не хуже, чем во времена холодной войны, — и с этим следует согласиться. Они определенно хуже в том отношении, что исчезла всякая возможность разговора. И с точки зрения России ситуация вокруг нее именно такая, как с капитаном этого корабля: что он сказал трижды, то и истина, и никаких доказательств не требуется. Конечно, это — российская точка зрения, так ситуация видится из России; это — не некая абсолютная точка зрения. Может быть, Россия здесь целиком неправа, а полностью права противоположная сторона. Может быть. Но главное не в этом — не в том, кто прав и кто неправ. Главное в том, что две стороны потеряли возможность разговора, они потеряли общую основу. Они больше не могут отсылать к общим ценностям, к общим представлениям — о добре, зле, об истине, т. е. о чем-то несомненном. Этой несомненной общей почвы нет — она исчезла. Сегодня государства делят на тех, кто «хорошо себя ведет» и кто «плохо себя ведет»; о правах человека, международном праве и тому подобных вещах, которые в период холодной войны были на острие идеологической борьбы Запада против СССР, сегодня вспоминают только тогда, когда это выгодно, и забывают, когда невыгодно. «Закон, что дышло» — эта старая русская поговорка как нельзя более точно описывает то, что дипломаты называют политикой двойных стандартов. И ситуация оказывается точно такой, как у Л. Кэролла: что я сказал, то и истина, и любые доказательства излишни.
Почему это происходит? Ведь во времена холодной войны противостояли две системы: социалистическая во главе с Советским Союзом — и система мирового капитализма. Было, иначе говоря, идеологическое противостояние. Эти две системы были построены
9
на как будто несовместимых принципах — западная демократия и советская политическая система. Совершенно разные общественно-политические системы. Тогда была западная рыночная, капиталистическая экономика, построенная на свободе частной собственности, на капиталистических финансах и т. д., — и была социалистическая экономика, плановая, не рыночная, где не было никакой частной собственности; частная собственность как производительная сила преследовалась в Советском Союзе. Было понятно, что в конце концов одна из этих двух несовместимых систем, ни в чем не сходящихся, должна победить другую, поскольку они не могут сосуществовать. И тем не менее именно в те времена возможность разговора и диалога между Западом и СССР, в целом социалистической системой, существовала. И диалог шел. Было хотя и минимальное, но доверие между сторонами. И было представление о каких-то общих критериях истины: что можно и чего нельзя делать. Почему же сейчас — сейчас, когда уже нет Советского Союза, в России нет коммунистической системы, в России имеется политическая система, которая копирует западную, экономика основана на рыночных принципах, и в этом смысле — в смысле принципов — не отличается от западной, сейчас, когда, казалось бы, исчезли все идеологические барьеры, которые раньше разделяли Россию и Запад, — почему же именно сейчас наблюдается такое отчуждение между этими двумя сторонами, отчуждение гораздо большее, чем во времена холодной войны?
Повторю: я не утверждаю, что Россия права в этом противостоянии с Западом. Может быть, Запад целиком прав, а Россия неправа. Важно не это. Важно, что мы видим полное отчуждение при — кажется — отсутствии каких-либо идеологических оснований. Ведь и экономически, и политически, и даже идейно Россия сейчас не выступает как оппонент Запада, не противопоставляет себя исповедуемым им принципам.
Эта ситуация ненормальная, неестественная. Казалось бы, так не должно быть. И это не только мое мнение. Не так давно министр иностранных дел России С. Лавров высказал ту же мысль. Как же так, сказал он, ведь идеологически между нами и Западом нет никакого противостояния. Почему же тогда НАТО придвигается к границам России?
Обычно это объясняют, указывая на то, что Советский Союз проиграл в холодной войне. Он распался, а значит, считают на Западе, и прежде всего в Соединенных Штатах, и Россия проиграла. Проиграв, она как побежденная сторона должна полностью принять
10
условия Запада. Но Россия этого не делает, особенно в последнее время. Вместо этого она заявляет о своей самостоятельной позиции по целому ряду принципиальных вопросов. И это касается не только Крыма, а может быть, и вовсе не его. Это касается прежде всего Сирии. Именно решение, которое Россия приняла в сирийском вопросе, было поворотным пунктом и показало, что она больше не согласна подчиняться западной политике. Хотя Крым был раньше, и именно после Крыма были наложены первые санкции, однако в вопросе Крыма в той ситуации и в тот момент позиция России не могла быть иной. Но совершенно иное дело Сирия. Здесь решение отнюдь не было очевидным. Ведь Россия не протестовала против вторжения в Ирак, против агрессии Запада против Ливии, и Россия сейчас не вмешивается в то, что происходит в Йемене. Почему же именно Сирия? Это выглядит неоправданным. И, конечно, Соединенные Штаты раздражены. Это вызывает их неудовольствие — тот факт, что Россия не уступает. Ведь США привыкли безраздельно командовать в мире, и они действительно считают, что после холодной войны для них нет никакого противовеса, никакой оппозиции. — Это всё верно, и если мы вспомним, как в 2003 году, когда США готовились напасть на Ирак и Колин Пауэлл показывал пробирку с белым порошком и говорил: вот оно, химическое оружие Саддама Хусейна, — тогда ему, прямо как капитану корабля, который плыл за снарком, поверили на слово. Поверили только потому, что он так говорил. И поверили не где-нибудь, а в Совбезе ООН. После этого была Ливия: она также была разрушена под надуманным предлогом. Всё это вписывается в общую политику США, которая называется «Большой Ближний Восток» и смысл которой заключается в том, чтобы разрушить политические режимы в тех странах, которые не встраиваются в фарватер американской внешней политики, и создать там хаос. И в самом деле: в Ираке, в Ливии, в Сирии государственность фактически разрушена. В Йемене сейчас происходят страшные вещи. Действительно, на этих огромных пространствах, где когда-то существовали устойчивые и развивающиеся политические режимы, сейчас создан хаос. И, конечно, верно, что Россия в определенный момент вдруг сказала «нет» этой американской политике и противопоставила себя ей в Сирии. Да, она сделала это вдруг. Но вопрос заключается в том, может ли весь этот комплекс причин, который обычно упоминают в качестве объяснения отчуждения между Россией и Западом, на самом деле объяснить глубину этого отчуждения? Хотя, конечно, для США важно проводить определенную линию на Ближнем Востоке,
11
как и в других частях света, всё же обострение, которое мы сейчас1 наблюдаем на Ближнем Востоке, может привести к очень плохим последствиям, вплоть до обмена ядерными ударами, — и разве такое обострение может быть вызвано столь малозначимой вещью, как временная помеха американской внешней политике на Ближнем Востоке со стороны России? Очевидная несоизмеримость явления (временная помеха со стороны России американской внешней политике) и тех последствий, к которым вызванное им столкновение может привести.
Значит, причина не только в этом. И хотя политики обычно объясняют нынешнее обострение именно так: Запад хочет полной капитуляции России, а Россия отказывается капитулировать, — это объяснение слишком легковесное. Оно остается на поверхности политических событий и не объясняет глубину кризиса и глубину отчуждения. Нужно какое-то другое, более глубокое объяснение. Нужно ведь еще объяснить, почему Россия не хочет капитулировать, почему ее не устраивает «счастливая» судьба таких стран, как Англия, Франция, Германия.
В качестве еще одного объяснения выдвигают следующее. Доллар является до сих пор преобладающей мировой валютой. Хотя существует евро, доллар всё равно господствует почти безраздельно в мировой финансовой системе. И если представить себе, чисто теоретически, что доллар вдруг завтра перестанет быть мировой валютой, то понятно, что американская экономика обанкротится. Ни одна страна мира не может позволить себе такой долг, как США, именно потому, что американская валюта является мировой. Значит, для США смертельную опасность представляют любые попытки вытеснить доллар из мировых финансов. И тогда, как говорят, понятно, почему Запад напал на Ливию и ликвидировал Каддафи — потому что Каддафи собирался ввести в Ливии золотой динар, не зависящий от доллара, с золотым обеспечением, а затем распространить эту валюту на всю Африку. И не исключено, что у него что-то и получилось бы в этом направлении.
Это всё верно, и, конечно, Россия периодически говорит о том, что надо вытеснять доллар из торгово-финансовых отношений, переходить на расчеты в национальных валютах. Но всё же будем реалистами: Россия и те страны, которые подверглись американскому нападению на Ближнем Востоке, не могут составить сколько-нибудь
12
серьезную конкуренцию и угрозу доллару, просто потому, что экономический вес несопоставим. Конечно, в целом дело идет именно к этому: сначала евро занял определенную часть мировых финансов, сейчас китайский юань начинает забирать определенную их часть, но всё же до того, чтобы доллар перестал быть мировой валютой, еще очень и очень далеко. Поэтому и это объяснение, хотя и ухватывает какие-то факты, всё же не может полностью объяснить ту глубину кризиса в российско-западных отношениях, которую мы наблюдаем.
Должна быть какая-то другая причина, более глубокая, более существенная. Да, можно указать на политическую причину: проигрыш России в холодной войне. На экономическую причину: попытки поставить под сомнение доллар как мировую валюту. Это всё верно, но это всего не объясняет.
Какие же могут быть более глубокие причины? — Культурно-цивилизационные. Причины этого порядка не лежат на поверхности, они спрятаны в глубине. Однако всё, что спрятано в глубине, что составляет сущность, определяет то, что появляется на поверхности. Именно от этого зависит в конечном счете ежедневное бурление событий.
Что такое культурно-цивилизационный пласт? Возьмем другой пример. Сейчас все говорят об «исламском терроризме». Всем известно, что такое ИГ1 и что с ним связано. Как ему противодействовать? Американская армия и ее союзники, российская армия и ее союзники, две сильнейшие армии мира в течение нескольких лет борются — против кого? Против тех, кто не имеет ни современной авиации, ни спутникового оружия, ни современных ракет. Но ведь никто не может победить ИГ, несмотря на всё это, вот уже несколько лет! И только двурушничеством США или Турции в этом вопросе дело не объясняется: эти страны поддерживают ИГ и другие подобные организации именно потому, что те имеют шансы на успех. Да, ИГ сжалось, потеряло много земель, и не раз американцы заявляли, что они их победили, русские заявляли, что они их победили — но они всё время откуда-то берутся, вновь и вновь. Почему? Что сообщает нам официальная западная позиция и официальная российская позиция (в этом вопросе они не расходятся)? Что ИГ — это варвары. Они не цивилизованные люди, и с ними разговор короткий — их надо уничтожать. И в самом деле, то, что творится на землях ИГ, не назовешь иначе, чем варварством. Это — страшные вещи. Но вопрос вот в чем: если они творят такие страшные вещи, бесчеловечное варварство, почему же
13
они до сих пор, видимо, пользуются какой-то поддержкой? Ведь кто-то или что-то их подпитывает, если эти две огромные армии не могут их победить, если сами иракцы и сирийцы не могут их победить, то как, за счет чего им удается противостоять всему этому?
С моей точки зрения, когда мы говорим о противодействии терроризму, в том числе исламскому, мы должны выделять как минимум четыре уровня. Первый — силовой (армия и спецслужбы). Второй — политический. Третий — социально-экономический. И четвертый — культурно-цивилизационный. В названном порядке это — движение от явления к сущности: от того, что на поверхности, к тому, что в глубине. Возьмем ту же Сирию. Туда входят войска — западной коалиции, российские войска, которые проводят силовые операции. Это — первый уровень. После этого включается второй уровень — переговорный процесс, который шел сначала в Женеве под эгидой западных стран, а затем в Астане усилиями трех стран — России, Турции, Ирана, вместе с Сирией, конечно. Это — второй уровень. Понятно, что одни силовые операции бессмысленны, если нет второго уровня. Иначе говоря, на первом уровне работать бессмысленно, если мы не включаем политические механизмы. Но дальше следующий, третий уровень — социально-экономический. Ведь ни первый, ни второй уровень — ни силовые, ни политические методы сами по себе не будут окончательным решением. Необходимо, чтобы сирийское правительство начало социально-экономические преобразования. Без этого всё возродится вновь. Это тоже понятно.
Но и это, с моей точки зрения, не будет окончательным и достаточным решением. Ведь социально-экономическая ситуация в Сирии до начала этих событий была достаточно хорошей, спокойной, и те, кто бывал в этой стране — а я бывал там много раз — могут это засвидетельствовать. Да, конечно, там были свои проблемы, как и везде, кто-то был недоволен. Это всё верно — но это не может объяснить того, что начало происходить потом. Почему в этой стране — современной, цивилизованной, открытой, добродушной, такой взрыв насилия — это остается непонятным.
Для того, чтобы понять, почему это произошло, как это стало возможным и почему это продолжается, нам надо обратиться к последнему, четвертому, культурно-цивилизационному уровню. И здесь нет простых и коротких объяснений — объяснений в краткой перспективе. Обычно ведь говорят так: Советский Союз вошел в Афганистан в 1979 г., и США, чтобы бороться с ним, создали аль-Каиду — так возникла эта террористическая организация. Сейчас США в Сирии
14
поддерживают террористические организации для того, чтобы сбросить режим Асада. Опять всё объяснение замыкается на втором или первом уровне — на уровне политических игр или военных операций.
Это всё, может быть, и так, всё это может быть правдой. Но не в этом, с моей точки зрения, дело. Давайте посмотрим на это несколько шире. XX век, когда арабские, исламские страны в целом освобождались от колониальной зависимости, был веком, когда все они решили примерить на себя западные цивилизационные модели. Одни из этих стран следовали по пути капитализма, другие шли по пути социалистической ориентации (когда-то эти выражения были на слуху), но в любом случае все эти модели были привнесены с Запада, это не был их собственный цивилизационный проект. И вот, начиная с 70–80-х годов прошлого века, начался процесс мощного и повсеместного роста исламского сознания (с̣ах̣ва исла̄миййа — «исламская чуткость», «исламское сознание»). Мы видим желание, проявляющее себя на уровне массовой психологии, — часто неосознанное, стихийное, но массовое — вернуться к собственным моделям жизненного устройства, вернуть исламский образ жизни. Этот процесс, набравший уже большую инерцию, невозможно объяснить ни политическими, ни социально-экономическими причинами. В его основе — причины культурно-цивилизационные.
Обратимся к истории. С момента возникновения ислама и вплоть до 20-х годов XX в. исламское политическое устройство было одним и тем же — это был халифат. Реформами Ататюрка в Турции в 1924 г. после поражения Османской империи в I мировой войне халифат был ликвидирован. А в 1925 г. увидела свет книга ‘Алӣ ‘Абд ар-Ра̄зик̣а «Ислам и основы правления»1. Это было первое теоретическое произведение в исламском мире, в котором провозглашались принципы светской организации общества в исламских странах. Не менее интересно, что ‘Абд ар-Ра̄зик̣ является представителем каирского ал-Азхара — главного университета, который готовит факихов (исламских юристов). Именно его устами было провозглашено то, что попросту непредставимо в контексте классической исламской мысли — секуляризация, светский характер общества, иначе говоря, сугубо западная
15
модель. ‘Абд ар-Ра̄зик̣ утверждал, что ни халифат, ни судейство, ни руководство возведением городов и обустройством границ государства, ни армейское командование — вообще никакие «функции правления и государственные компетенции» (ваз̣а̄’иф ал-х̣укм ва мара̄киз ад-давла) не входят в сферу исламской религии:
Она не имеет к этому никакого отношения, не признавала и не отрицала этого, не приказывала и не воспрещала заниматься этим, оставив это на наше усмотрение, дабы мы руководствовались в этом разумом, опытом народов и правилами политики1.
Сегодня эту книгу и ее автора превозносят за то, что он был первым, кто провозгласил принципы светского общества в исламе, или, как сейчас говорят, «культурного ислама», т. е. ислама, который не играет политической роли, а выполняет исключительно культурно-духовную функцию. При этом забывают, что вскоре после выхода книги ‘Абд ар-Ра̄зик̣а и в качестве своеобразного ответа на нее появилась организация «Братья-мусульмане», были опубликованы сочинения Х̣асана ал-Банна̄, ее главного идеолога, и в течение пары десятков лет вышли в свет многие другие книги, которые сегодня считаются классикой т. н. «политического ислама». С этого момента «политический ислам», т. е. использование религии в целях изменения политического устройства общества, набирает силу и мощь. И хотя организация «Братья-мусульмане» была запрещена в Египте, а ее руководители посажены в тюрьму, справиться с политическим исламом не удалось. Еще в середине XX в., да и в 70-е годы многие арабские интеллектуалы писали, что «Братья-мусульмане», исламизм, исламское сознание — всё это в прошлом; мы идем вперед, по пути цивилизации, утверждали они, а это всё осталось позади. Но жизнь доказала, что всё это не в прошлом. Исламское сознание в массовом порядке возвращается в исламские страны.
Этот период — почти сто лет, начиная с реформ Мустафы Кемаля Ататюрка в 20-е годы прошлого века и до настоящего времени — можно рассматривать как гигантский эксперимент, который был поставлен в исламском мире. Поставлен самими мусульманами. Его суть заключалась в том, что они попытались отбросить исламское наследие и полностью переключиться на западную цивилизационную
16
модель. Жизнь доказала, что этот эксперимент оказался не очень удачным, если рассматривать его результаты. Ведь несмотря на то, что в экономическом плане эти страны выиграли, и в тех, которые шли по пути капитализма или по пути социалистической ориентации, жизнь была достаточно обеспеченной (там не было массового голода, нищеты и т. п.), в культурно-цивилизационном плане эти страны, как оказалось, что-то упустили — что-то, о чем им приходится сейчас думать, как это вернуть.
Всё дело в том, что халифат как способ организации власти в исламском мире строится на том, что земное и небесное сбалансированы и служат условием друг для друга, они друг без друга не могут существовать. Такова главная идея, такова логика. Халифат — это не теократия, не священная власть, но вместе с тем это — не светская власть, такая, какая существует в западном обществе. Халифат — это особая форма, характерная именно для исламского мира, которая обеспечивает гармонию земных и небесных, мирских и религиозных интересов мусульман. Гармония — ключевое слово. Баланс и гармония. Взаимосвязанность. А идея светского ислама, или идея секуляризации ислама, т. е. копирование западного опыта эпохи Просвещения, означает как раз не гармонию. Она означает разрубание земного и небесного и устранение ислама из дел этого мира — ведь суть секуляризации заключается в том, что ислам не должен вмешиваться в земные дела и устройство власти, он должен заниматься только налаживанием духовной жизни. Это означает, что сама идея секуляризации, идея, казалось бы, бесспорная, идея «культурного ислама», состоящая в том, чтобы ислам занимался только вопросами духовности и культуры, наносит удар по этой гармоничной связанности земного и небесного. Тогда понятно, почему именно после того, как была введена эта идея «культурного ислама», т. е. идея секуляризации исламских обществ, и в качестве реакции на нее возникла и поднялась мощная волна политического ислама. Это была именно реакция на неестественное разрубание земных и небесных дел, т. е. разрушение привычного устройства общества и привычного устройства политической власти.
Мы должны предположить, что исправить эту ситуацию невозможно ни военной силой, ни политическими методами, ни даже социально-экономическими, потому что корни этой проблемы лежат глубже — они лежат в культурно-цивилизационной плоскости. Это — процесс массовый, массово-психологический. Такого рода процессы очень сложны, там, конечно же, действует огромное количество
17
факторов, и невозможно их все учесть. И всё же как вектор, как то, что задает основное направление движения, выступает желание вернуть привычные цивилизационные формы. Это и проявляется в массовом росте исламского сознания, который мы свидетельствуем в последние десятилетия в исламских странах.
Иначе говоря, эти страны нуждаются в том, чтобы вновь обрести, вернуть себе собственный цивилизационный проект — проект собственного цивилизационного устройства. И здесь возможны два пути, которые были обозначены самими арабо-мусульманскими интеллектуалами в XIX и XX вв.
Когда в XIX в. исламские страны попали в колониальную зависимость, т. е. проиграли Европе, возник вопрос: почему? что делать? И один ответ был — надо реформировать ислам. Иначе говоря, ислам — правильный, хороший проект устройства жизни, но его надо приспособить к современности. Возникло движение исламского реформаторства, развернувшееся в XIX и начале XX в. Исламские реформаторы хотели приспособить ислам к реалиям современной жизни. В том числе выдвигались и предложения возродить халифат как форму политического устройства уже после того, как Ататюрк его ликвидировал. Однако эта группа интеллектуалов осталась в меньшинстве, и в целом исламские страны пошли по пути применения западных моделей построения общества. Попытки создать общеарабское единство на светской основе, т. е. создать светский аналог идеального единого устройства исламской уммы, которые предпринимались в середине XX в. (движение ал-к̣авмиййӯн ал-‘араб «арабские националисты» с их лозунгом ’умма ‘арабиййа ва̄х̣ида з̱а̄т риса̄ла х̱а̄лида «единая арабская нация и ее вечная миссия»), также не имели успеха. В реальности победила другая точка зрения, которая заключается в том, что необходимо отбросить исламское наследие и полностью переключиться на западные модели: демократия, парламентаризм, рыночная экономика — иначе говоря, устройство общества, экономики, политики на тех же основаниях, что и в Европе.
Мы можем занимать как одну, так и другую точку зрения, тем более что обе они были высказаны самими арабо-мусульманскими интеллектуалами. Но если мы занимаем вторую точку зрения, т. е. считаем, что цивилизационный проект един для всего человечества и что так, как он реализован на Западе, — так он должен быть реализован и в других странах, тогда мы должны будем считать, что весь тот рост исламского сознания, который наблюдается в исламском мире за последние
18
полвека — это регресс, реакция, возвращение в средневековье. И тогда придется сделать вывод, что эти страны не способны подключиться к прогрессивными формам развития? Получается именно так. Но если мы занимаем первую точку зрения, тогда мы должны задуматься: а может быть, дело в том, что эти страны могут применить какой-то другой — свой цивилизационный проект, т. е. опереться на свои формы политического устройства, свои системы ценностей, свое представление о добре и зле, свое представление о предназначении человека, свои мировоззренческие системы, которые не обязательно совпадают с теми, что мы видим в Европе.
Это — две разные точки зрения, между которыми необходимо выбрать. Мы можем занять либо одну, либо другую. И в зависимости от этого будем действовать либо одним, либо другим образом. Но как выбрать? На основании чего сделать этот выбор?
Вернемся вновь к вопросу: что такое культурно-цивилизационный уровень? Если брать точку зрения, преобладающую среди западных философов, ученых, вообще в массовом сознании, то она заключается в том, что культура — это нечто дополнительное к неким общечеловеческим формам общежития. Говорят, например: наука не зависит от культуры, это — общечеловеческая форма знания. Математика, или физика, или другая наука. Или же говорят: либеральная демократия — наилучшая форма устройства общества, доказавшая на деле свою эффективность, и она должна стать общечеловеческой. Это — очень старая философская точка зрения, выраженная в европейской философии: имеется некая общечеловеческая сущность, то, что делает человека человеком и чего не может не быть, тогда как культура — это что-то дополнительное, что может быть и чего может не быть, или что может быть в самых разных необязательных формах. Используя язык философии, мы могли бы сказать так: общечеловеческая природа и есть сущность, тогда как культура — акциденция, случайный признак. Сущность — это общечеловеческое, одинаковое, не зависящее от культуры.
Но здесь возникают два вопроса. Первый: представление о некой общечеловеческой сущности подверглось в XX в. сокрушительной критике в той философской традиции, которая его и породила, т. е. в европейской философии. Идеал Просвещения, идеал мыслящего субъекта, независимого и ни от чего не зависящего в своем разуме, идеал чистого разума, вещающего от имени истины, в XIX и в XX в. был пересмотрен. Вот отдельные примеры (не исчерпывающий список, но только яркие имена). Карл Маркс показал, что желания человека, его
19
представления о добре и зле, его мораль зависят не от неких чистых принципов, а определяются его экономическим и общественным положением, и с изменением классового положения эти представления меняются. Значит, субъект не волен над ними, он теряет эту власть. Маркс отнял у субъекта эту область власти над собой, доказав, что в этом субъект не властен над самим собой, что он не субстанциален. Зигмунд Фрейд показал, что в своих чувствах, эмоциях, оценках, в выстраивании отношений с другими мы определимы не только нашим сознанием и даже не столько нашим сознанием, сколько тем, что он назвал подсознанием: травмы, вытесненное, сексуальные желания, история и так далее. А это всё — сфера того, что не подчиняется ясному сознанию и, более того, не дано ему, о чем ясное сознание в обычном своем состоянии и не подозревает. Фридрих Ницше очень хорошо выразил эту ситуацию растерянности, слома, почти на грани безумия, когда старые, прежние, рационалистические схемы больше не работают. Жан-Поль Сартр утверждает: человек — это проект, т. е. человек — это всегда некий план, обращенный в будущее, человек — это не сущность, не нечто ставшее, не бытие. Иначе говоря, у человека нет сущности, у него есть только проективность, обращенность в будущее, а это — постоянная изменчивость. И так далее — можно вспомнить и современный постмодернизм, и американский прагматизм. Всё это ведет к критике и размыванию просвещенческого идеала разума и контроля субъекта над собой, над своим сознанием, над своим поведением; к критике идеи ясной истины, некой абсолютной истины и абсолютной этики.
Это — первое, что делает проблематичным разговор об общечеловеческом. Представление о том, что у человека есть некая сущность, о которой мы можем говорить как об общей, обязательной, была в европейской философии за последние полтора века с разных точек зрения основательно подвергнута сомнению, если не разрушена. А в отсутствие сущности что может быть содержанием «общечеловеческого»?
И второе, что делает такой разговор проблематичным — это следующий вопрос: а само-то представление европейской философии о некой сущности человека или о том, что такое человек и что такое общечеловеческое, что такое идеальное общественное устройство и т. д. — само-то это представление является культурно-обусловленным, это продукт определенной культуры, или это абсолютная истина, которая провозглашается от лица самого Бога — абсолютная истина, которая не может быть подвергнута сомнению? Ведь отличительной
20
чертой европейского рационализма, по крайней мере со времен Декарта, служит критический метод. И критический разум, т. е. разум, подвергающий всё сомнению и принимающий что-то лишь после проверки всех аргументов, — этот разум и претендует на то, что способен выражать некую независимую, абсолютную истину, поскольку проверяет все аргументы и всё подвергает критике. Однако вопрос заключается в том, является ли само европейское представление о критическом разуме культурно обусловленным — или же оно свободно от всякой культурной обусловленности и может быть перенесено в любое место и время.
Иначе говоря, вопрос должен быть поставлен так: является ли рационализм, опора на разум, представление о разуме, которое мы встречаем в европейской истории, европейской философии, единственно возможным, или же типов разума, типов рациональности может быть несколько, и тогда возможны другие типы рациональности, другие разумы, а не только тот, что мы знаем по истории Европы? И здесь следует заметить, что имеется определенный дисбаланс между критикой проекта Просвещения со стороны самих западных философов, т. е. критикой именно европейского разума со стороны самой же европейской философии, с одной стороны, и, с другой стороны, отсутствием представления о возможности альтернативного разума, или даже разумов.
Известный французский китаист Франсуа Жюльен выпустил в свет книгу о, как он выразился, «стратегии смысла» в Китае и Греции1. Это — известная книга, она переведена на другие языки — английский, русский, китайский, автор получил престижную премию во Франции. Интересно, что в самом начале он говорит, что никогда не представлял, насколько необычным, не гарантированным, не само собой разумеющимся является то, что западная культура унаследовала от Греции, пока не соприкоснулся с китайской культурой, которая устроена по-другому, стоит на других основаниях. И здесь возникает вопрос: о чем говорит Ф. Жюльен? Он говорит о какой-то культурной специфике Китая, которая существует как некое дополнение к общечеловеческой сущности? Или он говорит о некой другой рациональности?
21
В XX в. не менее известный автор, Эдвард Саид, работавший в Соединенных Штатах, опубликовал свой «Ориентализм»1, наделавший много шуму. Эти две книги представляют диаметрально противоположный взгляд на то, что такое западное востоковедение, т. е. изучение Западом незападных культур. Э. Саид говорит о том, что западное востоковедение, этот самый «ориентализм», всегда находился на службе колониальных интересов европейских держав. Он утверждает, что западное востоковедение, обслуживая эти интересы, лишало восточные страны их подлинного голоса, подлинного лица, всегда представляло их в виде объекта, того, что подвергается воздействию, но не субъекта — не того, что имеет свой собственный голос. Книга Э. Саида возымела большое влияние, прежде всего в США, но и в целом в западном мире. В США даже возникло целое направление, именующее себя «постколониальные исследования (post-colonial studies)», которое ставит методологической целью устранить ошибки, совершавшиеся прежним востоковедением, и дать восточным, незападным странам, их собственный голос. Иначе говоря, не подменять собственный голос незападных стран. Но самый-то главный вопрос — тот, на который Э. Саид не отвечает: а в чем заключается этот голос? Что выражает «собственный голос» незападных стран? Это какая-то особая рациональность? Или это особое отношение к миру? Или всего лишь малозначимая, эфемерная «культурная специфика»? Что это такое — собственный голос?
Книга Э. Саида — скорее идеологическая, чем научная, и на нее был дан убедительный ответ со стороны западных востоковедов. И тем не менее она пользуется большим идейным влиянием. Кстати, интересно, что Э. Саид по рождению палестинец, но домашним языком в его семье был английский, а не арабский. Он воспитывался в семье родителей в Египте и к собственно арабскому языку и культуре прикасался лишь летом, когда его посылали в их родное поместье.
И еще один пример. Марокканский философ Мух̣аммад ‘А̄бид ал-Джа̄бирӣ (1936–2010) испытал значительное влияние французской философии, в частности, М. Фуко, что неудивительно, поскольку Марокко — франкоговорящая страна. Он написал известный четырехтомник, который называется «Критика арабского разума» (Нак̣д ал-‘ак̣л ал-‘арабийй). Ал-Джа̄бирӣ использует категорию «эпистема»
22
(низ̣а̄м ма‘рифийй), которую ввел Фуко, понимая под ней совокупность приемов получения, критики и удостоверения знания, которые определены культурой. С точки зрения ал-Джа̄бирӣ, в истории человечества существовало два типа разума: «греко-западный», как он его называет, и «арабский»1.
На этих отдельных примерах я попробовал обрисовать ситуацию вокруг проблемы «культура и рациональность». Позиция Э. Саида — идеологическая и, я бы сказал, эмоциональная. Он по сути говорит: не нужно обижать арабов и считать их людьми второго сорта. Они — такие же, как европейцы, равно как все неевропейские, или незападные, народы. Надо дать им их голос. Но в чем заключается этот голос и что значит «дать им их голос» — этого Э. Саид не говорит. Ф. Жюльен не говорит о разуме и рациональности, он говорит о «стратегиях смысла» (strategies du sens), утверждая, что смысл по-разному выстраивается в Греции и в Китае. Он приводит пример разного понимания военного искусства: в Европе со времен греков — фронтальное столкновение, победа в котором считается доблестью полководца, тогда как в Китае, напротив, это считалось поражением. И так далее — вокруг этого он строит свою книгу. Но это еще «смыслы» — это не рациональность, не разум, не логика. А вот ал-Джа̄бирӣ говорит уже о двух типах разума. Он утверждает, что есть арабский разум как особая эпистема, отличающаяся от европейской. Арабский разум возникает вместе с арабской культурой, еще доисламской, затем разворачивается в исламские времена.
Такова, говоря схематично, палитра представлений о том, как связана культура и рациональность, культура и разум. На одном полюсе — традиционное представление европейской философии о том, что разум универсален, что разум составляет сущность человека и что это — общечеловеческая черта, а культура — нечто дополнительное к этому общечеловеческому разуму. И другой полюс, представленный в данном случае ал-Джа̄бирӣ, — представление о том, что культура и разум связаны непосредственно, что культура определяет рациональность, и наоборот: рациональностью определена культура. Как разобраться в этом? Как выбрать между этими разными вариантами, которые предлагает нам современная мысль?
23
Это, с одной стороны, вопрос фундаментально-философский: эпистемология, сознание, разум — главная философская проблематика. А с другой, это — проблема, которая напрямую касается самых злободневных вопросов международных отношений, отношений между странами и крупнейшими центрами силы современного мира. Когда США в последнем варианте своей стратегии объявляют Россию и Китай ревизионистскими странами, которые хотят пересмотреть мировой порядок, что они тем самым хотят сказать? Идет ли речь только о том, что США чувствуют угрозу безраздельности своего политико-экономического господства в мире? Или также — о том, что имеет место несовпадение цивилизационных проектов, которые разворачивают разные типы рациональности? Из тех четырех уровней, о которых шла речь выше (силовой, политический, социально-экономический, культурно-цивилизационный) — на каком уровне следует это рассматривать? Это уровень культурно-цивилизационного несовпадения между Западом, Россией, Китаем, Ираном, исламским миром? Или это уровень всего лишь политического несовпадения, которое может перерасти в силовое столкновение, т. е. конфликт на первом уровне?
Думаю, что речь идет о конфликте моноцивилизационной и многоцивилизационной модели мирового устройства. Этот конфликт иначе может быть назван конфликтом общечеловеческого и всечеловеческого цивилизационного проекта.
Этот конфликт отражает основное противоречие современной эпохи, часто именуемой эпохой глобализации, — противоречие между утверждением об общечеловеческом характере цивилизационной модели, выработанной одной, локальной (европейско-американской) культурой, и множественностью векторов культурного развития, представленных историей и настоящим других локальных культур (арабо-мусульманской, индийской, китайской, российской и т. д.), выдвинувших собственные цивилизационные проекты. Поэтому современную эпоху было бы точнее назвать эпохой борьбы за глобальное продвижение одного цивилизационного проекта.
Текущий момент современной эпохи характеризуется как закат однополярного мира, в котором роль гегемона в финансово-экономическом и военном плане играли США как ведущая держава Запада, и переход к многополярному миру. Утрата абсолютной гегемонии США и Запада в целом начинает проявляться и в финансовой (резервные валюты, иные, чем доллар), и в политико-экономической (союзы, не включающие страны Запада — БРИКС, ЕврАзЭС и др.), и в геополитической области (Россия и сирийский кризис, в целом Ближний
24
Восток, крымский вопрос, позиция Китая и др.). Этот процесс далек не только от своего завершения, но даже от того, чтобы говорить о какой-то его стойкой инерции. Тем не менее данный вектор и его постепенное усиление налицо.
Основным противоречием текущего момента в этой связи становится противоречие между декларируемым проектом многополярного мира, в основе которого лежит вектор соответствующего движения в финансовой, экономической, политической, геополитической и военной областях, и отсутствием проекта многоцивилизационного мира; даже, я бы сказал, отсутствием осознания его необходимости.
Это — противоречие потому, что многополярный мир возможен как устойчивый только в качестве многоцивилизационного. Если верно утверждение сторонников продвигаемого ныне глобализационного проекта о том, что выработанное западной культурой цивилизационное устройство является безальтернативным (демократия и свободный рынок как политико-экономическое лицо этого устройства), то идея многополярности теряет свою объективную обоснованность, превращаясь в не более чем выражение локальных амбиций сомнительного толка. Что идеологическое и пропагандистское обеспечение глобализационного проекта именно так трактует на практике самостоятельные устремления, ставящие под сомнение безальтернативность этого проекта, доказывать не приходится («странами-изгоями», «империей зла» объявляются именно и только те, кто самим своим существованием ставит под сомнение неизбежность абсолютной глобализации по западному сценарию: Россия, Иран, КНДР и т. д. — список открыт). Точно так же не приходится доказывать, что внедрение «демократических стандартов» обернулось национальной катастрофой и утратой государственности в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Судане (список открыт), не говоря уже о разгуле беззакония, архаизации, многомиллионных человеческих жертвах и страданиях. Внедрение «свободного рынка» узаконило глобальную модель экономической эксплуатации периферии в пользу центра, когда весь мир вынужден обслуживать национальный долг США, относительный размер которого для любой другой страны означал бы дефолт. («Доллар — наша национальная валюта, но это ваша проблема» — Дж. Коннелли, министр финансов США, 1971 г.)
Разработка проекта многоцивилизационного мира — многоуровневая работа, в которой следует различать, как минимум, теоретическую и идеологическую составляющие. Эта работа по сути еще
25
не началась. Беззубые проекты типа «диалог цивилизаций», «альянс цивилизаций» могут рассматриваться исключительно как паллиативы в текущей политической конъюнктуре, нацеленные на частичное обуздание чьих-то претензий на гегемонию, но не как реальная разработка теории и идеологии многоцивилизационного мира. Такого рода проекты лишены главного — теоретического обоснования необходимости много-, а не моно-цивилизационного устройства.
Таким теоретическим обоснованием может выступать только положение о логике культуры и ее определяющей роли в формировании цивилизационного проекта, развиваемого данной культурой или группой культур, сопряженное с принципиальным тезисом о множественности, равноправии и взаимной несводимости этих логик.
Обладает ли сегодня философия и наука эффективной методологией, позволяющей схватить логику культуры и показать ее системообразующую роль?
Универсалистский, цивилизационный и логико-смысловой подходы задают методологические перспективы, которые имеют различный вес сами по себе и как инструменты разработки идеи многоцивилизационного мира.
Универсалистский подход имеет солидную родословную: в европейской мысли он ведет отсчет своей истории по меньшей мере с периода классической греческой философии и отчетливо связан с платоновско-аристотелевским пониманием универсальности человеческой природы, коренящейся в универсальности разума. Что касается цивилизационного подхода, то, как правило, его ясное возникновение датируют второй половиной — концом XIX в. Цивилизационный подход был развит Шпенглером, Тойнби и другими.
Универсалистский подход исходит из существенного единства человечества и рассматривает культуры и цивилизации как формы единой линии развития, относя их различия за счет специфики. Специфика никогда не может соперничать с общим, которое обладает в отношении нее приоритетом; специфика, иначе говоря, вторична в отношении универсального, общечеловеческого. Эта позиция имеет очень серьезное, существенное философское обоснование, она фундирована опытом развития западной цивилизации, у нее есть масса практических применений и приложений.
Что касается цивилизационного подхода, то он исходит из содержательно выраженных отличительных черт отдельных цивилизаций, которые делают каждую из них уникальной и несводимой ни к какой другой. Цивилизационный подход существует в разных вариантах,
26
но первичный, изначальный акцент на содержательно оформленной целостности каждой цивилизации принципиален для него. С этой точки зрения «единое человечество» и «общечеловеческие Х» (где вместо Х могут стоять «ценности», «нормы», «закономерности» и т. д.) — пустая абстракция, которая не имеет никакого отношения к действительности.
В пределе эту уникальность противники цивилизационного подхода превращают в непроницаемость: будучи уникальными целостными образованиями, своего рода монадами, цивилизации-де оказываются целиком инаковыми, непостижимыми и не имеющими смысла друг для друга, поскольку внутрь герметической целостности цивилизации невозможность попасть, оставаясь в пределах другой цивилизации — точно такой же герметической целостности. Вместе с тем такая характеристика несправедлива, поскольку сами приверженцы цивилизационного подхода, как правило, не говорят о такой герметичной закрытости и непроницаемости.
Таковы два подхода, универсалистский и цивилизационный, которые противостоят друг другу и в общей философии истории, и в конкретных исследованиях, и в идеологических построениях.
Что касается логико-смыслового подхода, то он определяет культуру как способ смыслополагания. Культура рассматривается здесь как смыслофиксирующий феномен, как осмысленность. Это, если угодно, попытка увидеть технологию осмысления, вскрыть те механизмы, которые отвечают за создание осмысленности. Существуют такие механизмы или нет? Это первый вопрос. И если они существуют, то как их схватить, как их описать? Одинаковы они или различаются в разных культурах?
Логика культуры составляет стержень, удерживающий идентичность пучка культур и встраивающий его в определенный цивилизационный проект. Формальная логика, логика языка и логика культуры образуют единый ряд, где слово «логика» имеет один и тот же смысл, одно и то же существенное содержание (логика как технология субъект-предикатного конструирования — мы будем подробно говорить об этом), реализуемый на разных уровнях индивидуального и общественного сознания. Логика культуры определяет соотношение единичного и общего как соотношение личности и общества, разворачиваются в системах права, институтах власти и т. д.
Таким образом, основанием плодотворного исследования логики незападных культур может стать методология логико-смыслового подхода, который избегает недостатков и критических уязвимостей,
27
которыми страдают два основных, конкурирующих подхода к исследованию мировой истории и истории мировой культуры — универсалистский и цивилизационный.
Традиционно-универсалистский и цивилизационный подходы всегда могут проинтерпретировать отдельные факты, отдельные моменты в изучаемой культуре (возможность такой интерпретации теоретически очевидна). Но есть и лакмусовая бумажка: возможность сплошной интерпретации.
Традиционно-универсалистский подход всегда предлагает выборочную интерпретацию, либо не оправдывая ее, как если бы она была самоочевидна, либо предлагая эпистемологические обоснования (интервальная концепция истины; асимптотическое приближение к объекту; язык как конструкт, накладываемый на объект). Проблема с такого рода теориями в том, что мы должны уже владеть предметом познания для того, чтобы применить их ради этого познания (как иначе мы определим интервал, узнаем, что приближаемся к объекту, а не удаляемся от него, т. д.): телега здесь поставлена впереди лошади.
В отличие от этого, логико-смысловой подход настаивает на возможности, более того, необходимости сплошной, а не выборочной, интерпретации культуры, поскольку всегда идет от ее материала и логики. Вот почему здесь так важен критерий больших текстов культуры, которые интерпретируются.
Те, кто практикуют цивилизационный подход, всегда берут нечто содержательно-определенное для того, чтобы охарактеризовать культуру или цивилизацию, и делают такую характеристику отличительным свойством культуры. Для Шпенглера, к примеру, это — морфология культуры. В любом случае, о чем бы мы ни говорили, какой бы пример цивилизационного подхода ни взяли, это всегда будет содержательно зафиксированные характеристики культуры.
В отличие от этого, логико-смысловой подход говорит о принципе построения содержания, но никогда не о самом содержании как об определяющем культуру. Его поэтому нельзя рассматривать как теорию эссенциалистского типа или как теорию, реифицирующую культурные различия. Конкретный тип смыслополагания, который и определяет, согласно логико-смысловому подходу, лицо культуры, — это не конкретная форма, не конкретное содержание, вообще не то, что могло бы пониматься как сущность, как вещь. Это — способ создания, порождения содержания, но не само содержание. В контексте логико-смыслового подхода речь в принципе не может идти о какой-
28
либо фиксированной, примордиальной (как любят сейчас говорить) сущности культуры, понятой как пред-заданная и навсегда-заданная, вечно существующая и потому сковывающая культуру и ее носителя.
Поскольку логико-смысловой подход говорит о принципе («механизме») создания содержания, но не о самом содержании, он неуязвим для критики, обычно направляемой в адрес цивилизационного подхода, суть которой хорошо схватывается вопросом: меняясь и сбрасывая свои формы, остается ли культура сама собой, или она обречена, цепляясь за свою самость, навсегда остаться в прошлом, фиксируя саму себя как некую уникальную целостную форму? Цивилизационный подход, привязанный к конкретному содержанию (а не к способу продуцирования содержания), обречен на то, чтобы смотреть всегда назад, в прошлое, и выталкивать культуру туда, поскольку именно там располагается схватываемая им сущность культуры. Можно сказать, что цивилизационный подход хорошо улавливает статику культуры, но не ее динамику.
В отличие от этого, логико-смысловой подход одинаково успешно справляется и с тем, и с другим, фиксируя, с одной стороны, ясный ответ на вопрос «где тот предел, за которым культура перестает быть самой собой?» (это — границы того конкретного варианта, или типа, смыслополагания, который конституирует культуру), а с другой — никогда не ограничивая себя конкретным содержательно-зафиксированным временны́м срезом культуры (любой такой срез возводится к продуцирующим его механизмам смыслополагания, но не наоборот).
Логико-смысловой подход может послужить выработке успешного и эффективного подхода к построению проекта многоцивилизационного мира. Ведь не приходится доказывать, что и свободный рынок, и демократия как основные отличительные черты западного глобализационно-цивилизационного проекта имеют глубокую культурную обоснованность и коренятся в особенностях мировидения и мироощущения, выраженных и философски-духовно зафиксированных в ходе многовекового развития греко-латино-европейской культуры. Исследование логики незападных культур в данном ключе составляет первейшую задачу теоретической разработки проекта многоцивилизационного мира.
Важнейшим ресурсом в этой работе служит концепция всечеловеческого как преодолевающая ограниченность концепции общечеловеческого. Концепция общечеловеческого предполагает моно-, а не много-, логичность культуры и объявляет логику одной, определенной локальной культуры безальтернативной и подлежащей воплощению
29
в глобальном цивилизационном проекте. Концепция всечеловеческого предполагает самоценность и нередуцируемость логик каждой из культур, составляя важнейшее обоснование многоцивилизационного проекта. Концепция всечеловеческого была развита в русской мысли XIX–XX вв.: Н. Я. Данилевский, Ф. М. Достоевский, классическое евразийство составляют основные вехи развития этой концепции. Их мы и рассмотрим в этой книге.
 |

|
30
Переходим к центральному, самому важному вопросу. Нам предстоит поговорить о глубинных эпистемологических проблемах и о том, как эпистемология связана с культурой. Мы будем рассматривать материал европейской и арабо-мусульманской культур, сравнивая эти две культуры и лежащие в их основе типы рациональности. Это даст возможность набросать общие закономерности в вопросе о том, каким образом эпистемология связана с культурой. Открытым останется вопрос, применим ли общий теоретический подход, который будет развит здесь, к другим культурам — китайской, индийской, т. д.
Два предварительных замечания. Первое. Подход, о котором я буду говорить и который я практикую, я называю логико-смысловым. Термин «логико-смысловой» (logico-meaningful) использовал Питирим Сорокин, известный социолог русского происхождения, снискавший всемирную славу в американский период своей жизни. Его основное произведение — «Социальная и культурная динамика» в четырех томах1. В ней он и развивает свой логико-смысловой подход к исследованию культур человечества. Идея П. Сорокина заключается в том, что логика как таковая, взятая как формальные законы, управляющие выводом следствий из посылок, одинакова для всех, универсальна. А содержательная часть — то, что он называет
31
«смысл» — может различаться в разных культурах. Логика у него оказывается универсальным инструментом, «обрабатывающим» разное исходное содержание, что и обусловливает различие культур, точнее, типов культур.
П. Сорокин приводит следующий пример, поясняющий суть дела. Геометрия Евклида и геометрия Лобачевского используют общую логику, т. е. общий метод математического доказательства. Однако аксиомы, из которых исходят эти две системы геометрии, различаются: у Евклида параллельные прямые не пересекаются, а у Лобачевского могут пересекаться. Таким образом, разное исходное содержание — и одинаковая логика.
Это различающееся содержание П. Сорокин называет «бо́льшая посылка»1. Большие посылки культур, говорит П. Сорокин, могут быть разными в разных культурах, тогда как логика культур одинакова. С точки зрения П. Сорокина, существуют два основных чистых логико-смысловых типа культур: «идеациональный» и «чувственный»2. Это — чистые формы. Действительные культуры представляют собой смешение, в той или иной пропорции, этих двух чистых типов. «Сбалансированный синтез» двух типов представлен «идеалистической» культурой3. «Идеациональной» была средневековая, христианская европейская культура, обращенная исключительно к небесному, чувственной — античная культура и современная западная культура. Такова типология культур П. Сорокина, полученная в результате применения логико-смыслового метода.
Таков один пример использования словосочетания «логико-смысловой». Другой известный пример — Жиль Делёз и его «Логика смысла». Вряд ли надо подробно говорить об этой известной книге. Делёз многократно обращается к наследию стоиков, которые развивали взгляд, во многом альтернативный аристотелевскому субстанциализму, говорили о событии, о текучести, о переливах, уничтожающих строгие, раз навсегда установленные границы жестких определений.
Если у П. Сорокина слово «логика» имеет строгий, классический смысл (логика как формальные законы мышления), то у Делёза логика скорее понимается расплывчато, как то, что трудно ухватить и остановить в бурлении событий. В моем употреблении термина
32
«логика смысла» логика понимается в своего рода срединном значении между этими двумя крайностями: если у П. Сорокина логика жестко определена, а у Ж. Делёза она расплывчата, то я следую принципу взаимной определенности содержания и логики. Логика как формальные законы мышления непосредственно, неотрывно связана со смысловой стороной, определима ею и определяет ее. У П. Сорокина логика совершенно не зависит от содержания: большие посылки культур, т. е. их содержательное наполнение, может меняться, а логика остается той же самой. У Ж. Делёза получается, что содержательная, событийная часть составляет центр внимания, тогда как логика как будто следует за ней. С моей же точки зрения, они взаимно определяют друг друга: ни то, ни другое не является первичным, но обе эти стороны, содержательная и логическая, взаимно определяют друг друга. И логика, и содержательность изменчивы, однако их изменчивость взаимно определена и в этом плане фиксирована. Меняя логическую сторону, мы меняем содержательную: мы имеем дело с содержательно другим миром вещей. Меняя взгляд на мир, меняя понимание вещи, мы меняем тем самым и логику обращения с этой вещью. Как именно это работает — мы вскоре увидим.
И второе предварительное замечание. Одной из часто обсуждаемых в современной философии проблем является проблема веры и знания. Она заключается в том, что все мы верим в логику, в рациональность познания, однако в основании любого доказательства всегда лежит что-то, что не доказывается, но принимается на веру. В конечном счете, таким образом, любое рациональное доказательство зависит от внерациональных, недоказываемых допущений, которые принимаются на веру. Эти посылки ничем не могут быть подтверждены — они сами свидетельствуют о своей истинности. В европейской философии такого рода принимаемые на веру посылки называются очевидностью. Очевидность — это то, о чем люди не спорят и что они принимают, не обсуждая. При этом предполагается — и это очень важно, — что такого рода очевидность обладает объективной природой, или, как сейчас говорят, интерсубъективной. Иначе говоря, такого рода очевидность может быть сообщена другому, поскольку подобные очевидные вещи очевидны для всех и для любого. Например, если каждая из двух вещей равна третьей, то они равны между собой; часть меньше целого, целое больше своей части. Важно, что очевидность обладает объективной природой: с одной стороны, она не доказывается и не может быть доказана, а с другой — она объективна постольку, поскольку интерсубъективна: она может быть сообщена
33
другому, и другой примет ее как очевидность, характеризующую закономерность мира, а не просто внутреннее убеждение.
Наряду с очевидностью, говорят об интуиции. В самом деле, есть вещи, которые мы узнаем интуитивно — иначе говоря, непосредственно, напрямую. Непосредственность — общая черта интуиции и очевидности. Не нужны никакие инструменты, никакие доказательства в силу прямого, ничем не опосредованного схватывания. Однако обычно считают, что то, что познается интуитивно, в отличие от очевидности, либо вообще не может быть сообщено другому, либо с большим трудом, и во всяком случае успех такого сообщения остается под вопросом. Ведь интуитивное субъективно. Оно оказывается не объективным, а внутренним, погруженным в человека. Например, я испытываю восхищение, когда любуюсь произведением искусства: мое восхищение, наслаждение, эстетическое чувство могут ли быть переданы другому? Как? Мы часто говорим: нет слов, чтобы описать это! Это и значит, что я не могу даже для себя описать это, не говоря уже о том, чтобы сообщить это другому. Или возьмем то, что в философии традиционно именовалось чувственным ощущением и что в современной аналитической философии сознания получило название «квалиа» (qualia). Qualia — латинский термин, который используют, чтобы обозначить то, что субъект ощущает, но что никак не может быть удостоверено объективно. Появился даже термин «философский зомби», которым обозначается полный аналог человека, никак не отличимый от него внешним образом, но который полностью лишен субъективной реальности, лишен «квалиа». Однако внешне удостоверить различие никак нельзя, поскольку мы не можем проникнуть во внутренний мир человека и узнать, обладает ли он на самом деле «квалиа» или нет, имеет ли его сознание качественное наполнение или нет, человек он или «философский зомби». В этом смысле «квалиа» могут быть сближены с интуитивным, поскольку они непосредственно схватываются субъектом, однако оказываются принципиально скрытыми и не могут быть предъявлены вовне. Например, я не могу никому и никакими способами сообщить, что значит для меня «красное» и каково то ощущение, которое я испытываю и обозначаю этим словом. Даже если я укажу на что-то «красное» и скажу: «это — красное», и при этом со мной согласятся другие, это не значит, что наши ощущения «красного» совпадут и что мы на самом деле понимаем, что каждый имеет в виду под этим словом. Это и означает, что интуитивное — напрямую, непосредственно постигаемое — оказывается скрытым от другого человека. Оно принципиально не может быть другому передано и предъявлено.
34
В этом разница между тем, что подразумевают обычно под интуицией, и тем, что подразумевают под очевидностью. Поэтому в европейской философии интуиция если и вводится в рассмотрение, то крайне редко, и обычно она не включается в цепочку выстраивания рационального знания.
При этом мы, конечно, знаем, что любой из нас обладает интуицией, то есть способностью напрямую, непосредственно узнавать и познавать, получать знания. О такого рода интуиции говорил еще Аристотель. Обычно, указывал он, человеку, чтобы понять вывод силлогизма и его неизбежность, необходимы обе посылки силлогизма, большая и меньшая, затем ему необходимо их связать, и тогда он получает вывод. Иначе говоря, обладателю обычного разума необходимо пройти по всем ступеням силлогизма, чтобы получить вывод как необходимое следование. Однако, говорит Аристотель, есть люди, наделенные «проницательностью»1, т. е. интуицией, острым умом, которые, наблюдая нечто, воспринимают это как вывод силлогизма и, далее, берут субъект и предикат этого высказывания как меньший и больший термины, постигают напрямую средний термин и на этом основании конструируют большую и меньшую посылки, получая таким образом полный силлогизм. Например, находящаяся напротив солнца луна всегда испускает свет. «Луна» будет меньшим термином, а «испускать свет» — бо́льшим. Средним термином, как подскажет «проницательность», будет «освещаться солнцем». Полный вид силлогизма таков: Всё, что освещается солнцем, испускает свет; луна освещается
35
солнцем; следовательно, луна испускает свет. Имея в своем распоряжении только вывод, «проницательный» человек конструирует, таким образом, обе посылки с тремя терминами.
Таков один пример использования категории «интуиция» в философии. Другой пример дает нам Ибн Сӣна̄ (980–1037). Он говорил, что любой человек способен интуитивно постигать свое «я». Эта способность является, утверждает Ибн Сӣна̄, общей для всех людей. Значит, у Ибн Сины интуиция, с одной стороны, своя, сугубо внутренняя для любого, поскольку для каждого человека его «я» — самое его непосредственное, внутреннее, близкое, ближе чего не бывает; самое неотъемлемое, поскольку потерять свое «я» мы не можем себе позволить ни в коем случае, даже если потеряем всё остальное. И в то же время это — совершенно общее для всех людей ощущение. Знание своего «я» (’ана̄), или «яйности» (’ана̄’иййа), должно быть одинаковым для всех людей, в отличие от знания красного цвета. Я не могу быть уверен, что мое «красное» совпадает с «красным» одного, другого, третьего, вообще кого бы то ни было, тогда как для любого человека «я» — это его «я», и это знание не различается, оно является одним и одинаковым для всех людей. Почему? Потому что «я» абсолютно просто, оно исключает какую-либо различенность, а значит, если только знание «я» имеется, оно необходимо одинаково для любого.
Интуиция у Ибн Сӣны характеризуется тем крайне важным свойством, что если человек постигает что-то интуитивно (как он постигает свое «я»), то интуицию невозможно прервать, закрыть. Если интуиция есть, она есть всегда — ее не может не быть. Отметим эту императивность интуиции — важность этого выяснится ниже. Это значит, что если вы способны что-то знать интуитивно, то уже несвободны выбирать, знать это или не знать — вы непременно это знаете. В случае чувственного познания (зрение, слух, осязание и пр.) мы можем прервать познание: закрыв глаза, мы ничего не видим; ничего не трогая, ничего не ощущаем, и так далее. Мы можем прервать чувственные ощущения, и в этом смысле мы можем прервать «квалиа», т. е. устранить «квалиа», о которых говорят аналитические философы. Однако интуицию, согласно Ибн Сӣне, прервать нельзя. Иначе говоря, если мы знаем свое «я», не может быть такого, чтобы мы когда-то его не знали, т. е. были бы о нем в неведении. И действительно, наше самосознание, т. е. осознание себя, своего «я», всегда нас сопровождает. Не бывает так, чтобы мы забыли, что мы — это мы, пока, конечно, мы в здравом уме; а если забыли, значит, это уже какое-то другое состояние. Есть, конечно, два очевидных возражения, которые можно
36
сделать против этого утверждения Ибн Сӣны. Одно — состояние сна: человек ведь не воспринимает себя, когда спит. И второе — состояние опьянения. Но именно эти два возражения Ибн Сӣна̄ специально рассматривает и говорит: да, когда спящий просыпается, а пьяный трезвеет, они не помнят, что на самом деле и в состоянии сна, и в состоянии опьянения они себя воспринимали. Таким образом, Ибн Сӣна̄ утверждает, что на самом деле спящий воспринимает свое «я» точно так же, как его воспринимает бодрствующий, и пьяный воспринимает свое «я» точно так же, как трезвый, но когда они просыпаются или трезвеют, то об этом не помнят. Забывают. Мы, конечно, скорее всего скажем, что Ибн Сӣна̄ делает слишком сильное допущение, ничем не оправданное. Но здесь важно другое. Ибн Сӣна̄ делает эту оговорку потому, что для него принципиально важно сохранить это положение: интуитивное схватывание «я» ни при каких условиях не может быть прервано. Если интуиция имеется, она не может быть закрыта, исчезнуть или прерваться.
Эту идею он развивает в нескольких своих произведениях в рассуждении, которое носит в научной литературе название «парящий человек». Ибн Сӣна̄ говорит, обращаясь к читателю: представь себе, что ты только что сотворен. Представь, далее, что ты распростерт в чистом воздухе (поэтому — «парящий человек»: он подвешен в чистом воздухе). И представь, что одни части твоего тела не касаются других его частей. Что ты в таком случае будешь знать?
Ибн Сӣна̄ предлагает читателю мысленный эксперимент. Иначе говоря, такой эксперимент, который не может быть поставлен в реальности, он возможен только в мысли. Но тем не менее это именно эксперимент, поскольку здесь проверяются — как будто бы в реальности — некоторые теоретические положения. И в этом смысле это — эксперимент, такой же, как в естественных науках.
В чем смысл вопроса, который задает Ибн Сӣна̄? Он спрашивает, что будет, если устранить все традиционно признаваемые источники познания. Он говорит: ты только что сотворен; это означает — ты ничего не помнишь, поскольку ты еще вовсе не существовал. Ибн Сӣна̄ — аристотелианец, и память для него — это хранилище форм, которыми оперирует разум. Если это хранилище пусто, значит, нет форм, которыми разум мог бы оперировать, т. е. невозможны познавательные операции. Далее, он говорит: ты распростерт в чистом воздухе. Мы сказали бы: распростерт в вакууме, но для Ибн Сӣны это невозможно, поскольку Ибн Сӣна̄, вслед за Аристотелем, не признает пустоту. Он берет ближайшее к ней — чистый воздух. Таким образом,
37
он говорит: представь, что нет никакого внешнего мира, нет вещей, и ты не можешь воспринимать их органами чувств. Это означает, что чувственное восприятие не может снабжать твой разум формами. Ведь чувства, согласно Аристотелю, отвлекают от материальных предметов формы и помещают их в разум, а дальше уже разум оперирует формами. И последнее: Ибн Сӣна̄ оговаривается, что ты не получаешь ощущений не только от внешнего мира, но и от собственного тела. Ведь твое тело — это тоже материальный предмет, поэтому ты должен представить себе, что и тела твоего для тебя не существует.
Таким образом, Ибн Сӣна̄ устраняет всякую способность знания и познания. В этих условиях, если следовать Аристотелю, мы не можем ничего знать, поскольку наше знание — это формы, которые разум получает с помощью чувств от вещей внешнего мира и затем оперирует ими самостоятельно. Однако Ибн Сӣна̄ спрашивает: что ты будешь знать? И отвечает: ты не будешь знать ничего, кроме своего «я»!
Ту способность, благодаря которой мы знаем свое «я», когда не знаем и не можем знать ничего вообще, он называет х̣адс — «интуиция». Обратим внимание: у Ибн Сӣны интуиция ни от чего не зависит, это — самостоятельный источник знания, отделенный ото всех прочих и не зависящий ни от чего. И интуиция — это такой источник знания, который не может быть заглушен: интуицию нельзя заставить замолчать, в отличие от всех других путей и способов познания, которые можно тем или иным способом «перекрыть».
Таким образом, у Ибн Сӣны свое, особое понимание интуиции. Здесь интуиция по-прежнему — внутренняя, но она становится уже почти объективной. Это — доказываемый в мысленном эксперименте источник знания «я», о котором известно каждому человеку и которым каждый человек обладает гарантированно.
Мне представляется, что аргументация Ибн Сӣны убедительна: ее трудно оспорить или опровергнуть. В самом деле, получается, что интуиция — это особая способность человеческого познания, которая имеет для человека первостепенное значение. Согласимся: если бы мы не знали свое «я», мы вовсе не могли бы существовать в этом мире как люди. Мы — люди именно потому, что сохраняем знание о тождественности своего «я», иначе было бы бессмысленным строить планы на будущее или чувствовать ответственность за прошлое. На европейском философском языке можно сказать, что это и есть чистая субъектность: чистый субъект — это то, что Ибн Сӣна̄ подразумевает под интуитивным познанием «я».
38
Такое интуитивное схватывание «я» как первый и исходный шаг любого познания отличается, конечно же, от знания, которое возможно только потом и только на основе этого первого схватывания. В этом смысле Ибн Сӣна̄ отмечает величайшей важности обстоятельство, указывая на то, что схватывание чистой субъектности возможно только как интуитивное и именно как интуитивное, и при этом такое, которого не может не быть. Всё знание, имеющее субъект-предикатную форму, имеет своим истоком это интуитивное схватывание субъектности1.
В качестве чего-то похожего можно указать вот на какой пример интуитивного схватывания, которому невозможно противиться. Когда мы слышим речь на родном или известном нам языке, мы не можем не понимать ее. Но можем ли мы объяснить, как мы понимаем эту речь? Как носитель русского языка понимает русский язык? Как носитель китайского языка понимает китайский язык? Вообще — как мы понимаем язык? Это оказывается интуитивным схватыванием: мгновенно наступающее понимание, которого не было — и вот оно, есть. Как только мы услышали слова, мы знаем, что они значат. Интуитивно, напрямую, без посредующих операций. И не можем не знать: императивность интуиции, о которой говорит Ибн Сӣна̄, сполна проявляется здесь.
Таковы два предварительных замечания — относительно логико-смыслового подхода и интуиции. Разговор об интуиции и очевидности, о том, как они относятся к рациональному познанию, затрагивает проблему веры и знания, т. е. проблему исходного, или конечного, обоснования знания. Затрагивает он и проблему связи языка и мышления. Ко всему этому комплексу вопросов мы и обратимся сейчас.
Попробуем сделать предельно ясным всё, о чем пойдет речь.
Давайте нарисуем простой рисунок — круг:
Рис. 1

39
Нарисуем другой круг, который обнимает первый:
Рис. 2
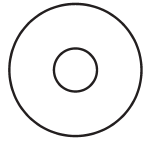
И нарисуем третий круг, еще больший:
Рис. 3

Назовем первый круг «А», второй круг «Б», третий круг «В»:
Рис. 4

40
Теперь спросим себя: что мы здесь видим?
Мы видим три круга. Мы видим, что круг «А» целиком заключен в круге «Б». Мы видим, что круг «А» целиком заключен в круге «В». Наконец, мы видим, что круг «Б» целиком заключен в круге «В».
Давайте теперь спросим: откуда мы всё это знаем? Это очевидно! Разве ответ не будет таким? Конечно, это очевидно — мы видим это воочию на Рис. 4. Другого не может быть. И если кто-то скажет, что это не очевидно, мы сразу же усомнимся в его здоровье и благоразумии. Человек в здравом уме не может этого отрицать.
Теперь зададим такой вопрос: как воспринимается Рис. 4, сразу или по частям, последовательно? Конечно же, он воспринимается сразу. Как и положено в случае интуиции — речь уже об интуиции, не об очевидности, — мы воспринимаем это изображение как целостное. То, что является целостным, интуитивно схватываемым, обычно противопоставляется тому, что развернуто, то есть является дискурсивным, имеет речевую форму, развернуто в некоторое высказывание.
Сделаем еще один шаг. Будем считать, что «А» — это «Сократ», «Б» — это «люди», «В» — это «смертные». Мы ведь имеем полное право так считать, разве нет? Если так, то мы скажем, что в этом Рис. 4 зашифрован, или же — интуитивно схватывается, всем известный силлогизм: «Все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен».
Этот силлогизм, как он только что записан, имеет речевую, развернутую форму. Он представляет собой три предложения: большая посылка, меньшая посылка, вывод. Эти три предложения следуют одно за другим именно в такой последовательности, которая не может быть нарушена. Развернутость речевой формы силлогизма непосредственно сопряжена с ясной последовательностью частей: разворачивание интуиции, представленной на Рис. 4, происходит в строгой последовательности. Это — последовательное, причем строго последовательное, разворачивание.
Однако на Рис. 4 нет никаких предложений. Здесь нет подлежащего и сказуемого. Здесь нет связки «есть», фигурирующей в посылках силлогизма и его выводе: «Все люди суть смертные», «Сократ есть человек», «Сократ есть смертный» — этой связки на Рис. 4 нет1.
41
Здесь нет следования, как когда мы говорим: «Все люди суть смертные, Сократ есть человек, следовательно, Сократ есть смертный», — этого «следовательно» здесь, на Рис. 4, также нет. Ничего этого нет — и в то же время есть. Настоящая загадка — чудо! И ведь каждый из нас способен на это чудо. Здесь, на Рис. 4, почти ничего: три кружка, каждый в другом. И мы их воспринимаем сразу, как целостность. А аристотелевский силлогизм, за которым стоит вся логика Аристотеля? Весь его «Органон»? Логика Аристотеля, которая была противопоставлена софистам, властвовавшим над умами два века до того? Логика Аристотеля, которая двадцать три века, до наступления эры современной математической логики, безраздельно господствовала в европейском мире? А что, собственно, заключает в себе эта поразительная логика Аристотеля — совершенно потрясающий инструмент, — кроме такого рода очевидностей, которые постигаются всеми нами интуитивно?
В XV в. жил кардинал Николай Кузанский (1401–1464). Он оставил ряд замечательных философских произведений. Его основная идея заключается в том, что всё то, что развернуто — то есть всё то, что имеется в форме вещей, или в форме высказываний, — всё это пребывает и в свернутости. Николай Кузанский — христианин, и для него свернутость, абсолютная точка — это Бог, как и развернутость — Бог. Он и говорит, что как абсолютный максимум, развернутость, так и абсолютный минимум, свернутость, — Бог. Но то, что говорит Николай Кузанский, — разве это не то же самое, что мы видим здесь, на Рис. 4? Ведь и здесь — свернутость: эти три круга, один в другом. Это всё свернуто, здесь ничего нет — нет слов, нет формы предложения, нет подлежащих и сказуемых. Но это само собой разворачивается в силлогизм — само собой, в нашей голове. И заметим: нам не нужно ничего дополнительного, ничего внешнего1, чтобы сказать, что эти три круга — это и есть силлогизм. Совсем как у Н. Кузанского: у него точка, изначальная свернутость, сама разворачивается во всю развернутость, и так же сама сворачивается — сама, без чего-либо внешнего. Но здесь, у нас, разворачивается и сворачивается не Бог. Мы говорим не о Боге — мы говорим о собственном мышлении. И получается, что здесь, на Рис. 4, три круга — это свернутое, интуитивно постигаемое нами. Интуиция
42
и свернутость — основа развернутого, рационального, логического рассуждения. Более того, оно и есть развернутое, строго рациональное рассуждение: в развернутом силлогизме нет ничего, чего не было бы в свернутости, на Рис. 4. Образец рациональности, аристотелевский категорический силлогизм — не более чем развернутость того, что интуитивно схватывается как свернутость.
Значит, получается, что между интуицией, с одной стороны, и рациональной дискурсивностью, с другой, нет никакого противоречия. Не только нет никакого противоречия, но, более того, они друг друга обосновывают. Потому что мы понимаем, почему и как действует силлогизм о смертности Сократа и почему он истинен, когда представляем себе картинку, как на Рис. 4. Тогда развернутые слова силлогизма как будто сворачиваются в нашем сознании в эту свернутость — в эту картинку.
Я хочу сказать, что наше сознание — я выдвигаю такую гипотезу — действует таким образом, что развернутая речь, которую мы слышим, сворачивается сознанием в такую вот точечную интуицию, которая может быть изображена графически. И наоборот, наше сознание способно пройти обратный путь: от этой интуитивной, точечной свернутости — к речевой, развернутой форме, превратить точку в речевую развернутость.
Итак, интуиция, интуитивное схватывание — это глубоко субъективное, мое, потому что эта свернутость существует только в моем сознании — больше нигде. Но я могу развернуть ее в речевой форме, сообщить другому. А другой человек поймет эту речь. Что значит «поймет»? Он совершит обратный путь: в своем сознании свернет ее в такую очевидную, интуитивно понятную форму (Рис. 4).
Тогда получается, что сворачивание-разворачивание, о котором говорил Николай Кузанский, — это то, с чем мы имеем дело всё время, когда общаемся друг с другом с помощью предложений. Процесс порождения речи и процесс понимания речи — это и есть разворачивание из свернутости и сворачивание в свернутость.
И здесь, заметим — хочу это подчеркнуть, — интуиция и рациональная способность работают в паре. Ведь развернутый силлогизм, о котором мы говорим, верен, причем верен безусловно. Всегда. Это — абсолютная истина. А почему? Мы не сомневаемся в нем и считаем его абсолютной истиной только потому, что способны свернуть речевую форму в такую картинку (Рис. 4), — а эта картинка уже интуитивно понятна нам и не требует никакого обоснования. Здесь мы видим путь, которым рациональное, развернутое, сворачивается
43
в интуицию — а интуиция как таковая не требует никакого обоснования.
Леонард Эйлер (1707–1783), швейцарский, немецкий и российский математик, изобрел то, что известно сейчас как «круги Эйлера». Рис. 1–4 — один из возможных примеров кругов Эйлера. Сейчас даже в школе с помощью этих кругов Эйлера иллюстрируют положения теории множеств. Но теория множеств появилась намного позже, чем жил Л. Эйлер: ее возникновение связано с именем Г. Кантора (1845–1918). Конечно же, сам Эйлер попросту не мог придумывать свои круги для того, чтобы иллюстрировать еще не существовавшую тогда теорию множеств. Что же он иллюстрировал с их помощью? Именно то, о чем у нас шла речь: соотношение между субъектом и предикатом в любом высказывании. Он говорил, что все положения аристотелевской силлогистики можно сделать ясными благодаря использованию этих кругов в различных соотношениях и сочетаниях.
Мы сейчас увидим это на нескольких простых примерах. Но прежде необходимо уточнить, как именно кругами Эйлера может иллюстрироваться интуиция субъект-предикатной связи.
Сравним два варианта Рис. 4 — тот, что мы рассматривали, и несколько измененный:
Рис. 5

Правый вариант на Рис. 5 отличается от левого только тем, что вместо круга «А» мы изобразили точку «А». Изменилось ли что-нибудь для нашего интуитивного схватывания этой картинки в качестве свернутой формы силлогизма? Сможем ли мы развернуть правый вариант Рис. 5 в силлогизм «все люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смертен», если присвоим «А», «Б» и «В»
44
соответствующие значения? Безусловно, можем. Два варианта одинаковы и взаимозаменимы. Они одинаково хорошо иллюстрируют интуицию, позволяющую считать абсолютно истинным подобный силлогизм.
Изменим теперь Рис. 4 таким образом:
Рис. 6

Точка внутри круга «А» — это «Сократ», любая точка внутри круга «Б» — это отдельный «человек», и любая точка внутри круга «В» — это отдельное «смертное» существо. Изменилось ли что-нибудь на Рис. 6 в сравнении с Рис. 4 с точки зрения способности служить иллюстрацией интуитивного схватывания развернутой формы силлогизма о смертности Сократа? Нет. Разве что мы можем сказать, что теперь мы ближе к развернутой, речевой форме, поскольку каждая точка на Рис. 6 символизирует субъект-носитель предиката. Это подразумевалось и на Рис. 4, но не было еще там ясно показано. Рис. 6 доводит до предела ясность иллюстрации: теперь еще лучше видно, что точка «А» (Сократ как единственный субъект-носитель предиката «сократности») принадлежит, совершенно неизбежно, кругу «Б» (Сократ как субъект является носителем предиката «человек»), и столь же неизбежно принадлежит кругу «В» (Сократ как субъект является носителем предиката «смертный»). Смертность Сократа здесь очевидна и схватывается, как говорил Аристотель, мгновенно, не нуждаясь ни в каком разворачивании. Конечно, развернуть силлогизм в речевой форме можно, но это не обязательно для того, чтобы убедиться в смертности Сократа: для этого достаточно посмотреть на Рис. 6 или Рис. 4. Не в том ли состоит «проницательность» ума, о которой говорил Аристотель как о способности схватить весь силлогизм, не проходя его ступени одну за другой?
45
Рис. 6 совершенно отчетливо дает понять, в чем заключается такая способность.
Итак, добавление точек в круги Эйлера не меняет по существу их природы как иллюстрации интуиции, лежащей в основе создания и понимания предложений естественного языка и в основе аристотелевской силлогистики, но уточняет указание на субъект-предикатную связь: круги (или иные фигуры) оказываются иллюстрациями предикатов, а точки — субъектов-их носителей. Поэтому круги Эйлера в том виде, в каком они представлены выше, на Рис. 1–4, а также ниже, на Рис. 7–9, иллюстрируют только соотношение между предикатами, но не между субъект-предикатными склейками, т. е. вещами. Это обычно не различают, когда говорят о кругах Эйлера или диаграммах Венна. Между тем это крайне существенно. На Рис. 4 «А», «Б» и «В» символизируют только предикаты. Чтобы получить высказывание в субъект-предикатной форме, надо «вбросить» точки-субъекты в эти предикатные области, как мы это сделали на Рис. 6. Тогда станет несомненным, что точка внутри круга «А» обязательно оказывается и внутри кругов «Б» и «В» — иначе не может быть, поскольку таковы свойства пространства. Так пространственная интуиция обосновывает традиционную силлогистику Аристотеля.
Имея это в виду, проиллюстрируем некоторые высказывания, которые могут служить и предложениями обыденной речи, и посылками силлогизмов. Используем круги Эйлера в их простейшем варианте, как на Рис. 4, без указания субъектов-носителей предикатов.
Пусть круги 1 и 2 находятся между собой в таком соотношении:
Рис. 7

Это значит, что «все “единицы” суть “двойки”», например, «все люди являются смертными», если 1 — это человек, а 2 — смертные.
46
Мы можем нарисовать так:
Рис. 8

Пусть 1 — предикат «пишущий», а 2 — «черный». Теперь мы можем поместить субъекты-носители этих предикатов (не будем уже иллюстрировать их точками) в любую из трех различных областей: область круга 1, которая осталась вне пересечения с кругом 2; в область круга 2, которая осталась вне пересечения с кругом 1; в область 3, образованную пересечением кругов 1 и 2.
Если точка-субъект оказывается в той области круга 1, которая осталась вне пересечения с кругом 2, то это означает, что есть такие «пишущие» предметы (есть субстанции-носители предиката «пишущий»), которые не имеют «черного» цвета (эти субстанции лишены предиката «черный»). В самом деле, бывают перья, кисточки, карандаши, ручки, фломастеры и т. п. других цветов, нежели черный. Мы не знаем, какого именно они цвета; но Рис. 8 точно сообщает нам, что не черного.
Если точка-субъект попадает в ту область круга 2, которая осталась вне пересечения с кругом 1, то это означает, что есть такие «черные» предметы, которые не являются «пишущими». В самом деле, бывают черные машины, плащи, здания и т. п., которые заведомо и наверняка лишены атрибута «пишущий».
Наконец, попадание точки-субъекта в область 3, образованную пересечением кругов 1 и 2, означает, что бывают «пишущие» «черные» предметы (субстанции, которые обладают и атрибутом «пишущий», и атрибутом «черный») — черные ручки, черные карандаши и т. д.
Предположим, теперь мы составим круги 1 и 2 так:
Рис. 9

47
Пусть 1 — это «человечность», а 2 — «каменность». Тогда никакой субъект-носитель предиката «человечность» не будет, никогда и ни при каких условиях, носителем предиката «каменность», и наоборот: «никакой человек не является камнем», «никакой камень не является человеком». В самом деле, в какой части круга 1 мы бы ни поставили точку, эта точка никогда не окажется внутри круга 2. И наоборот: никакая точка внутри круга 2 никак не может оказаться внутри круга 1. Таковы свойства пространства — и таковы свойства мира.
В общем, с помощью разных вариантов соотношения кругов Эйлера можно иллюстрировать разные типы высказываний, помещая в эти круги точки, символизирующие субъекты-носители предикатов. Как известно, Эйлер очень гордился своим изобретением. Он говорил, что с помощью этих кругов можно просто, ясно, доходчиво и понятно для всех за несколько минут рассказать всё то, что профессора философии и логики месяцами провозглашают с напыщенным видом со своих кафедр, демонстрируя всем свою ученость.
Что же открыл Эйлер? Почему он говорил, что можно очень коротко и ясно, для всех доступно изложить то, что запутанным языком и весьма пространно излагают эти профессора? Он открыл решение проблемы, над которой бьется и современная философия: как интуиция связана, и связана ли вообще, с рациональностью. Он, собственно говоря, показал, что означает свернутость-развернутость Николая Кузанского — но не в отношении онтологии (ведь Кузанец говорил о мире и Боге), а в отношении сознания.
На это потрясающее открытие Эйлера не обратили должного внимания. Конечно, Эйлера знают все, и его «круги» всем известны. Но, повторяю, их обычно используют как очевидную иллюстрацию простых положений теории множеств. Однако при этом не замечают, что здесь дано решение проблемы того, как интуитивное, свернутое становится развернутым, то есть как то, что у нас внутри, наша интуиция, наше сознание в свернутой форме — как оно может развернуться в речевую форму и стать доступным для другого.
Итак, круги Эйлера, некоторые варианты которых представлены на Рис. 1‒9, иллюстрируют интуицию, лежащую в основе аристотелевской силлогистики. Кроме этого, они выполняют еще одну важную функцию. Они показывают, что означает связка «есть» в индоевропейских языках. Иначе говоря, эти иллюстрации объясняет нам строение предложения, то есть базовую, ядерную форму предложения в индоевропейских языках, когда мы говорим «А есть Б» (или, по-английски, по-французски, по-немецки А is B, A est B, A ist B):
48
Рис. 10

Связка «есть», на каком бы языке она ни была выражена, означает одно, и только одно: «точка А — внутри круга Б». «А внутри Б», «А попало в область, очерченную Б», — мы можем использовать разные языковые средства, но все они будут означать одно — то, что указано на Рис. 10. Так разгадывается очень старая загадка, считающаяся и сегодня неразрешимой: почему подлежащее и сказуемое предложения, хотя и являются двумя разными словами с разными значениями, тем не менее передают одно, единое значение предложения? Разгадка — перед нами, на Рис. 10: в индоевропейских языках такое слияние обеспечено интуицией попадания субъекта внутрь области предиката, где он и сливается, и не сливается с ним.
В 80-х годах прошлого века развернулась дискуссия вокруг вопроса о том, что такое связка «есть» в древнегреческом, и в целом — в индоевропейских языках. Обсуждался вопрос, во всех ли языках мира имеется связка «есть». Почему вдруг возникла эта дискуссия? Из представления о том, что греческое понятие «бытие», «сущность», т. е. основа греческой и европейской метафизики, вытекает всего лишь из строения древнегреческого языка и наличия в нем связки «есть», как если бы метафизика не более чем отражала строение древнегреческого языка. Иначе говоря, получается, что вся греческая, да и европейская метафизика в ее исторической форме — некая случайность, обусловленная тем, что в древнегреческом и индоевропейских языках в целом действительно имеется отдельная связка, выраженная словом «быть», и связанное с ней понятие «бытие». Но ведь это — случайный языковой факт, характеризующий именно индоевропейские языки. И в этом смысле случайностью, которая предопределена языком, оказывалось бы то, что греческая метафизика возникла на основе понятий «бытие», «сущность». Активно обсуждались теории о том, насколько греческая и в целом европейская философия предопределена древнегреческим языком и зависит от него. Поэтому и было важно понять, действительно ли это — случайная особенность индоевропейских языков, или же связка «есть» и, соответственно, форма «S есть P»
49
(субъект есть предикат) — универсальная форма предложения и форма суждения для всех языков мира. Значит, и греческая метафизика с ее понятием сущего — является ли метафизикой универсальной, для всех времен и народов, или она строго привязана к греческим и в целом индоевропейским языковым фактам?
Это — вопрос далеко не праздный. Ведь понятие «сущность», или «субстанция», — становой хребет всей европейской философии, во всяком случае, вплоть до Канта. И если представить себе, что европейское понятие сущности всего лишь отражает случайный факт греческого языка, или индоевропейских языков в целом, то получается, что вся европейская философия — ни о чем, она попросту инспирирована языком. Нечто подобное, между прочим, говорил почти век назад замечательный британский математик и философ Б. Рассел — написавший, вместе с другим замечательным математиком и философом А. Уайтхедом, известный труд «Principia Mathematica» («Основания математики»). В этом произведении они поставили перед собой грандиозную задачу, очень амбициозную. Как писал сам Рассел, они хотели избавиться от диктата субъект-предикатной формы индоевропейских языков и того влияния, которое форма «S есть P», встроенная в индоевропейские языки, всегда оказывала на европейскую метафизику. По существу близкую к этому позицию занимал Л. Витгенштейн, автор знаменитого «Логико-философского трактата». И не случайно Рассел, который к моменту выхода в свет витгенштейновского «Трактата» был уже известным ученым, оказал покровительство и поддержку молодому австрийскому, никому еще тогда не известному автору. И, конечно, поддержка Рассела обеспечила Витгенштейну известность и успех в англоязычном мире. А Витгенштейн является по существу основателем аналитической философии — наиболее влиятельного философского направления в англо-американском мире. Таким образом, сомнение, которое выразил Рассел в оправданности формулы «S есть P», — это не случайное, маргинальное сомнение, это — один из фундаментальных фактов современной философской мысли.
Что мы должны сказать, исходя из всего вышесказанного? Если формула «S есть P» всего лишь выражает в словах, в развернутой форме то, что в свернутом виде схвачено интуицией, отраженной и изображенной на Рис. 10, то дело вовсе не в словах. Дело не в том, есть или нет в том или ином языке слово «есть». Язык можно попытаться перекодировать и ввести в него такое слово, даже если его исторически не было, или изъять его из языка, хотя успех таких попыток будет
50
зависеть от многих культурных факторов. А вот базовую интуицию, стоящую за склеиванием подлежащего и сказуемого, за силлогистикой, «ввести» таким вот образом, путем перекодирования слов языка, невозможно. И если тот или иной язык естественно использует эту формулу, это значит, что почти наверняка мышление тех, кто говорит на этом языке, оперирует (или апеллирует к) этой интуицией, сворачивая речь в эту интуитивную форму. Следовательно, дело не в том, что в греческом языке случайно или не случайно оказалась связка «есть» и что такая же связка присутствует в индоевропейских языках, включая русский. И совершенно бессмысленно спорить о том, есть ли в других языках — арабском, китайском или еще каком-то — слова, которые мы можем приравнять к слову «есть». Мало ли что к чему можно приравнять между языками. Ведь если придерживаться знаковой теории языка, то можно любому слову придать произвольное значение. Важно спорить не об этом — не о словах. Важно понять, работает ли сознание по принципу сворачивания и разворачивания с опорой на пространственную интуицию, отраженную на Рис. 10.
А как это понять? Как узнать, с опорой ли на эту интуицию строит себя та или иная культура, то или иное мышление, если мы не доверяем словам и их словарным значениям — ведь слова могут быть перекодированы?
Давайте нарисуем другую фигуру — похожую на то, что мы рисовали до сих пор, но все же другую:
Рис. 11

На Рис. 11 — иллюстрация стандартной родовидовой схемы Аристотеля. Прямоугольник «Б» — это некий род, например, род «смертные». Заметим, что внутренняя черта делит прямоугольник «Б» ровно на две части. Они могут быть равны или не равны друг другу — это не важно; важно, что деление надвое произведено без остатка. Одно большое пространство, «Б», разделено на два внутренних, исчерпывающих исходное без остатка. Это значит, что род «Б», «смертные», целиком распадается
51
на два вида: «А» — «разумные», «не-А» — «неразумные». Если вспомним элементарную логику, и в то же время метафизику Аристотеля, то «Б» — это родовой признак (материя), внутренняя черта, делящая «Б» пополам — это видовое отличие (форма), в данном случае — «разумность». Логика Аристотеля — это логика соотношения между родом и видовым отличием (материей и формой). Тогда род «смертные» + видовое отличие «разумные» = вид «человек» (смертное разумное). Таким образом, перед нами на Рис. 11 — определение сущности «человек», данное — как раньше силлогизм на Рис. 4 и 6 — в свернутом, интуитивно схватываемом виде. Этот свернутый вид мы можем развернуть в речевой форме, дав названное определение: «человек — это живое разумное существо». Для второго вида рода «смертные» мы также можем записать определение: род «смертные» + видовое отличие «не-разумные» = вид «животные» (смертные неразумные).
Мы говорим о базовых, исходных положениях аристотелевской логики. При этом мы опираемся на столь же интуитивно понятную картинку, как перед этим. Значит, и родовидовая логика Аристотеля основана на той же интуиции, на какой основано использование связки «есть» в индоевропейских языках, обеспечивающее элементарную формулу предложения «S есть P» индоевропейских языков. Это значит, что в основе и логики, и языка лежит одна и та же, общая для них интуиция.
Заметим: дело не обстоит так, что язык определяет логику или логика вытекает из языка, и не так, что логика диктует свои правила языку. Вовсе нет. И язык, и логика равно вытекают из базовой, исходной интуиции1.
И дело не только в логике. Родовидовое определение «человек есть смертное разумное» — это сущность человека, его субстанция. Таким образом, мы здесь имеем дело с ядром аристотелевской метафизики. А это значит, что та же самая интуиция обосновывает и метафизику Аристотеля — «субстанциально-атрибутивную метафизику», как вы
52
разился в свое время Рассел, т. е. метафизику, построенную на понятии субстанции как носителя атрибутов. Рассел хотел преодолеть эту субстанциально-атрибутивную метафизику, преодолеть формулу «S есть P». Для этого он изобрел сложный математический формализм логики, посредством которого пытался объяснить всю математику и всю логику. Но на самом-то деле для того, чтобы преодолеть европейскую, идущую от Аристотеля, субстанциально-атрибутивную метафизику, Расселу надо было бы избавиться от этой базовой интуиции (Рис. 6, 10, 11) — то есть от того, что обосновывает и логику, и язык, и метафизику. Однако интуиция — это то, что обосновывает развернутость, что обосновывает использование языка и развернутых логических форм. И тогда, если мы избавимся от этой интуиции, то мы, собственно, избавимся от способности говорить и мыслить… Спрашивается, как же можно от них избавиться? Не безумная ли это затея — избавиться от исходной интуиции свернутости?
В самом деле, «избавиться» от этой интуиции свернутости нельзя, не утратив всякую способность развернутого мышления и языка, т. е. не утратив разумность. Но в истории человечества есть примеры культур, примеры мышления, которые опираются на другую интуицию свернутости. Нельзя избавиться от интуиции свернутости вовсе — но можно опираться на другую интуицию свернутости. Тогда и разворачивание языка, логики, метафизики — в целом мышления пойдет другим путем.
Чтобы придать этому ясность и вместе с тем — строгость, суммируем сказанное в виде рабочей гипотезы — наброска понимания сознания.
«Сознание» — наиболее широкий термин: всё дано нам как (именно «как», а не «через») наше сознание; мы не можем выйти за пределы нашего сознания. «Внешний мир» — вера, но никогда не подтверждаемая данность. Так потому, что логически невозможно иметь «мостик» между сознанием и не-сознанием, поскольку любой «мостик» будет внутри сознания, а не вне его. Чтобы он был вне сознания и чтобы сознание могло бы на него «перейти», необходимо некое третье пространство, помимо сознания и внешнего мира, в котором этот «мостик» и был бы подвешен. (Мы переходим по мосту с одного берега на другой только и именно потому, что есть пространство помимо двух берегов, которое вмещает и нас, и берега, тем самым нас объединяя и позволяя осуществлять передвижение.) Точно так же логически невозможно из не-сознания получить
53
(вывести) сознание (как это почему-то всё еще пытаются сделать представители науки о мозге).
Сознание — это не исключительно, но прежде всего «связность». «Связность» нередко употребляется как предикат слова «сознание», однако на деле они — почти синонимы, если речь идет о человеческом сознании. «Связное сознание» и есть сознание как таковое, по преимуществу; «бессвязное» значит «бессмысленное» — такое, в котором работа осмысления не проделана. Мы говорим о «бессвязном сознании» как об отклонившемся, потерявшем свою цельность. Связность можно считать центральной характеристикой сознания, с уходом которой сознание если и не утрачивается полностью, то в решающей мере перестает быть сознанием, с которым возможно общение и со-общение.
Ядром связности, задающим многие, если не все, ее аспекты, выступает субъект-предикатная склейка. Специфически человеческая способность образовывать субъект-предикатную склейку проявляется как минимум на трех уровнях: чувственное восприятие, речь и мышление.
Чувственное восприятие — восприятие «чего-то» (субъект) как «такого-то» (предикат). Воспринимать окружающий мир как систему вещей означает практиковать способность образовывать субъект-предикатную склейку на уровне чувственного восприятия.
Несводимым минимумом речи выступает высказывание, всегда имеющее форму субъект-предикатной склейки, явной или подразумеваемой. Текст — система высказываний, тогда как слово — лишь претендент на то, чтобы войти составной частью в высказывание. Без этого слово — не более чем знак, обращение с которым доступно животным. Речь как система субъект-предикатных склеек не может быть истолкована через понятие знаковой функции, любое такое истолкование — упрощение, упускающее суть речи как проявления сознания.
Мышление, и в наиболее отчетливой форме — логическое мышление, выводит на свет субъект-предикатную связность как свое ядро и исследует ее законы, представляя их в формально-логическом виде.
Таковы три основные уровня проявления связности как субъект-предикатной склейки.
Итак, субъект-предикатное склеивание — стержень человеческого сознания, та «операция», которую оно проводит постоянно и без которой его нет. «Ясное» сознание — это всегда «склеенное» сознание; а по краям всегда остается то, что еще либо плавает до и вне такой склейки, либо проходит процедуру склеивания «в тени», интуитивно.
54
Следующее необходимое нам понятие — «эпистемная цепочка». Это — последовательность эпистемно-определенных (эпистемно-заданных) когнитивных актов, от начала, исходного пункта, до конца. Прохождение эпистемной цепочки и есть «осмысление»; «осмысленно» то, что включено в такую цепочку как ее звено. Это — цепочка, а не россыпь звеньев, потому, что есть общий стержень — субъект-предикатное склеивание, которое осуществляется в разных звеньях данной цепочки по одной и той же, определенной, «технологии». Технологий склеивания (= осмысления, = задания эпистемных цепочек) как минимум две; они определены исходными интуициями субъект-предикатного склеивания. Мы пока познакомились с одной, которую можно назвать субстанциальной и которая лежит в основании эпистемной цепочки, задающей в целом духовно-интеллектуальную сферу европейской культуры. С другой, процессуальной, нам еще предстоит познакомиться на примере арабо-мусульманской культуры. Термины «субстанциальный», «процессуальный» имеют в этом контексте не метафизический, а логический смысл: они отсылают к предикационному механизму, основанному на определенном типе задания связности. Мы выяснили, каков он для европейской культуры, начиная с греков; с процессуальным нам предстоит познакомиться в следующей главе. Субстанциальная или процессуальная метафизика, хотя и дают свое имя соответствующим базовым когнитивным механизмам обеспечения связности, сами зависят от этих механизмов, а не наоборот. В этом смысле можно также говорить о субстанциальной или процессуальной логике, отсылая не к каким-то содержательным учениям, а к ядерному механизму связности, который обеспечивает в соответствующих логических системах очевидность и доказательность.
Эпистемная цепочка начинается с простейшей интуиции субъект-предикатного склеивания; точнее, интуиции связности, в которой (связности) мы затем, когда абсолютная связность и целостность развернуты дискурсивно, уже видим как будто отдельные субъект и предикат. Но здесь, как и в случае с сознанием и не-сознанием, невозможно получить связность из бессвязного, склеить то, что было бы изначально разделено. Нет, изначально, т. е. именно в исходной интуиции, мы имеем совершенную склеенность (но не единство безразличного, что всегда было камнем преткновения для европейской философии, которая пыталась вывести Всё из начала, в котором уже есть Всё — и нет ничего), которая потом разворачивается в как-будто-разведенность субъекта и предиката.
55
Поэтому можно, наверное, сказать, что человеческое сознание не столько склеивает мир, сколько рас-клеивает то, что изначально склеено. Мы умеем делать это на всех трех обозначенных выше уровнях; животные — только на первом. Из второго они могут овладеть знаком, но не предложением, не склейкой. (Семиотика и знаковая функция проскакивают мимо субъект-предикатного склеивания как способности человеческого сознания.)
Эта цепочка когнитивных актов, от простейших, «в тени», до развернутых систем культуры, называется эпистемной, поскольку «эпистема» — это набор средств и способов, которые культура предоставляет в распоряжение своему носителю для обретения знания, его критики и усвоения. «Эпистема» — широкое и несколько размытое понятие, и включает многое, от языка до картины мира.
Деятельность нашего сознания — это всегда прохождение, осознаваемое или нет (рефлективное или нет, ясное или в тени), эпистемной цепочки в прямом (когда мы что-то даем воспринять другому, высказываем, аргументируем) или обратном (когда сами воспринимаем мир или понимаем речь или аргументацию других) направлении. Прямое — от исходной интуиции до развернутой дискурсивности на всех трех уровнях, обратное — от дискурсивности до интуиции. Когда мы ощущаем, что воспринимаемое соответствует этой исходной интуиции, что оно «разобрано» вплоть до этого исходного способа субъект-предикатного склеивания, прослежено вплоть до него, это дает нам ощущение «понятно», «правильно»; мы спокойны. Когда нет — мы пытаемся улучшить понимание, более или менее активно, в зависимости от степени нашей эпистемной чувствительности. Исходная интуиция — это «дно», или «платформа», на которой стоит всё наше связное сознание.
Итак, осмысливание — это включение воспринимаемого в привычную нам по нашему культурному и интеллектуальному опыту эпистемную цепочку. Поскольку эпистемных цепочек по меньшей мере две, то и осмысление чего угодно возможно по меньшей мере двумя путями. И для «обычного человека» оно всегда будет совершаться через включение в привычную ему эпистемную цепочку. Думаю, человеческой психикой выработаны устойчивые механизмы автоматизации этого процесса и его защиты, чтобы он не ломался — иначе сознание придется чинить на ходу, иначе мир будет всё время рассыпаться.
Сегодня можно уверенно говорить о двух вариантах обеспечения субъект-предикатной склейки. Два разных когнитивных механизма
56
обеспечивают связность чувственного восприятия, речи, мышления (категориальные системы, теоретический дискурс, формальная логика). Эти два варианта развернуты в опыте европейской и арабо-мусульманской культур. Соответствующие две логики субъект-предикатного склеивания можно, как уже говорилось, обозначить как субстанциальную и процессуальную соответственно. Это значит, что любой когнитивный акт располагается на одной из двух эпистемных цепочек, субстанциальной или процессуальной, и осмысление одной и той же ситуации зависит от того, в какую именно эпистемную цепочку будет встроена когниция.
Чем, в свою очередь, обеспечен базовый когнитивный механизм связности, т. е. субъект-предикатного склеивания? Здесь — граница, на которой исчерпывается законность философского исследования. На традиционном языке эпистемологии то, что я называю исходным когнитивным механизмом связности, или когнитивным коллективным бессознательным, именовалось многозначным термином «интуиция». В данном случае этот термин имеет тот смысл, что обозначает границу между осознаваемым и неосознанным — тем, что может быть вытянуто на свет сознания, но что перестает в таком случае быть собой, «засвечивается», как не проявленная фотопленка. То, что работает в глубине, не на свету сознания, возможно, обеспечено нейронными структурами мозга. Это предположение я выдвигаю лишь для того, чтобы указать на предел, где заканчивается философская работа и начинается другая — возможно, работа нейронауки, а может быть, какая-то иная.
Итак, кроме основанной на субстанциальности, возможна и другая, процессуально-обоснованная, эпистемная цепочка, предполагающая другую логику, другое использование языка и другую метафизику. Но прежде чем перейти к этому, закончим разворачивание исходных логических форм для субстанциальной логики. Вернемся к нашему Рис. 11 и дополним его точками — символами субъектов-носителей предикатов. Не имеет значения, сколько именно точек мы поставим — их может быть сколь угодно много или мало:
Рис. 12

57
Любая точка, находящаяся в отделении «А», находится именно там, и нигде больше. Это означает, что субъект, несущий атрибут «А», несет его, и именно его. Это — закон тождества: «А есть А». Данная формула — развернутая запись свернутой очевидности, выраженной на нашем Рис. 12 по сути так же, как на Рис. 10. Однако на Рис. 10 нас интересовал другой аспект — тождество субъекта и предиката (они были обозначены как «А» и «Б»). Здесь мы говорим лишь о неизменности предиката для любого субъекта, который им обладает. То же верно, само собой разумеется, и для противоположности: «не-А есть не-А».
Далее, очевидно, что точка, попавшая в одно из двух отделений нашего прямоугольника «Б», неважно, в «А» или в «не-А», тем самым — благодаря самому факту попадания в одно из двух отделений — не попала в другое. Это значит, что субъект, несущий данный предикат, лишен его противоположности: «А не есть не-А». Это также очевидно на Рис. 12: то, что попало в отделение «А», никак не может одновременно оказаться в отделении «не-А».
Наконец, совершенно очевидно, что любая точка попадает в одно, и только в одно отделение прямоугольника «Б». Значит, любой субъект будет обладать одним, и только одним из двух предикатов — либо предикатом «А», либо предикатом «не-А». Это — закон исключенного третьего: «Б есть либо А, либо не-А».
Не менее очевидно и другое: любая точка, если она в принципе принадлежит области «Б», не может не попасть либо в отделение «А», либо в отделение «не-А». Это значит, что если данной вещи в принципе предицируется некий родовой признак, то ей непременно должен быть приписан один из двух (или большего числа — это не важно) видовых признаков. Такова другая сторона закона исключенного третьего, которая обуславливает, в частности, неизбежность апорий типа «Стрела» в этой, субстанциальной логике.
Мы можем представить себе, что наш прямоугольник «Б» — это ящик, вполне материальный, имеющий два отделения. Пусть в отделении «А» лежат золотые монеты, а в отделении «не-А» — незолотые. Тогда мы точно знаем, что в отделении «А» мы непременно возьмем золотую монету. Мы можем брать вслепую, наугад, и никогда не ошибемся: «А есть А», закон тождества неизменно будет действовать в физическом мире. Далее, мы точно знаем, что, взяв золотую монету, мы держим в руках именно ее, а не ее противоположность — медную, серебряную или любую другую незолотую: закон противоречия, «А не есть не-А», не менее неукоснительно соблюдается в макромире,
58
и золотая монета не станет бронзовой или латунной. Наконец, предположим, что мы берем наугад какую-то монету из нашего ящика, но не знаем точно, из какого именно отделения. Она наверняка окажется либо золотой, либо незолотой: монета не может быть и тем и другим вместе или не быть ни золотой, ни незолотой. Если у нас есть монета, ни при каких условиях не может оказаться, что она не является ни золотой, ни незолотой. Если монета «есть», то есть существует, она непременно попала в пространство «Б» (см. Рис. 12, а также выше: Рис. 10 и объяснение к нему), а попав в пространство «Б», она непременно попадает в одно, и только одно из двух его отделений. Закон исключенного третьего всегда будет соблюдаться: для этого монете достаточно существовать. Если монета — это субстанция, то для нее «быть» означает обладать одним из взаимоисключающих предикатов — «золотая» либо «незолотая». «Быть» означает попадать в одно из отделений, «А» или «не-А», большого пространства «Б» на Рис. 12.
Здесь в один узел стянуты «бытие» как категория, субстанциально-атрибутивная метафизика, о которой говорит Рассел — то есть метафизика субстанции и ее атрибутов, созданная Аристотелем, — и языковая формула (и она же — форма мысли) «S есть P». Всё это связано в один узел, это не может иметься отдельно одно от другого. И самое главное: всё это обосновано всё той же интуицией — интуицией замкнутого пространства. Замкнутость пространства позволяет устанавливать отношения между внутренними отделениями этого пространства — то есть устанавливать разные комбинации пространственных отношений, как в кругах Эйлера или здесь, на Рис. 12.
Таким образом, логика Аристотеля зависит вовсе не от древнегреческого языка с его связкой «есть», она зависит от той интуиции, которая позволяет нам прочитывать свернутую картинку (Рис. 4–12) и разворачивать ее и в языковых, и в логических формах. Это — интуиция, которая делает свернутое развернутым. Действие логических законов основано на том же механизме разворачивания исходной интуиции, которая объясняет и наличие связки «есть» в индоевропейских языках. Дело не в языке и не в словах; дело в интуиции свернутости, которая обосновывает равным образом развернутость и языка, и логики.
Сколько бы мы ни экспериментировали с ящичком для золотых и прочих монет, мы никогда не столкнемся с нарушением этих закономерностей. Откуда мы это знаем? Не из опыта; индукция не может служить основанием абсолютной уверенности. Мы знаем это потому, что знаем, что опыт будет всегда следовать за нашей интуицией:
59
реальный, ощутимый, материальный ящик с металлическими, настоящими монетами ведет себя так же, как это подсказано Рис. 12, иллюстрирующим всё ту же интуицию, о которой мы ведем речь. Именно свернутость, мгновенно и непосредственно схватываемая нами, убеждает нас без тени сомнения, что три закона аристотелевской логики всегда и неизбежно будут соблюдаться.
Всё это — тривиально и очевидно. По-другому просто не может быть, не так ли? В следующей главе мы увидим, что это не так; всё это — не разумеется само собой и совершенно не тривиально. Будет самое время вспомнить о Ф. Жюльене, который говорил о том, насколько нетривиальны на деле основания греческой мысли, которые он сам всегда считал само собой разумеющимися — до тех пор, пока не столкнулся с другой культурой. И мы, столкнувшись с арабо-мусульманской культурой, увидим, что всё может быть выстроено по-другому — всё, с начала до конца. Что может быть такой язык, который не построен на связке «есть»; что отношения между субъектом и предикатом могут быть не построены на пространственном включении одного в другое. Это — такой язык и такое мышление, которые невозможно иллюстрировать кругами Эйлера: они будут там бессмысленны. Это — культура, которая использует другую логику доказательства. Всё это мы увидим на конкретных примерах.
 |
4 Глава 3. Процессуальная логика арабо-мусульманской культуры |

|
60
Вопрос, к которому мы подошли, заключается в следующем: действительно ли универсальна та исходная интуиция, которая в Европе определила и строение языков, и логику, и метафизику? Мы видели, что она универсально понятна — в том смысле, что все ее могут воспринять и осмыслить. Ведь иллюстрации предыдущей главы не нуждались ни в каких дополнительных разъяснениях, они были понятны сами собой. Но означает ли это, что не может быть другой исходной интуиции, задающей целиком другую эпистемную цепочку? Другой, но столь же универсально понятной?
Мы можем ответить либо утвердительно, либо отрицательно. Это — развилка, на которой непременно надо свернуть либо влево, либо вправо. Либо мы скажем: нет, другой не бывает; либо скажем: да, может быть. Если мы скажем: нет, другой не бывает, то пойдем по пути, который называется универсалистским, или общечеловеческим. Тогда мы будем утверждать: возможна одна, и только одна, эпистемная цепочка. Это значит, что есть единственная природа человека, единственная рациональность, единственный вариант разума. И тогда рациональность окажется единой для всего человечества, составляющей сущность человека, а культура — чем-то второстепенным: национальная одежда, национальная музыка, национальная кухня, и даже национальная литература. Или, как сейчас модно говорить, этнокостюм, этномузыка и т. д., вплоть до этнофилософии — в противопоставлении к собственно костюму, собственно музыке, собственно философии и т. п., являющимся общечеловеческими. А если мы ответим: да, т. е. скажем, что может быть другая исходная интуиция, то ситуация будет иной. Тогда мы будем иметь возможность выстроить альтернативную эпистемную цепочку, начиная с исходной точки — с базовой интуиции свернутости. И в таком случае культура — это не что-то дополнительное к общечеловеческой сущности; в таком
61
случае это то, в чем рациональность — данная, особая рациональность — будет воплощена. В таком случае культура будет отражать другую, альтернативную рациональность, и через культуру в целом мы сможем найти путь к этой другой рациональности, понять, как ее можно постичь.
Под термином «культура» я понимаю способ смыслополагания, или способ разворачивания свернутости, начиная с истока — исходной интуиции и кончая развернутыми конструкциями. Под термином «цивилизация» я понимаю культуру, воплощенную «в материале», застывшую в виде артефактов. Автомобиль — элемент цивилизации, но и продукт культуры: в нем воплощены науки, начиная с механики и кончая материаловедением, эстетика, поданная через дизайн, этика (принцип минимизации вреда, системы безопасности) и многое другое. И наука, и этика, и эстетика — сегменты культуры, разворачивающие исходную интуицию свернутости.
С моей точки зрения, правилен второй ответ на заданный выше вопрос: альтернативная интуиция возможна, альтернативная рациональность возможна, и в целом — альтернативная эпистемная цепочка возможна. На примере арабо-мусульманской культуры я покажу, как именно она возможна. Я думаю, что этими двумя типами рациональности (европейская, арабо-мусульманская1) дело не ограничивается. Думаю, что в других крупных цивилизациях могут быть открыты свои, особые типы рациональности. И тогда надо говорить не об альтернативных рациональностях, но о многообразии типов рациональности, которые выработало человечество.
Во втором случае мы должны вести речь не об общечеловеческом, а о всечеловеческом. Рациональность в таком случае не является единой для всего человечества: мы можем понять, как устроен разум другой культуры, другая рациональность, но это не значит, что
62
мы мыслим и воспринимаем мир в соответствии с ее требованиями. Тогда всечеловеческое — это собрание разных типов культур, которые разворачивают разные эпистемные цепочки и воплощают разные типы рациональности. Их нельзя привести к какому-то общему знаменателю, т. е. найти их инвариант. Это — варианты без инварианта. Это важно.
Обратимся к арабо-мусульманской культуре и посмотрим, как здесь выстраивается эпистемная цепочка, начиная с исходной интуиции. Мы должны быть готовы к тому, что встретимся с неожиданным — с тем, что устроено иначе, нежели то, к чему мы привыкли на примере европейской культуры. Это проявляется прежде всего в том, что здесь исходная интуиция, интуиция свернутости, носит непространственный характер. Ее нельзя представить в виде рисунка, наглядной иллюстрации.
Как это возможно? Обратимся к следующему примеру. Фах̱р ад-Дӣн ар-Ра̄зӣ (1149–1209) — известный ученый, представитель схоластики — педантичного школьного энциклопедического знания, систематизировавший и комментировавший классическое арабо-мусульманское наследие. Арабо-мусульманская культура центрирована на Коране как первоисточнике, поэтому неудивительно, что один из главных теоретических трудов ар-Ра̄зӣ принял форму многотомного комментария к Корану. Коран для ар-Ра̄зӣ, конечно, только повод изложить свою ученость. Встречая в кораническом тексте то или иное слово, которое его интересует, он комментирует именно это понятие, опираясь на всю традицию арабо-мусульманской учености. Арабоязычная теоретическая традиция существует по меньшей мере с VIII в., значит, ар-Ра̄зӣ опирается на весьма солидный слой теоретического знания.
Вот как он разъясняет, что такое «время» (зама̄н)1. Ар-Ра̄зӣ использует термины «безначальность» — то, у чего нет начала (’азал), и «бесконечность» — то, у чего нет конца (’абад). Безначальность и бесконечность вкупе — это и есть вечность: то, у чего
63
нет ни начала, ни конца. Эти два термина устойчиво употреблялись в арабо-мусульманской мысли, поэтому Фах̱р ад-Дӣн ар-Ра̄зӣ, опираясь на них, ничего не изобретает — он использует привычные термины. Вспомним Августина, который в «Исповеди» говорит о «всегда недвижной сияющей вечности», исключающей всякое онтологическое сцепление со временем: «В вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте»1. Вечность у него стоит над временем, она выше времени, и она, как сказал бы Гегель, снимает время. Она содержит его — но в снятом виде. Снимая время, вечность исключает протекание. Так у Августина, так в общем и целом — в европейской традиции. И это не случайно, если вспомнить августиновскую теорию двух Градов. Град земной и град небесный несоизмеримы. Земная жизнь — это время, небесный град — это вечность: вечность стоит над временем, она лучше и выше его. Однако в том понимании вечности, которое предлагает арабо-мусульманская мысль, дело обстоит не так, что мы стоим над временем, над протеканием. Термин «безначальность» ориентирует нас таким образом, что мы как будто из некоторой условной точки смотрим назад, в сторону начала, и видим, что начала нет. Чтобы увидеть «безначальность», мы должны оказаться как будто посередине вечности — в ней, внутри, чтобы узнать, что начала нет. Точно так же и «бесконечность»: чтобы говорить о том, у чего нет конца, я должен оказаться как будто в некоторой точке посередине вечности, откуда я смотрю вперед и говорю: там нет конца, там бесконечность. Так вот, у ар-Ра̄зӣ получается, что время как протекание как будто встроено в вечность именно в этой условной точке, из которой мы смотрим назад и вперед, в сторону начала и в сторону конца. Он говорит следующее:
Время — воображаемая протяженность (имтида̄д), исходящая из чрева темени мира безначальности (’азал) и идущая к темени мира бесконечности (’абад). Это как будто река, вытекающая из чрева горы безначальности и протекающая, пока не войдет в чрево горы бесконечности: неизвестно, откуда берется и где находит пристанище2.
Я не случайно подчеркнул, что Фах̱р ад-Дӣн ар-Ра̄зӣ — схоласт, то есть ученый, который очень точно, логически выверенно выстраивает
64
свой текст. Он в этом смысле похож на Фому Аквинского, который в своих «Суммах» последовательно, шаг за шагом, разбирает каждый вопрос. И не случайно Аквинат стал для католической традиции одним из отцов-основателей рационализма: всё предельно логично. Точно так же и у Фах̱р ад-Дӣна ар-Ра̄зӣ — всё очень последовательно, разложено по полочкам: одно мнение, второе мнение… десятое, одиннадцатое… всё логично, всё объяснено. И вот такой логичный, скрупулезный и тщательный — в этом смысле даже скучный — автор дает такое совершенно «нелогичное» объяснение времени. Я в данном случае говорю о себе: мои когнитивные привычки основаны на том типе интуиции, который мы разбирали в предыдущей главе, т. е. на пространственной интуиции. И когда я слышу, что время — это протекание между двумя горами, безначальностью и бесконечностью, то я, конечно, представляю это пространственно, как если бы это можно было изобразить в виде рисунка: одна гора, другая гора, и между ними — некий промежуток, занятый протеканием. Но если мы так представим дело, то получим очевидное противоречие. Ведь вечность — это что-то неразрывное. Вечность — это то, что сказывается о Боге, и только о нем: Бог вечен, больше ничто не вечно; но в Боге нет никаких разрывов! Мы же не можем сказать, что Бог существует где-то там, в горе безначальности, потом течет в виде времени (а время — это мир), а потом опять — в горе бесконечности: это бессмысленно. В самом деле, время — это всегда мир, и если бы время каким-то образом разрывало вечность на две половинки, то получилось бы, что существование мира разрывает существование Бога. Но это — полная бессмыслица.
Тогда как это понимать? Ар-Ра̄зӣ говорит, что время — это «протяженность» (имтида̄д); но эта протяженность имеет непространственный смысл. Здесь нет никакой аналогии с Декартовой протяженностью. Анри Бергсон (1859–1941) во «Введении в метафизику»1 дает объяснение, которое нам в данном случае как нельзя лучше подходит. Представьте себе, говорит он, резину, сжатую в бесконечно малую точку. Представьте, что мы начинаем ее растягивать, но при этом ее растягивание не отлагает на поверхности (т. е. в пространстве) никакой линии: растягивание этой резины не означает возникновения и увеличения пространственного промежутка. Это — очень глубокая вещь, над ней надо задуматься: мы растягиваем резину, как будто бы
65
возникает протяженность — но эта протяженность никак не отображается пространственно. Бергсон разделяет, разводит эту интуицию растягивания, т. е. действия, и пространство как результат действия: действие вообще никак не отображается в пространстве. Действие — это одно, а пространство — нечто совершенно другое: пространство не служит «вместилищем» для действия или его результатов.
В случае растягивания резины устранение пространственности из сферы нашего воображения парадоксально тем более, что растягивание, казалось бы, по самому своему смыслу означает именно увеличение пространственной протяженности. Ведь мы «растягиваем» нечто в пространстве, как же еще? «Растягивать» и значит — наращивать пространственный размер чего-то. Это если речь идет о растягивании материальных предметов, как в данном случае резины. Можно «растягивать» и в переносном смысле, например, «растягивать звуки»; можно «затягивать исполнение», можно, наконец, просто «тянуть время». Везде здесь «тянуть» и «растягивать» применительно к действиям и к самому времени мыслится с опорой на неизбежную пространственную метафоризацию. Это показывает фундаментальную роль пространственности в смыслополагании для европейского мышления: осмысление этих вовсе не пространственных предметов возможно только через и только благодаря приданию им смысла пространственности. Это же показывает, почему столь парадоксальным предстает для нас требование Бергсона отвлечься от пространственности: это равнозначно предложению отвлечься от способа осмысления, к которому мы привыкли. Вот почему за этими словами Бергсона и за этими его требованиями нам чудится бессмыслица: там перестает действовать столь привычный механизм придания смысла. Поэтому требование Бергсона чрезвычайно глубоко: по сути он хочет, чтобы мы воздержались от привычного, бессознательно применяемого способа придания смысла словам, привычного способа смыслополагания.
Далее, это действие растягивания воображаемой резины, говорит Бергсон, безостановочно: начавшись, оно длится, не прерываясь; а если в него привходит какая-то остановка, получаются два действия вместо одного. Действие, длясь, то есть протекая, не дает, таким образом, никакой пространственной протяженности: оно изъято из пространства. Бергсон принципиально разделяет то, что обычно слипается в европейском сознании: он разделяет действие, т. е. протекание, и пространственное отображение — протяженность. Европейское сознание обычно слепляет их в силу своей известной склонности
66
к геометризации времени, основа которой — пространственность (пространственная интуиция) как исток смыслополагания.
Итак, Фах̱р ад-Дӣн ар-Ра̄зӣ, Анри Бергсон… это всё — факты из истории мысли. Но что всё это значит? Надо ведь дать этому какое-то простое объяснение: если речь идет о базовой, исходной интуиции, она не может выглядеть как загадка. Круги Эйлера или пространственное изображение родовидового соотношения — вещи очень простые и понятные. Здесь же пока всё представляется запутанным, непонятным: непросто взять в толк, о чем идет речь. Непросто именно потому, что, как я говорил, мы привыкли «брать в толк», разворачивая исходную интуицию смыслополагания, которая в случае европейского мышления носит характер пространственности. Если нам надо устранить пространственность в самом начале, в истоке смыслополагания, в начале эпистемной цепочки, мы, вполне естественно, встаем в тупик, не можем придать этому смысл.
Как же это объяснить, как подобраться к исходной интуиции протекания, лишенной пространственного характера? Попробуем осмыслить это через три понятия: действующее (источник действия, то, откуда действие проистекает — как первая гора у ар-Ра̄зӣ); само действие, или протекание (река в примере ар-Ра̄зӣ); восприемлющее (то, что воспринимает это действие-протекание — вторая гора в примере ар-Ра̄зӣ). Или же так: читатель сейчас читает эти слова. Значит, есть источник действия — глаза, прочитывающие слова, источник действия «чтение». Это — телесный орган. Далее, имеется то, что воспринимает это действие — читаемые (прочтенные) слова. Они также представляют собой некий физический предмет — чернила или краска на бумаге. Но между ними — совсем как река в примере ар-Ра̄зӣ, — между читающими глазами и читаемыми словами, стоит действие «чтение». А можем ли мы увидеть или как-то иначе воспринять «чтение» — само действие, в отличие от того, что читает, и того, что прочитывается? Нет, мы не можем его увидеть, пощупать руками. Но можем ли мы сказать, что его нет — что действие «чтение» не совершается? Это было бы странным, если не сказать бессмысленным: есть читающие глаза, прочитываемые слова, а самого действия «чтение» нет? Как это может быть? Но мы не видим и никак иначе не воспринимаем это действие — равно как любое другое. Мы всегда видим либо действующее, либо претерпевающее, но не само действие1. Однако мы о нем знаем — что
67
оно имеется, что оно протекает, и знаем это абсолютно точно. Точно так же, как в аристотелевской логике, если у нас есть два вида, скажем, «черное» и «нечерное» — и объединяющий их род «цвет». Мы видим черный цвет или иной, нечерный цвет, но не цвет как родовое понятие (он должен был бы быть бесцветным цветом, чтобы оказаться родовым понятием для любого цвета — но бесцветный цвет невозможно увидеть). Как нельзя увидеть объединяющее в родовидовой логике (то, что объединяет два вида: мы можем увидеть только представителей видов, но не род как таковой), — точно так же и здесь, в нашем примере, мы не можем увидеть само действие. Мы видим действующее и претерпевающее — две противоположности, однако действие, которое их объединяет (ведь действие объединяет эти противоположности, соединяя их, делая чем-то одним) — само это действие мы не видим.
Значит, есть параллель между тем, о чем мы говорим сейчас, и тем, что мы разбирали во второй главе. Мы можем видеть субстанции, которые представляют виды, но не видим род, он не представлен никакой субстанцией, — однако он существует, поскольку родовое имеет приоритет над видовым, и без рода нет вида. Точно так же и здесь: это протекание, действие, — между действующим и претерпевающим (оно между ними, связывает их); но мы его не видим, оно не занимает никакого реального пространственного промежутка. Если совершается действие, то действующее и претерпевающее всегда соединены, они связаны — связаны самим действием. Связывая, это действие не разрывает, не разделяет их: оказываясь между ними, оно остается невидимым и как будто отсутствующим, во всяком случае, для нашего восприятия. С этой точки зрения пример ар-Ра̄зӣ — две горы и протекание между ними, — не имея пространственного значения (он не должен трактоваться пространственно), не является в силу этого противоречивым.
Это касается исходной интуиции, которая задает всю эпистемную цепочку, которую я называю интуицией протекания, или интуицией действия, интуицией процессуальности, и которая не является пространственной, не имеет в принципе пространственного представления. Здесь исходной реальностью, т. е. тем, что обладает статусом действительности, выступает действие. Действие оказывается
68
первичным, и на него в первую очередь обращено внимание. Не субстанция — а действие.
Что значит «объяснить мир» для греческой философии? Это значит свести многообразие явлений, эту постоянную текучесть вокруг нас, где каждое всё время, всякий миг — уже другое, к неизменным сущностям. В протекании времени вокруг нас нужно уловить субстанциальность, неподверженность времени — то, что пребывает в вечности, над временем. Надо, иначе говоря, устранить протекание. И вот тогда, если мы объясним все явления через сущность, мы объясним мир. А для арабского взгляда объяснить мир — значит объяснить его как результат действия некоторого действователя. Объяснить мир — значит свести всё многообразие того, что в нем встречается, к тройственной структуре: действователь, претерпевающее и действие, которое их связывает. Зафиксировать протекание действия между действующим и претерпевающим, накрепко связать этим протекание и так сделать то, что грекам представлялось невозможным: овладеть протеканием, сделать его закономерным, поставить его перед собой, перед своим взглядом, сделать его предметом теории.
Эта направленность взгляда проявляется и в языке, и в логике. Мы проследим это так же, как делали это в предыдущей главе для субстанциальной эпистемной цепочки, для европейской культуры.
Возьмем классический арабский язык. Нам будет нетрудно говорить о нем, потому что он описан во всех подробностях самими классическими арабскими языковедами. Я не араб, арабский язык для меня — не родной, у меня нет интуиции этого языка. Но мне и не надо ничего изобретать, не надо говорить, что я думаю об арабском языке — я должен говорить о том, что о нем думает сама арабская языковедческая традиция (АЯТ).
Как мы говорили, в интуиции протекания, или интуиции действия, нет ни следа пространственности. Здесь субъект-предикатная склейка осуществляется не за счет включения субъекта в пространство предиката, т. е. не за счет той когнитивной операции, на которой стоит и европейская логика, и индоевропейские языки, использующие связку «есть» в ядерной формуле предложения «S есть P». Мы сказали, что значение связки «есть» — не слово в словаре, ее значение — интуиция пространственного включения. Если арабское мышление, арабское мировоззрение основано не на этой пространственной интуиции, то мы можем ожидать, что в арабском языке отсутствует связка «есть». Арабский язык склеивает подлежащее и сказуемое не путем пространственного включения первого во второе, а иначе.
69
Как же? Мы видели, как именно, на примере образа двух гор и реки, который дает нам ар-Ра̄зӣ. Здесь получается, что протекание времени (река между двумя горами) как будто бы склеивает две половинки вечности — безначальность и бесконечность. Ведь вечность неразрывна, вечность — нечто одно, не состоящее из двух половинок; и тем не менее она склеена этим протеканием. И точно так же в арабской фразе субъект и предикат, подлежащее и сказуемое склеены, соединены в нечто одно не на основе пространственной интуиции, а с помощью процесса протекания между ними. Это протекание, это действие, этот процесс, который склеивает подлежащее и сказуемое, АЯТ называет словом исна̄д — «опирание».
Представим себе, что что-то опирается на что-то, например, перекрытие (потолок) на колонну. Что у нас здесь? Колонна и потолок, как два слова — подлежащее и сказуемое. Но вместе с тем у нас — единая конструкция, навес или дом. Эта конструкция едина именно за счет опирания как процесса, который связывает одно и другое. Точно так же и арабское предложение передает некое единое значение. Ведь и в европейской, и в арабской языковой теории признается, что смысл предложения — это нечто единое. Смысл предложения — это не просто смыслы подлежащего и сказуемого, которые поставлены рядом. Нет. Смысл предложения — нечто единое; а как это единое значение образуется — это большой вопрос и для европейской, и для арабской теории языка и философии.
В арабском языке, как и в европейских языках, имеются фразы — конструкции из подлежащего и сказуемого. Но европейское языкознание рассматривает предложение как некую законченную конструкцию, у которой есть начало и конец. Иначе говоря, у которой есть внешние границы. Значение предложения замыкается в неких внешних границах предложения — они фиксированы, и предложение не выходит за обозначенные ими пределы. Предложение как целое имеет внешние границы — та же самая интуиция ограниченного со всех сторон пространства. В арабском языкознании, строго говоря, нет термина, который был бы равен европейскому понятию предложения. Здесь есть понятие джумла — букв. ‘совокупность’. «Совокупность» образована связанностью субъекта и предиката. Однако эта связанность не имеет внешних границ. Вспомним ар-Ра̄зӣ: у него протекание совершается между безначальностью и бесконечностью. Там внешних границ нет: связанность здесь, в середине, между ними. Точно так же в арабской речи джумла-совокупность не имеет внешних, фиксированных границ. Предложение завязывается, как узелок:
70
субъект с предикатом связаны, это — центр предложения; и дальше эта совокупность-джумла может сцепляться с другими такими же узелками, с другими джумла-совокупностями субъект-предикатных связок. В хорошей арабской речи (родной, не выученной) весь текст и есть предложение. В этом, конечно, есть преувеличение, но не большое. Внутри текста мы, безусловно, различим отдельные совокупности-джумла, т. е. связки субъекта и предиката, но они не задают внешних границ — они сцепляются одна с другой. Таким образом, организация родной, хорошей арабской речи отличается от европейской. И когда русские студенты учат арабский язык, они, конечно же, имитируют средствами арабского языка русское предложение, в котором есть внешние границы. Это — не грамматическая ошибка, так можно говорить, но это нарушает собственные привычки арабского языка. Всегда можно отличить речь, скроенную арабскими языковыми средствами на европейский манер, от собственно арабской речи (как и наоборот).
Здесь можно провести аналогию с исламским орнаментом. Исследователи обычно отмечают его непременную черту: у исламского орнамента нет внешней рамки, внешней границы. Европейский орнамент, и тем более европейская живопись, имеет строгие внешние границы. Исламский орнамент же неизвестно где начинается и неизвестно где заканчивается — прямо как безначальность и бесконечность у ар-Ра̄зӣ. Как правило, для того, чтобы схватить, понять, воспринять европейское произведение визуального искусства, будь то орнаментальное изображение, живописное изображение или скульптуру, надо схватить его форму, т. е. прежде всего зафиксировать его границы. В исламском орнаменте это не так — здесь нет той формы, которую можно было бы выхватить из него. Его смысл не в том, чтобы дать зрителю форму. Его смысл в том, чтобы показать сцепленность, или зацепленность, одного с другим. Главное здесь — эта сцепленность, узелки связи, которые исламский орнамент и показывает нам.
Есть, конечно, параллель между интуициями, которые проявляются в искусстве, и этими же интуициями, проявляющимися в языке. Великий французский исламовед Луи Масиньон (1883–1962) написал известную статью «Методы художественного выражения у мусульманских народов»1. Он прекрасно знает исламское искусство,
71
он отнюдь не новичок. Но он говорит в этой статье, что европеец, встречаясь с исламским искусством, испытывает всякий раз удивление. Европеец ожидает встретить формы — формы как сущности. Искусство должно отображать некие идеальные сущности. Но европеец не встречает этого в исламском искусстве. Масиньон останавливается на этом отрицательном выводе: в исламском искусстве нет того, что европеец ожидал бы встретить; там нет этих ясных форм, ясных линий, ясной геометрии. Я думаю, что Масиньон прав: исламское искусство, в отличие от европейского, не направлено на схватывание идеальных форм вещей, их сути, их субстанциальности. Если мы изображаем человека «по-европейски», то мы изображаем его форму (в аристотелевском смысле), или его субстанциальность, — то есть разумность и жизнь. «Мыслитель» Родена — это сама мысль, сам логос, овладевший человеком, а не копия конкретного человека. Но что тогда есть в исламском искусстве, если нет этого, привычного европейцу? Ведь исламское искусство существует, и это — высокоразвитое искусство, эстетически очень насыщенное. Что тогда есть в этом искусстве? Я думаю, что исламское искусство, особенно орнамент, можно рассматривать как отражение процессуальности — отражение не субстанциальных форм, а протекания. Эти «узелки», из которых связывается орнамент, и служат отражением действенной (т. е. заданной действием, его протеканием) связи между двумя сторонами — между инициирующей, активной, и воспринимающей, пассивной.
Масиньон — европеец, француз; востоковед, а не представитель мусульманской культуры. Возьмем другой пример — Орхан Памук, современный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии. У него есть роман «Имя мне — Красный». Памук описывает, как традиционные исламские мастера, работавшие в жанре книжной иллюстрации (миниатюры), сталкиваются с европейской живописью эпохи Возрождения — с венецианскими живописцами, которые начали тогда приезжать в исламские земли и привозили с собой образцы европейской живописи. Он описывает — буквально — отвращение, которое испытывают исламские мастера, когда смотрят на картины европейских художников, и уж тем более когда их заставляют работать в манере европейцев. Почему отвращение? Исламские мастера признают, что европейцы художественно одарены, что они — мастера-художники.
72
Но этот талант поставлен у них «на службу вздорной логике»1. В чем же «вздорность» этой логики, с точки зрения мусульманского мастера? В том, что европейская живопись попросту копирует природу — и больше ничего. И чем более талантлив европейский мастер, т. е. чем более хорошую «копию» он создает, тем хуже, с точки зрения исламского мастера.
Памук намеренно заостряет ситуацию, доводит ее до крайности. Исламский мастер не видит, что европеец, изображая дерево, изображает идею дерева, чистую сущность растительности, ее тягу к свету, ее трагическую прикрепленность к месту, ее борьбу за жизнь на ограниченном участке земли. Никаких подобных идей, или форм, взгляд исламских мастеров здесь не ухватывает, потому что не ищет их; дерево, таким образом, оказывается не более чем копией реального дерева — еще одним деревом, каких и так полон лес. Какой в нем смысл? Повествование в этом романе ведется от лица разных героев, в том числе от лица этого дерева. Я не хотело бы, говорит Дерево, быть изображенным в манере европейских мастеров. Потому что тогда все собаки Стамбула прибегали бы мочиться на меня! Что может быть яснее и пронзительнее этого выражения презренности и никчемности такой живописи? Это доведение до абсурда показывает, что с точки зрения исламского мастера европейская живопись — просто копия. Пусть и талантливая, но бессмысленная копия внешнего мира. И чем более талантлива она, тем более она бессмысленна. (Отвратительная, вздорная логика удвоения мира — вот о чем говорит исламский мастер у Памука.)
Почему она бессмысленна для исламского мастера? Моя гипотеза заключается в следующем: потому что европейская живопись не отображает процессуальность, центрированность на действии, которую ищет исламский мастер и вообще исламский зритель. Памук неоднократно подчеркивает, что всё, что изображено на миниатюрах исламских мастеров, живет: бабочки летают, кони скачут… здесь изображены не вещи, изображены действия: полет бабочек, скакание лошадей. Протекание. Точно так же, как исламский орнамент — это протекание, связанность одного с другим, инициатора и восприемлющего, внешнего и внутреннего. Этой процессуальности, действенности, протекания исламский мастер не видит в образцах европейского искусства. И правильно, наверное, что не видит — его там и нет.
73
Таковы два точечных примера: Масиньон, европейский исламовед, и Памук, турецкий писатель. Две культуры смотрят друг на друга их глазами и глазами их героев: европейская на исламскую и исламская на европейскую. И обе не видят друг в друге самого главного, существенного — не видят смысла в искусстве.
Что это означает? Если культуры разные, если рациональности разные, они не могут понимать друг друга? Вот перед нами реальный пример: Луи Масиньон, величайший французский исламовед; Орхан Памук, современный турецкий писатель — вот реальный пример взаимного непонимания двух культур. Почему они не понимают друг друга? Потому что каждая из культур ищет в другой то, к чему привыкла сама, ищет привычное ей — то, что соответствует ее исходной интуиции. Понимание — это встраивание в привычную эпистемную цепочку, а значит, сведение развернутости к исходной, интуитивной свернутости. Эпистемная цепочка «привычна» потому, что внедрена в наше сознание многообразными культурными практиками, так что предполагаемые ею когнитивные операции мы совершаем не задумываясь, «на автомате». Но чтобы адекватно понять то, что разворачивает другую, альтернативную привычной нам, эпистемную цепочку, надо сознательным усилием отвлечься от привычных когнитивных приемов, воздержаться от них; запустить в своем сознании другую эпистемную цепочку. Стоит всего лишь вникнуть в чужую рациональность, понять, в чем заключается ее исходная интуиция (протекание в исламском случае), чтобы получить доступ к сути этого искусства, и в целом — к сути этой культуры.
Поэтому указание на различие типов рациональности вовсе не разобщает культуры и народы. Такое представление нередко высказывается поверхностными и поспешными людьми, не дающими себе труда вникнуть в суть дела. Наоборот, это их сближает, поскольку показывает путь к тому, как выстраивать понимание. Всечеловеческий, а не общечеловеческий путь — путь подлинного понимания, а не репрессивной подгонки под шаблон.
Перейдем теперь к тому, что имеет бо́льшую теоретическую выраженность, и посмотрим, какие другие примеры процессуальности (протекания, действенности) мы встретим в арабской культуре.
Центральное место в мировоззрении людей доисламской и исламской эпохи занимают представления о том, как устроен мир, кто управляет судьбой людей и от чего она зависит. До принятия ислама арабы, обитавшие в центральной части Аравийского полуострова, были язычниками. Но уже тогда у них было представление о Судьбе,
74
управляющей ими. Судьба обозначалась словом маниййа. Она не была персонифицирована ни в каком идоле; маниййа — абстрактное понятие. Это — ничем не ограниченная сила, которая ежедневно и ежемгновенно распоряжается судьбой человека. Она это делает, как пожелает: сегодня может вознести на самый верх успеха, завтра лишить всего имущества и даже жизни. Человек оказывается игрушкой в руках этой всесильной судьбы-маниййа.
С принятием ислама монотеизм приходит на смену язычеству. Но в самом главном — в представлении о том, как Бог (уже не маниййа) связан с человеком, сохраняется та же самая парадигма. Ведь исламский Бог всесилен в отношении всего мира, и в отношении человека в том числе. Единственное, хотя и очень существенное, изменение, которое происходит в сравнении с доисламскими временами, заключается в следующем. Появляется Закон, который выступает как будто бы в роли своеобразного посредника между человеком и всесильным Богом. Исламский Закон позволяет человеку различать добро и зло. Он ведет человека к благу в этой и будущей жизни. Это представление — центральное для ислама: Закон — самое главное, поскольку Закон дан для того, чтобы обеспечить человеку благо. Но тогда возникает вопрос: является ли действие Бога теперь совершенно произвольным, то есть таким, каким оно и должно быть, если Бог — ничем не ограниченный действователь, или же Бог каким-то образом связан Законом, который он же и дал человеку? Например, если человек следовал Закону всю свою жизнь, совершал благие дела, является праведником, — может ли Бог как абсолютно свободный действователь, обладающий ничем не ограниченной волей (совсем как доисламская маниййа), отправить такого человека в ад на последнем Суде? Если мы скажем: да, может, поскольку абсолютный действователь что хочет, то и делает, — то в чем смысл исламского Закона и чем тогда Бог отличается от доисламской маниййа, которая творила, что хотела? А если скажем: нет, не может, поскольку человек следовал Закону, а значит, должен непременно получить вознаграждение и попасть в рай, — тогда мы сохраним смысл исламского Закона (а Закон — это центральное для ислама), но лишим Бога неограниченной власти, он перестанет быть абсолютным действователем.
Ситуация оказывается логически безвыходной. И в том, и в другом случае мы что-то проигрываем. В реальности, то есть в исламской вероучительной мысли, были даны оба ответа, как и их промежуточные варианты. Ни тот, ни другой ответ не является до конца удовлетворительным, поскольку в обоих случаях не удается сохранить оба
75
центральных для исламского мировоззрения положения: о принципиальной роли Закона и о ничем не ограниченной действенности Бога.
Но я хочу подчеркнуть, что сама эта проблема, безвыходная и не имеющая решения, оказывается неразрешимой только потому, что имеется исходная, и потому ненарушимая, парадигма: действователь, претерпевающее и действие, которое их связывает. Эта парадигма отражает исходную интуицию арабской культуры. Исходя из этой интуиции, мы рассматриваем мир не как собрание субстанциальных вещей. Мы его рассматриваем как совокупность процессов, совокупность протеканий. Чтобы иметь возможность рационально о них говорить, нужно определить для этих процессов действователя. Иначе говоря, мы объясним мир, если поймем, кто является действователем (инициатором) тех процессов, что протекают на наших глазах. Для этого взгляда объяснить мир — значит не обнаружить неизменную сущность вещей, как это делают греки; объяснить мир — значит определить действователя, который запустил и поддерживает (постоянно!) эти процессы.
Доисламские арабы находили такое объяснение в понятии маниййа — действователя, который мог сделать всё, что угодно, будучи инициатором и осуществителем процессов, протекающих в мире. Уже в исламское время, когда теоретическая мысль оказывается более зрелой, выделяются два типа действователя: человек и Бог. Значит, любой процесс должен быть возведен либо к человеку, либо к Богу. Но человек может отвечать лишь за небольшую часть тех процессов, что протекают в мире. Бóльшая часть этих процессов должна быть возведена к Богу, и только к нему как к действователю. Иначе мир останется необъясненным. Для этого взгляда найти действователя в лице Бога не означает проявить иррациональность, фидеизм и тому подобные характеристики, которые нередко можно встретить у европейских авторов, пишущих об исламе, когда говорят, что отнесение всего к Богу свидетельствует об отсутствии попытки найти подлинную причинность. Нет, это значит задать основу для рационального объяснения. Поэтому арабо-мусульманская мысль не может отказаться от исходного представления о том, что всё объясняется творческой активностью Бога.
Но если это — исходное, парадигмальное, от чего нельзя отказаться, то как сюда встроить Закон? Почему тогда действенность Бога должна быть стеснена и ограничена исламским Законом? Исламская мысль развивалась таким образом, что на первом ее этапе, с VIII по X век, в эпоху господства мутазилитов в философско-теоретической мысли,
76
они выдвигали идею о том, что свобода божественного действия должна быть ограничена Законом. У мутазилитов человек получает в конце времен, после Суда, именно то, что заслужил своими действиями при жизни. Однако после десятого века мутазилиты постепенно уходят на второй план, а затем и исчезают вовсе, а их место занимают другие течения исламской мысли, проповедующие другой ответ: да, Закон есть, Закон — центральное и неотменяемое, но божественная действенность ничем не ограничена. В этих вариантах вероучения, и прежде всего в ашаризме, человек рассматривается как всецело подчиненный воле Бога и его творческой деятельности: Бог творит и человека, и предметы его желания, и само желание. Так зрелая исламская мысль, как эти ни странно, фактически возвращается к состоянию, которое имело место до возникновения ислама, когда верховным действователем была маниййа. Ведь если Бог ничем не связан, если его абсолютная воля и действенность ничем не ограничены, тогда в чем смысл Закона и чем Бог отличается от доисламской маниййа? Конечно, сами мусульмане так не говорят: они никогда не отождествляют исламское и доисламское состояние. Это понятно. Но это показывает, что логика троичности «действователь-действие-претерпевающее» имеет определяющее значение для этого сознания. Оно возвращается к этой парадигме, несмотря на то, что такое возвращение плохо совместимо с центральной идеей исламского учения — с идеей Закона.
Перейдем к теоретическим построениям, которые в явном виде задействуют логику суждения. История арабо-мусульманской и греческой мысли предоставляет нам редкую и очень счастливую возможность. В этих двух философских традициях были созданы учения, которые очевидным образом сталкиваются, являются противоположными, причем это столкновение носит ярко выраженный логический характер. Эти учения имеют дело с самыми сложными вопросами — с вопросами времени, пространства и движения.
Из истории греческой философии известны апории Зенона. Зенон Элейский (V в. до н. э.) был учеником Парменида (VI–V вв. до н. э.), учившего о единстве бытия и о том, что любое движение, хотя и явлено органам чувств, представляет собой иллюзию, поскольку для разума движения нет и не может быть. — Но разве возможно, чтобы чувственное ощущение не совпадало с рациональной концептуализацией? Мы сейчас увидим, как Зенон в своих знаменитых апориях доказывает, причем строго рационально, что движение — кажимость. У Пушкина есть именно об этом стихотворение «Движение»:
77
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей1.
В самом деле, разве солнце на самом деле движется по небосклону? Сейчас мы увидим, что движение, которое как будто бы не может не осуществляться, не может быть рационально описано в субстанциальной логике.
Первая апория — «Стрела». Речь идет о простой вещи: выпущенная стрела летит. Время — это прошлое, будущее и настоящее. Но настоящий момент времени, или момент «теперь», не длится, представляет собой как будто точку, если изображать его геометрически. В нем нет никакой длительности, поскольку, если бы длительность была, в нем было бы прошедшее и будущее наряду с настоящим. Зенон берет такой недлящийся, точечный момент «теперь» (момент настоящего времени), и спрашивает: является ли стрела в такой момент «теперь» движущейся или неподвижной (покоящейся)? Вспомним Рис. 12 и приспособим его для наших целей осмысления ситуации со стрелой:
Рис. 13
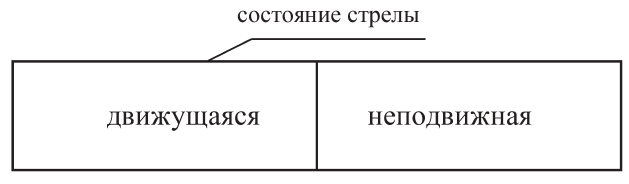
Представим себе, что в левом отделении ящичка для всех стрел в мире у нас лежат движущиеся стрелы, а в правом — неподвижные, покоящиеся. Зенон и спрашивает: в этот момент «теперь» откуда взята стрела — из отделения для движущихся стрел или из отделения для покоящихся? Если из отделения для движущихся, тогда в момент «теперь» она движется, но для движения необходима протяженность
78
времени, тогда как момент «теперь» — точечный, недлящийся. Значит, стрела взята из другого отделения, где лежат неподвижные стрелы. Значит, в момент «теперь» стрела является неподвижной, то есть покоится.
Если мы мыслим с опорой на эту интуицию, мы обязаны признать неизбежность этого вывода. Ведь закон исключенного третьего: стрела либо подвижна, либо неподвижна, — не знает изъятий, он действует всегда. Но тогда получается, что в любой момент «теперь», в любой момент настоящего времени стрела является неподвижной, то есть покоится. Тогда когда же она движется? Ведь время — это совокупность таких «теперь», моментов настоящего времени, в каждый из которых стрела покоится. Ведь для каждого «теперь» наша стрела берется из отделения для неподвижных стрел, значит, мы никогда не вынимаем стрелу из отделения для движущихся стрел. Следовательно, стрела никогда не является «движущейся». Вот и получается, что движение — кажимость. Да, оно явлено нашим чувствам, но на самом деле это — иллюзия.
А разве мало подобных иллюзий? Мы знаем по опыту, что есть верх и низ, что тела падают вниз, а не вверх — а разве на самом деле, с точки зрения физики, есть верх и низ? Нет, конечно; это иллюзия. Но в данном случае шокирующий вывод о том, что летящая стрела на самом деле покоится, получается только потому, что мы принимаем исходную пространственную интуицию субъект-предикатного склеивания и мыслим на ее основе, т. е. разворачиваем наше рассуждение из свернутого состояния, заданного этой интуицией. Только поэтому закон исключенного третьего оказывается императивом: это определено не «свойствами мира», а устройством нашего развернутого мышления, определенного исходной, интуитивной свернутостью.
Зенон открыл действительно неразрешимую проблему, непреодолимое затруднение. Но как всё же быть; мы ведь видим, что стрела летит. Можно ли описать ее движение рационально?
Рассмотрим ответ, который дала греческая традиция. Аристотель говорит, что момент «теперь», т. е. точечный момент настоящего времени, не существует. «Теперь», говорит Аристотель, это граница между прошлым и будущим. Но эта граница не является точкой, которую можно было бы зафиксировать. Чтобы избежать затруднения, открытого Зеноном, Аристотель меняет концепцию времени. В его концепции времени невозможно зафиксировать момент настоящего — то есть момент «теперь», в котором мы живем. Эта теория времени Аристотеля
79
хорошо справляется с описанием движения, но она не соответствует нашему внутреннему опыту, нашей убежденности, поскольку мы всегда живем в моменте «теперь» — не в прошлом и не в будущем; а оказывается, что этого «теперь» нет. Движение предстает у Аристотеля реальностью, зато настоящее время — иллюзией.
Другая апория, которая называется «Дихотомия», или «Ахиллес и черепаха». Ахиллес стоит на некотором расстоянии от черепахи:
Рис. 14

Апория доказывает, что Ахиллес не может дойти до черепахи, хотя идет быстрее ее, потому что не может сдвинуться с места: не может сменить атрибут «неподвижный» на «движущийся». В самом деле, там, где он стоит, он имеет атрибут «неподвижный» (Ахиллес не движется, покоится). Чтобы догнать черепаху, он должен оказаться «движущимся», то есть поменять свой атрибут на противоположный. Вопрос в том, где происходит смена этого атрибута? Где вместо атрибута «неподвижный» он получит атрибут «движущийся»?
Предположим, что Ахиллес дошел до того места, где стояла черепаха. Разделим весь этот путь пополам. На протяжении второй (примыкающей к черепахе) половины пути Ахиллес имеет атрибут «движущийся». Разделив оставшуюся половину опять надвое, получим две четвертинки пути. На второй из них Ахиллес был движущимся; а на первой? Разделим и ее пополам, получим две восьмые части. И так далее. Мы получаем арифметическую прогрессию, которая выражается формулой ½n, где n — натуральное число, пробегающее все значения от единицы до бесконечности. На всей примыкающей к черепахе части пути, которая покрывается этой прогрессией, Ахиллес имеет атрибут «движущийся». Но проблема в том, что эта прогрессия, хотя и бесконечно приближается к точке, где стоит Ахиллес и где он имеет атрибут «неподвижный», никогда не достигает самой этой точки. Между Ахиллесом «неподвижным» и Ахиллесом «движущимся» всегда будет зазор и времени, и пространства, через который он не может «перепрыгнуть». Следовательно, Ахиллес не может сменить атрибут «неподвижный» на атрибут «движущийся», то есть не может начать движение. А это и означает, что движение — кажимость, и никакое тело не может сменить покой на движение.
80
В основании этого затруднения лежит всё та же интуиция замкнутого пространства (Рис. 12, 13), деленного надвое, откуда мы берем атрибуты движения или покоя.
Теперь посмотрим, какой ответ на эти апории предлагает нам арабо-мусульманская мысль. Мутазилиты не разбирали специально апории Зенона, однако они создали развитые теории пространства, времени и движения, из которых понятно, как можно было бы рассматривать эти апории с их точки зрения.
Время для мутазилитов — это последовательность атомарных, не длящихся моментов времени. Это именно то, что Зенон называет недлящимися моментами времени «теперь». Точно такие же «теперь» фигурируют в рассуждениях мутазилитов. Возьмем некое тело — пусть это будет та же зеноновская стрела — в момент времени 1. Спросим: является ли она движущейся или неподвижной? Мы воспроизводим вопрос, который задает Зенон. Но теперь мы исходим из базовой парадигмы действующее-действие(протекание)-претерпевающее, не из интуиции ограниченного замкнутого пространства, поделенного надвое и заключающего в себе атрибуты «подвижный-неподвижный» (Рис. 13). Иначе говоря, наше рассуждение в духе мутазилитов будет развернуто из другой исходной свернутости, нежели зеноновское.
Поскольку исходная интуиция для нас теперь — это интуиция протекания, мы соответствующим образом будем трактовать и атрибут движения, относительно которого спрашиваем, может ли он быть приписан стреле и если да, то как именно. Теперь атрибут «движущийся» будет приписан стреле только в том случае, если мы будем иметь два момента времени — первый (инициирующий движение) и второй (восприемлющий движение, оконечивающий его). Это, я подчеркиваю, исходное требование той интуиции, которую выразил Фах̱р ад-Дӣн ар-Ра̄зӣ и которая отражает связанность действующего и претерпевающего, где такая связанность и есть процесс. Мутазилиты и говорят: если в момент времени 2, следующий за моментом 1, стрела будет занимать другое положение в пространстве, нежели она занимала в момент времени 1, то это означает, что она была «движущейся» в момент времени 1, «передвинувшейся» в момент времени 2, а связывает эти два момента процесс «движение».
Здесь точно соблюдены все условия зеноновской апории: череда недлящихся моментов времени «теперь»; стрела, занимающая равное себе пространство в любой такой момент «теперь»; и время как последовательность недлящихся «теперь». А вывод — противоположный:
81
при этих условиях движение совершается, если для любых двух соседних моментов времени стрела занимает (в эти моменты времени) разное положение в пространстве.
Присмотримся внимательнее к логике этого вывода. Чтобы сказать, что стрела имеет атрибут «движущаяся», мы должны взять непременно два последовательных момента времени. Беря один момент времени — неважно, первый, второй, третий, десятый — мы никогда не можем для него сказать, является ли стрела движущейся или покоящейся. Это бессмысленно. Бессмысленно в рассуждении, определенном исходной интуицией протекания. Однако именно это — определить, какой из альтернативных атрибутов, «движущаяся» или «покоящаяся», должен быть приписан стреле в каждый единичный момент времени — и было императивом для рассуждения, развернутого из исходной интуиции субстанциальной логики и подчиняющегося неизбежному здесь закону исключенного третьего. Исходные интуиции от начала до конца определяют требования к развернутому рассуждению и его логике.
А что для покоящейся стрелы? Ровно то же самое: мы должны взять моменты 1 и 2, непременно два момента времени, следующие друг за другом. Далее, если стрела в момент времени 2 находится в том же месте, в котором находилась в момент времени 1, тогда, и только тогда мы можем сказать, что она является неподвижной. Почему? Потому что «покой» — это также действие; это не отсутствие действия, дихотомичное по отношению к действию, а самостоятельное действие. Но действие, согласно этой интуиции и этой парадигме, всегда протекает между двумя — инициатором и восприемлющим (как река у ар-Ра̄зӣ). Поэтому и покой тоже будет протекать между двумя моментами времени и двумя положениями стрелы, связывая их; это будут два положения стрелы в одном и том же месте.
Таким образом, теория мутазилитов описывает то же самое, что апории Зенона — движение и покой, но описание и выводы двух теорий строго альтернативны. Я хочу подчеркнуть, что каждая из этих двух теорий логична и последовательна, от начала до конца. Но она логична в тех пределах, которые заданы исходной интуицией, на основе которой и из которой разворачивается рассуждение и обосновывается его разумность. И для каждой из этих теорий есть своя онтология, то есть свое представление о том, что такое действительность. Для мышления, представленного Зеноном, действительность — это субстанции, которые получают один из взаимоисключающих атрибутов
82
в каждый момент времени. А для мутазилитской теории, для арабской, процессуальной интуиции действительность представлена протеканиями, процессами, которые всегда связывают исток и результат. Мутазилитская теория, таким образом, без проблем объясняет, почему стрела движется и как именно она движется.
С Ахиллесом и черепахой — то же самое, никаких затруднений с объяснением того, когда и где Ахиллес меняет неподвижность на движение. Возьмем последовательность моментов времени: 1, 2, 3, 4 и так далее. При этом, следуя императиву интуиции протекания, мы всегда должны брать пары I, II, III, IV и так далее последовательных моментов времени: 1–2, 2–3, 3–4, 4–5 и т. д.:
Рис. 15

Для каждой пары моментов времени мы устанавливаем, в каких положениях находится Ахиллес. Например, если он в одном и том же положении в момент времени 1 и в момент времени 2, значит, между этими моментами протекает покой. А если в момент 2 Ахиллес всё в том же исходном положении, а в момент 3 он — уже в другом положении, значит, эту пару моментов связывает движение, протекающее между ними. В связке моментов 2–3 Ахиллес уже — движущийся и передвинувшийся, а в связке моментов 1–2 он еще покоящийся. Это было бы абсурдно с точки зрения субстанциальной логики, поскольку в этих двух парах фигурирует один и тот же момент 2, но в первом случае (пара 1–2) Ахиллес покоится, а во втором (пара 2–3) он движется. Это нарушало бы закон противоречия (в момент 2 Ахиллес и движется, и покоится) и было бы абсурдом. Но в случае арабской, процессуальной интуиции, на основе которой разворачивается наше рассуждение, построенное в духе мутазилитов, никакого противоречия нет. Оно не возникает, поскольку здесь имеют значение не отдельные моменты, а их связки, а связка 1–2 — это иное, чем связка 2–3, хотя в них и фигурирует один и тот же момент 2. Предикационный механизм
83
в двух логиках разный: только для пары моментов времени возможна предикация в процессуальной логике. Тогда понятно, как Ахиллес меняет покой на движение: в этих двух связках моментов времени он обладает разными атрибутами. Никаких затруднений с описанием смены покоя на движение нет, всё логично и рационально. То, что необъяснимо в зеноновской, древнегреческой парадигме — то же самое совершенно понятно здесь, в процессуальной парадигме.
Перейдем к формальному доказательству. Для этого обратимся к исламской правовой науке (фикху) — наиболее важной и влиятельной составляющей арабо-мусульманской культуры. Такое положение фикха неудивительно: если в центре мировоззрения стоит Закон (шариат), то и правовая наука, разрабатывающая Закон, оказывается в центре внимания теоретиков.
Чтобы рассмотреть, как устроено формальное доказательство в логике протекания (процессуальной логике, логике действия), я воспользуюсь примером, который приводят сами теоретики исламского права — факихи. В ходе своего развития исламское право было вынуждено реагировать на новые явления жизни, а потому факихам приходилось вводить новые нормы права. Они должны были, насколько это возможно, опираться на уже известные нормы права — те, что закреплены в Коране или сунне. При этом они должны были доказать, как именно новая норма связана с уже известной, для того, чтобы закрепить новую норму в Законе.
Процедура формального доказательства могла бы опираться на ту интуицию, которая характерна для субстанциального мышления европейской культуры. Тогда юридическая норма будет пониматься — с точки зрения эпистемологических процедур — как атрибут, приписываемый некоторой субстанции. Например, возьмем две субстанции, «вино» (х̱амр — красное виноградное вино) и «настойку» (набӣз̱ — напиток из любых злаковых или фруктов), и припишем вину атрибут «запретное» (х̣ара̄м). Так мы будем трактовать известную кораническую норму запретности вина: мы рассматриваем вино как субстанцию, имеющую атрибут запретности. Тогда мы спрашиваем: будет ли «настойка» иметь такой же атрибут — или же какой-то другой? В исламском праве пять норм: категорически запрещенное (мах̣з̣ӯр), нерекомендуемое (макрӯх), свободно исполняемое (муба̄х̣), рекомендуемое (мандӯб), категорически предписанное (фард̣, ва̄джиб). Если «настойка» не будет иметь атрибута «категорический запрет», она может оказаться в любой из оставшихся четырех категорий. Дело факиха — определить, какова норма относительно настойки.
84
С точки зрения исходной интуиции, обосновывающей европейское субстанциальное мышление, рассуждение должно принять следующий вид. Поскольку авторитетные тексты ислама многократно подчеркивают, что «вино» является «опьяняющим», а «всё опьяняющее запрещено»1, мы можем проиллюстрировать это исходное положение следующим образом:
Рис. 16

Ситуация, отображенная на Рис. 16, ничем не отличается от той, что изображена на Рис. 4, который иллюстрирует категорический силлогизм о смертности Сократа. Здесь нет никакого сомнения в том, что вино, будучи опьяняющим («вино» попадает в область предиката «опьяняющее»), запрещено (область предиката «опьяняющее» целиком включена в область предиката «запрещенное»). Вопрос относительно настойки решается однозначно: если настойка попадает в область того же предиката «опьяняющее», что и вино, то и она, как и вино, запрещена — точно так же, как Платон, будучи человеком, смертен в силу того же, в силу чего смертен Сократ.
Из опыта достоверно известно, что настойка является опьяняющей. Значит, у нас налицо все необходимые условия для составления
85
категорического силлогизма. И если бы факихи мыслили с опорой на интуицию субстанциально-атрибутивной логики, отраженной на Рис. 16, они бы однозначно и уверенно сделали именно такой вывод. В этом нет никакого сомнения, и эта моя уверенность подтверждается по меньшей мере двумя яркими примерами: Ибн Х̣азм (994–1064) и ал-Г̣аза̄лӣ (1058–1111), известнейшие факихи и авторы фундаментальных трудов по фикху, решали вопрос о запретности настойки именно так, в русле построения категорического силлогизма, отраженного на Рис. 16, и обрушивались с уничтожающей критикой на своих многочисленных коллег, которые не принимали такое решение.
Но как же можно не принять совершенно очевидный категорический силлогизм? Мы уже знаем ответ на этот вопрос: его можно, и более того, необходимо отвергнуть, если мышление опирается на другую интуицию, если оно разворачивает эпистемную цепочку не исходя из интуиции замкнутого пространства, обосновывающей субстанциально-атрибутивную логику как звено этой цепочки, а исходя из интуиции протекания, или процессуальной интуиции. Если эпистемная цепочка — другая, то другими будут и осмысление той же самой ситуации (вопрос о запретности настойки при запретности вина), и доказательство. Всё должно быть целиком другим, а силлогизм, построенный на включении субстанций в область атрибутов, окажется здесь бессмысленным (не неправильным, а именно бессмысленным — он не решает никаких задач и не дает никакого знания).
В таком случае «опьянение» и «запретность» — это не атрибуты субстанции. Смысл этим словам должен быть придан с опорой на интуицию протекания — процесса, связывающего действующее и претерпевающее. Если вино запрещено, это значит, что Закон запрещает вино: Закон — запрещающее, вино — запрещенное, причем их связывает процесс «запрещение»:
Рис. 17

86
Здесь нет субстанций и их атрибутов. Здесь перед нами действующее и претерпевающее — другая исходная ситуация, которая не может быть осмыслена в схематике Рис. 16. Рис. 16 и субстанциально-атрибутивная логика с ее силлогистической механикой никак не помогут нам здесь. Ведь вопрос заключается в том, как Закон действует в отношении настойки. Вот в чем проблема, и ответить на него включением настойки в область атрибута «запрещенное» нельзя: наша эпистемная цепочка не предполагает такого исполнения базовой когнитивной операции склеивания субъекта и предиката. Иначе говоря, в этой когнитивной модели нет никакой пространственной области, куда мы могли бы поместить точку-субъект «настойка». Вместо этого мы должны понять, как Закон действует в отношении настойки, т. е. какой процесс, какое протекание связывает действующий Закон, устанавливающий норму, и настойку, для которой устанавливается норма и которая, таким образом, подвергается воздействию.
Как это сделать? Ведь мы должны показать необходимое, закономерное и неизбежное действие Закона в отношении настойки. Не гадать, каким оно могло бы быть, а именно показать как неизбежное и совершенно несомненное.
Вот как решают этот вопрос факихи.
Первое, что мы должны узнать: как вино воздействует на разум? Оказывается, что между вином и разумом также протекает действие, которое называется «опьянение» (иска̄р):
Рис. 18

И здесь — крайне важный, можно сказать, узловой для процессуального доказательства момент. Такой же узловой, как составление посылок в греческом силлогизме. Как без составления посылок не будет силлогизма, а будут два несвязанных предложения, так и здесь без этого узлового момента не будет доказательства, а будут два утверждения, не связанные между собой.
87
Этот узловой момент процессуального доказательства уже отображен на Рис. 18. Его, однако, необходимо ясно и четко обговорить. Он заключается в том, что два отдельных, разных процесса: процесс запрещения вина Законом и процесс опьянения разума вином, — оказываются сцеплены друг с другом. Они сцеплены за счет того, что претерпевающее первого процесса и действователь второго являются одним и тем же. Это — вино.
Такую сцепленность двух процессов теория называет ‘илла — «обоснование», «причина». Речь идет именно о причинной связи: Закон запрещает вино именно потому, что вино опьяняет разум. Это отвечает на вопрос «почему»: почему Закон запрещает вино? — именно потому, что вино опьяняет разум. И это же объясняет нам, что такое «причинность»: причинность — это сцепленность двух процессов через общее звено (претерпевающее первого и действователь второго процесса). Европейская субстанциально-атрибутивная логика не может придать смысл понятию причины, поскольку для этого взгляда причинность — это случайное совпадение во времени или следование друг за другом двух действий. А вот для процессуального взгляда причинность закономерна — это не случайное совпадение.
Итак, чтобы решить нашу задачу, мы должны понять, как настойка действует на разум. Иначе говоря, является ли стрелка воздействия настойки на разум такой же, как стрелка воздействия вина на разум, или нет:
Рис. 19

Из опыта мы знаем, что знак вопроса на стрелке, связывающей настойку и разум, может быть снят, что воздействие настойки на разум — такое же, как воздействие вина. Иначе говоря, настойка как действующее связана с разумом как претерпевающим процессом «опьянение»:
88
Рис. 20

Если так, то причинность приводится в действие, и тогда Закон по этой причине запрещает также и настойку. Связь «запрещение» между Законом и настойкой также устанавливается:
Рис. 21

В чем неизбежность того, что связанность Закона и настойки будет такой же, как связанность Закона и вина, что между ними будет протекать тот же процесс запрещения? Это неизбежно потому, что вино и настойка оказываются одним и тем же как действователи второго процесса (процесса «опьянение»). Если говорить в терминах пространственной метафоры, настойка оказывается «там же», где вино, а потому стрелка запрета захватывает также и ее — иначе быть не может. Как если бы прожектор освещал некий пятачок на столе, на котором стоит бутылка вина, и на этот же пятачок кто-то поставил бы бутылку настойки: она неизбежно оказалось бы освещена так же, как и вино. Чтобы была полная параллель с процессуальным доказательством на примере вина и настойки, мы должны сказать: прожектор освещает бутылку вина именно потому, что бутылка вина стоит на столе; бутылка настойки также стоит на столе, следовательно,
89
прожектор освещает бутылку настойки (курсивом выделены протекания, связывающие действователя и претерпевающее).
В этом доказательстве мы не прибегали к понятиям субстанции, атрибута, рода, класса, включения. Мы опирались на понятия действователя, претерпевающего и действия. Значит, когда факихи не используют греческий силлогизм (хотя он очевиден), а прибегают к процессуальному доказательству, это означает, что для них естественной, привычной является данная логика, рассматривающая действия, а не субстанции. Иначе говоря, процессуальная логика, а не субстанциально-атрибутивная.
Мы можем записать доказательство в процессуальной логике в общем виде. Обобщая рассмотренный пример, проиллюстрированный на Рис. 21, скажем: если действователь А связан процессом П1 с претерпевающим Б в силу того, что Б, выступая как действователь, связан процессом П2 с претерпевающим В, и при этом действователь Г связан процессом П2 с претерпевающим В, то действователь А будет связан процессом П1 с претерпевающим Г. В еще более формальной записи:
|
|
А =(П1)=> Б |
|
именно потому, что |
Б =(П2)=> В |
|
и |
Г =(П2)=> В |
|
то |
А =(П1)=> Г |
Можно попробовать подставить любые значения действующего, претерпевающего и процесса в эту формальную запись: мы будем всегда получать истинное следование. Это означает, что процессуальная логика является логикой в полном смысле этого слова: разрабатывая исходную интуицию протекания, она дает истинное знание о мире — но не знание о том, «что есть» (задача субстанциально-атрибутивной логики Аристотеля), а знание о том, «какие процессы протекают»1.
90
* * *
Мы поговорили о субстанциальной и процессуальной логике. Опираясь на этот материал, мы можем сделать общеметодологический вывод, касающийся логики мышления и логики культуры. Это даст нам возможность поставить вопрос о том, применим ли этот вывод к другим культурам.
И субстанциальная, и процессуальная логика устанавливает различие. Это — противоположность, то, что берется со знаком минус; то, о чем мы говорим «нет». Они также устанавливают единство противоположного, его объединение; то, о чем мы говорим «да». Они задают, таким образом, противоположение-и-объединение.
В самом деле, в родовидовой логике два вида и род — это противоположение-и-объединение. В процессуальной логике действующее и претерпевающее — противоположности, но они объединены процессом. Таким образом, основой логики смысла (логики культуры, логики сознания) будет непременно ответ на вопрос: как задать противоположность (как ее организовать, откуда она возьмется, что будет противоположенным одно другому) и как объединить противоположное. Непременно и то, и другое. Понятно, что ответ на второй вопрос зависит от первого: способ объединения противоположностей зависит от способа их задания. А в способе задания как противоположения, так и объединения логическая сторона и сторона содержательная равно важны и зависят друг от друга, друг с другом связаны и соотнесены. Ведь говорить о субстанциях и говорить о протеканиях (процессах) — это разное содержательно; но и разное логически. Чтобы логика была адекватна содержанию, она должна измениться с изменением содержания.
Императивность противоположения-и-объединения проявляется и в обыденном языке, в повседневном мыслительном и языковом поведении. Мы можем построить отрицание для любой пары предметов. Например, скажем: «магнитофон — это не микрофон». Это — абсолютная истина. Можно сказать: «человек — это не стол». Это истина? Конечно, несомненная. Но какой в этих утверждениях смысл? Никакого. Что они нам дают? Ничего. Почему же совершенно истинные высказывания бессмысленны? Потому что мы устанавливаем в них противоположение, но не объединение; мы имеем отрицание, но не знаем, в чем заключается единство того, что относится друг к другу как отрицание. Если же скажем: «Есть приборы, которые служат для того, чтобы фиксировать звук», — тем самым мы установим
91
общность, единство, объединение. «Приборы, фиксирующие звук», будет родом. Теперь мы можем сказать: этот род делится на два вида: приборы, улавливающие звук, и приборы, записывающие звук. Это будут род и два вида потому, что любой прибор, связанный с фиксацией звука, будет непременно принадлежать либо одному, либо другому виду. Значит, такое деление единого рода отражает природу этих технических приборов. Тогда, если мы говорим: «Магнитофон — это не микрофон», это высказывание приобретает смысл. Тогда мы знаем, что есть род звукофиксирующих приборов, эти приборы делятся на те, что улавливают звук, и те, что его записывают, и тогда понятно, почему и в каком смысле магнитофон — это не микрофон.
Наше сознание работает таким образом, что «в фоне», незаметно для нас, оно стремится выстроить общность для любой противоположности. Мы как будто незаметно для самих себя отвечаем на вопрос: в рамках какой общности имеет смысл противополагать? Без этого противоположение остается бессмысленным.
Думаю, что нечто подобное есть в китайской культуре и китайском мышлении. Что могло бы служить символическим представлением противоположения-и-объединения здесь — таким же символом, наводящей метафорой, какой для европейской логики служат круги Эйлера, а для арабской — метафора протекания (метафора двух гор и реки) ар-Ра̄зӣ? Я предложу свой ответ, хотя совершенно не претендую на его правильность или окончательность. Возьмем гексаграммы И-Цзина. Непрерывная черта—прерывистая черта — это противоположности, разве нет? Но чем они объединены? Самой конструкцией гексаграммы, ее порядком. Упорядоченность черт — вот что их объединяет. Тогда единство здесь заключено не в родовом, более высоком понятии, как для европейского мышления, и не в протекании-процессе, который связывает две противоположности, как для арабского мышления, — оно заключено в упорядоченности этой целостной конструкции, в ее порядке. Не является ли конфуцианское понятие ритуала разворачиванием той свернутости, которая представлена в интуитивно понятном, схватываемом без слов и рассуждений виде в гексаграммах или символе инь-ян? Ведь ритуал — это порядок, это точное соотношение противоположностей, при котором устанавливается гармония.
Это — мое предположение, оно может оказаться совершенно неверным. Я на нем не настаиваю. Но тогда должно быть предложено что-то другое, что выражало бы образно, интуитивно ясно, схватываемо сразу идею противоположения-и-объединения в китайском мышлении.
 |
5 Глава 4. Странничество русской интеллигенции. Славянофильство и западничество |

|
92
Опирается ли русская культура на свою, особую логику?
Оглянемся назад, чтобы понять возможность постановки такого вопроса. Каким образом русские мыслители осознавали себя, свою страну, свою миссию и миссию России в мире? И когда этот вопрос действительно стал проблемой? Рассматривая русскую историю с этой точки зрения, разделим ее схематично на несколько периодов.
Первый — до принятия христианства и до образования государства. Это — время, когда существовали славянские племена, когда еще не сложился русский этнос. Славянские племена в культурном отношении, безусловно, отставали от развитых тогда стран, таких как Византия или исламский мир.
Принятие христианства (988 г.) стало определяющим шагом в истории России. Оно открывает второй период русской истории — с принятия христианства до монгольского завоевания. Принятие христианства означало отказ от прежних верований, хотя этот отказ не был абсолютным, и христианизация оказалась сложным процессом, вполне так и не завершенным. Долгое время наряду с новой верой бытовали старые верования и обряды, например, всеми любимый праздник Масленицы, сохранившийся до сих пор; обереги, солнечные символы в украшениях деревенских домов и т. д. В этом нет ничего особенного или собственно русского: в Европе старые языческие верования также сохраняются наряду с христианством; в исламской культуре зороастрийский, иранский Новый год — Навруз постепенно стал восприниматься как исламский в тех областях, которые находились под культурным влиянием Ирана, в том числе на территории современной России. Но так или иначе, именно православие на длительный исторический период стало определяющим для Руси.
93
Таким образом, второй период в истории России — это период южного влияния. Именно с юга, из Византии, пришло христианство в его православном варианте на Русь.
Однако вскоре начинается третий период, когда Русь попадает в зависимость от татаро-монгольской империи (1243–1480). Образуется мощный вектор влияния с востока. Тогда на Русь приходят элементы цивилизации, которые характерны именно для империи. Ведь монгольское государство, в отличие от Руси до прихода монголов, представляло собой огромную империю. Это и почтовое сообщение, это другие составляющие единой империи под единым управлением. Конечно, денежное обращение было известно и раньше, но показательно, что слово «деньги» — тюркского происхождения. И просто историческим фактом является то, что именно после монголов, после этого импульса с востока Москва становится постепенно самым сильным княжеством, а потом — и центром единого государства.
Так начинается четвертый период в истории России. То, что называется в русской истории «собирание русских земель», происходило под началом московского царя и представляло собой разрастание московского государства, которое постепенно превращалось из московского княжества в русское государство. Теперь начинается движение русских на восток. Если раньше с востока пришли монголы, то теперь, после освобождения от монголов, русское государство начинает обратное движение. В состав русского государства попадают земли, на которых исторически существовал ислам: земли татар и башкир, Поволжье, а позже — Крымское ханство.
Теперь русское государство становится не просто многонациональным, но и многорелигиозным. Однако сам факт многорелигиозности не осмыслен, не переработан русским сознанием. Для него Русь, а потом и Россия остается православной страной. Это отставание осмысления от фактического устроения жизни наблюдается до сих пор, и это — один из удивительных фактов русской философии истории. В действительной политике те области, где существовали иные религии, нежели православие, а значит, и иные правовые и этические системы, иное мировоззрение, входили в состав российского государства как развитые области, с историей, не менее, а подчас и более древней, чем история русского государства. Политически они должны были признать верховенство центральной власти. Однако в том, что касается устройства повседневной жизни и даже действия правовых систем, эти области оставались в значительной мере самостоятельными. И право, и этика, и мировоззрение
94
могли сохраняться нетронутыми в таких областях, входивших в состав русского государства.
Это — крайне важная особенность выстраивания русского государства, определенная его историей. Историки, примыкающие к классическому евразийству, подчеркивали, что в этом отношении русское государство фактически повторяло политику монгольских ханов, которые также требовали политического подчинения и экономической дани, но не вмешивались во внутренние дела покоренных земель. Определенные параллели могут быть увидены и в истории современной России, после 1917 и 1991 г., когда не только федеративное устройство, но и наличие республик внутри России подчеркивает пусть ограниченный, но всё же государственный статус отдельных областей и земель. Важно, что сам ход истории был таким, что русское государство разрасталось не заморскими территориями или колониями, как это было в случае Древней Греции или в новоевропейской истории. Русское государство разрасталось, включая в свой состав соседние области, заключая их в границах единого государства, но с большой долей самостоятельности отдельных областей во всех областях жизни. Заморские же колонии, как Аляска, оторванные от этого материнского тела, как подчеркивал Н. Я. Данилевский, России не удавались.
Третий и четвертый периоды, таким образом, — это периоды восточного вектора: сначала движение монголов и их влияние на Русь, затем движение Руси в сторону востока. Однако всё это время Россия продолжает осознавать себя православной державой и связывает свою судьбу с православием как с единственно истинной религией. Самоидентификация общества в целом и его правящей верхушки в этот период еще не вызывает вопросов и не становится проблемой.
С четвертого периода русской истории и до сих пор реальное устройство общежития в России как многонациональном и многорелигиозном государстве далеко опережает свое теоретическое осмысление в философии и общественно-теоретической мысли. За очень редким исключением, русские философы и мыслители вплоть до революционной катастрофы 1917 года видят Россию православной страной, а главное, сами исповедуя православие, не могут отнестись к своей вере рефлективно, не могут счесть ее «одной из», а не единственной и определяющей.
Эта неспособность русской мысли подняться до осмысления реалий собственной культуры — один из симптомов и одна из причин революционной катастрофы 1917 г. Западничество не только не спасает ситуацию, но и усугубляет ее, о чем мы вскоре поговорим. В этом
95
же — главная причина того, что до сих пор Россия не имеет представления о том, какова ее историческая судьба, почему и для чего она существует в мире, как она должна развиваться и где брать силы для такого развития — не имеет, иначе говоря, собственного цивилизационного проекта. Мы до сих пор застряли в третьем периоде нашей истории, не осмыслив несомненный факт многорелигиозности, многонациональности, многокультурности России. Эта маленькая приставка «много-» выражает неуничтожимость многосубъектности России, ставшей, начиная с четвертого периода ее истории, ее конституирующим фактором.
Пятый период нашей истории — период западного влияния. Этот период — шоковый для единства русской культуры и для русского самосознания. После монгольского нашествия Россия осознала себя как единое государство — чего не было до монголов. Россия однозначно идентифицировала себя с православием. Ее историческая судьба была для нее ясна: Россия считала себя хранительницей святыни и истины православия. Эта истина, с ее точки зрения, была утеряна в латинстве и в других конфессиях христианства и уж тем более в других религиях; Россия видела себя единственной хранительницей этой святой истины.
Соприкосновение и столкновение с Европой имели место, безусловно, и до Петра I. Безусловно, имело место и языковое, и культурное влияние, в том числе через латинизированные и протестантские земли — Польшу, Украину, Балтию. И всё же именно петровские реформы стали очень ясным водоразделом в вопросе национальной самоидентификации, то есть в вопросе о том, кто мы и зачем мы. До Петра I, по большому счету, не возникало сомнения в этом. Быть русским означало быть православным, быть причастным великой православной миссии России. Именно по этой однозначной самоидентификации и по этому пониманию своей исторической миссии и судьбы петровские реформы нанесли сокрушительный удар, от которого Россия, собственно говоря, до сих пор не оправилась. Самое-то главное, что этот удар был нанесен изнутри. И не просто изнутри, а из самого сердца — рукой русского царя.
Нет сомнения в том, что Россия жизненно нуждалась в реформах. Она отставала в военной области; это значит, что она отставала в науках, в технике, в промышленном производстве. Это отставание выяснилось задолго до Петра. Задолго до Петра приглашались европейские специалисты, европейские мастера. Тогда чем отличались петровские реформы от того, что имело место раньше?
96
Конечно же, размахом. Раньше это были единичные, точечные впрыскивания европейского мастерства в отдельных областях для решения какой-то единичной, конкретной задачи. Петр затеял преобразования настолько широкомасштабные, что они затронули не только область науки, не только область военной техники, но и область устройства общественной жизни. Главное же — сам образ жизни и самоидентификацию. Для того, чтобы как можно быстрее провести свои реформы, ввести европейские науки, европейское образование, Петру приходилось насильно искоренять устоявшийся русский образ жизни и внедрять стиль жизни европейский. В этих условиях в общественном сознании постепенно сложилась и закрепилась установка: русское — это отсталое, неевропейское; всё прогрессивное, хорошее — это европейское. Сохранять русский образ жизни значило стоять на пути европейского прогресса. Возник раскол в общественном сознании. Раскол, которого раньше не было. И как бывает в таких случаях, когда самоидентификация народа и страны ставится под сомнение — тогда и возникает вопрос: кто мы? что мы? для чего мы? То, что прежде было ясным, что не нужно было обсуждать, что было очевидным — теперь становится вопросом, возникают разные мнения, высказываются разные позиции.
Спустя сто лет после петровских реформ, в XIX в. в России в разных областях культуры, в том числе в теоретической мысли, начинается новая эпоха. В области словесности — Пушкин. Конечно, и до него были прекрасные поэты. Но именно Пушкин стал тем писателем, после которого возникла современная русская литература. Не случайно последующие русские мыслители оценивают Пушкина не просто как поэта, но и как человека, который осмыслил русские характеры, осмыслил судьбу России; как человека, который смог в литературном виде дать свое представление о том, что такое Россия. В XIX в. получает свое полное развитие русская наука и русское образование в рамках Академии наук и университетов. В XVIII в. и наука, и университетская профессура — а часто и сами студенты! — представлены завезенными из Германии, из Франции учеными и учащимися (не могли найти русских студентов). Леонард Эйлер, о котором шла речь в Главе 2 — один из таких примеров: швейцарский-немецкий ученый, который долгое время работал в России. Но в XIX в. наука в России, равно как образование и общественная мысль, уже получает русское лицо. В этом смысле XIX в. — переломный, когда заработала, забурлила русская общественная мысль.
97
И не случайно, конечно, что именно в это время в общественном мнении происходит расщепление по вопросу о том, что мы представляем собой и какова наша судьба. Теми, кто задавал этот вопрос и задумывался над ним, был образованный класс, или интеллигенция. Интеллигенция возникла в результате петровских реформ и имела европейское образование. Это были, как правило, люди, знавшие европейские языки, нередко жившие, и подолгу, в Европе. Естественно, что интеллигенция, имевшая европейское образование и глубоко интегрированная в европейскую культуру, была проевропейской. И прошло немало времени после реформ Петра, прежде чем именно в среде образованного класса возникло течение, которое потом назвали славянофильством. Оно представлено именами А. С. Хомякова (1804–1860), И. В. Киреевского (1806–1856), К. С. Аксакова (1817–1860), И. С. Аксакова (1823–1886) и других. Они впервые выразили то, что было скорее характерно для низового слоя русской культуры, для народной ее части, которая была лишена образования и не имела возможности выражать себя в литературной или теоретической форме1. Я хочу сказать — и это важно понимать — что появление течения славянофилов не было чудачеством интеллигентов, как это нередко представляют западники. На деле их появление и их оппозиция тем, кого теперь — после появления славянофилов — начали называть западниками, выражало на деле очень существенный и серьезный раскол в самом русском обществе. Иначе говоря, раздвоение образованного класса на славянофилов и западников стало отражением аналогичного противостояния в русском обществе в целом — его раскола на интеллигенцию, высшую, образованную часть, элиту, и русскую низовую культуру. В этих условиях появление Н. Я. Данилевского было неслучайным, о чем речь пойдет ниже. Появление Н. Я. Данилевского — это особая стадия в развитии русского самосознания, которая по достоинству еще не оценена.
Шестой период русской истории открывается революционной катастрофой 1917 года. Это — тяжелейший, трагический период. Период для нас, тогда живших, очень непростой в смысле возможности однозначной его оценки. Старую Россию постигла катастрофа 1917 г., и наша страна, без сомнения, перестала бы существовать, если бы
98
не власть большевиков, которым удалось удержать ее практически в прежних границах. Удержать не только насилием, не только кровавыми репрессиями — насилие еще никогда не помогало избежать неизбежного распада человеческого общества, тем более такого огромного, как Россия. Советская власть, конечно же, апеллировала к тому, что имело положительное, творческое значение, и одушевление созиданием новой жизни неотъемлемо как от революции, так и от советского периода нашей истории. Если бы это было не так, сегодня не были бы популярны советские герои, советские мультфильмы и фильмы, советские детские книжки — даже, наконец, удивительным образом возродившиеся и вернувшиеся в лексикон нынешней молодежи жаргонные слова и словечки молодежи моего поколения. Но этот положительный задор, эту энергию бездарная власть растратила попусту, пустила по ветру. Что еще хуже, наши глубинные беды сегодняшнего дня: сращивание преступности, власти, правоохранительной сферы и хозяйственной инициативы, выхолащивание понятия о праве и правде, замена правды — силой были сконструированы именно тогда, а после 1991 г. лишь легализовались, обрели своих идеологов и оделись в глянцевые одежды. Так в новой революционной катастрофе 1991 г. на государственном уровне были утеряны остатки собственного цивилизационного проекта России, которые — как это ни покажется кому-то странным — еще сохранялись властью коммунистов. Шестой, советский период нашей истории был страшной расплатой за пятый, послепетровский, — за обольщение возможностью быстрого цивилизационного выбора, украденной истории. Как будто можно украдкой получить, не выстрадав, иную культуру и иную цивилизацию, нежели собственная.
Сегодня, после 1991 г., когда начался седьмой период нашей истории, какую-то надежду на возрождение собственного цивилизационного проекта России можно возлагать только на то, что еще теплится в толще ее культуры — в народной памяти, в памяти языка (не случайно «либеральные» реформы сопровождаются агрессивным вытеснением собственного русского из русского языка, от лексики до синтаксиса), в укладе жизни, в стихийных представлениях о добре и зле, о правде и кривде, о допустимом и недопустимом. Дальше — открытый вопрос: сумеем ли мы очнуться, встряхнуться и вернуться на свой путь цивилизационного развития?
Рассмотрим подробнее пятый период нашей истории. Как мы сказали, в результате петровских реформ к началу XIX века в России сложился собственный, российский образованный класс, достаточно представительный и достаточно широкий для того, чтобы ставить
99
вопрос о судьбе России. До реформ Петра национальная миссия России и ее достоинство не подвергались сомнению внутри самой России. Не подвергалось сомнению ни православная идентичность России, ни превосходство православия над латинством. Правда, серьезным ударом по этим представлениям были реформы Никона в середине XVII в. — т. н. «исправление богослужебных книг», приведшее к церковному расколу. Это был серьезный удар по московскому укладу жизни и по московскому варианту русского литературного языка, который был вытеснен в результате этих реформ. Западное влияние было очевидным, и тогда оно шло через Польшу и Украину, а также через Литву и Белоруссию. Это всё так, и всё же только после Петра и только в результате его реформ однозначно антирусское настроение получило такое распространение в среде образованного класса. В результате создания интеллигенции, получившей образование в Европе или по европейским образцам, в среде самого образованного класса возникло неприятие русского образа жизни, русского умонастроения и даже русского языка.
Таким образом, после реформ Петра возникла ситуация, которой раньше никогда не наблюдалось, несмотря на западное влияние, каким бы заметным оно ни было. В среде самой интеллигенции появляется значительный слой, захватывающий едва ли не всю ее, который поворачивается спиной к России и лицом к Западу. Представители высшего, образованного класса не только плохо знали или совсем не знали Россию, русский быт и русский народ, но и не хотели этого знать. Их образование, их интересы, их круг чтения, герои книг, темы обсуждения, — всё это было целиком взято из европейской культуры и не имело никакого отношения к России и к русским темам. «Европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским», говорил об этом Герцен1. И если, как утверждает Хомяков,
…принадлежать народу значит с полною и разумною волею сознавать и любить нравственный и духовный закон, проявлявшийся (хотя, разумеется, не сполна) в его историческом развитии. Неуважение к этому закону унижает неизбежно народ в глазах других народов2,
100
то, конечно же, ни о каком внимании со стороны послепетровской интеллигенции к нравственному закону, проявившему себя в историческом развитии России, не могло идти речи: если где она и искала бы этот закон, то лишь за границами России. Те, кто делал попытку в направлении, о котором говорит Хомяков, третировались как доморощенные чудаки или подозрительные азиаты. Такая судьба постигла Данилевского и классических евразийцев, в какой-то мере и Достоевского (именно в части такого рода его взглядов), — мыслителей, о которых мы будем говорить в этой книге. Изменилось ли положение с тех пор? Едва ли.
В самом начале «Былого и дум» Герцен рассказывает о своих детских годах и об отце. Тот, естественно, умел говорить и читать по-русски, но когда ему приносили газеты, в которых были напечатаны одни и те же новости и на французском, и на русском, всегда открывал французский раздел, «находя русский неясным»1. Когда он взял в руки «Историю государства Российского» Карамзина и начал просматривать ее, то тут же отложил со словами: «Всё Изаславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?»2… то ли дело римская или греческая история — это действительно имеет значение! Это было очень характерно для русской интеллигенции, возникшей в результате реформ Петра: ориентированность на Запад, плохое знание России и даже презрение к русскому. И история, и культура имеют свою логику. В современной России, после 1991 г., некоторые черты этого восстанавливаются — с определенными поправками, конечно же. Мы опять видим слой интеллигенции, ориентированной за Запад и питающей хорошо или плохо скрываемое презрение к русскому.
Итак, петровские реформы и появление класса русской интеллигенции. Кроме того, два взаимосвязанных события имели несомненное значение для постановки вопроса об идентичности России. Первое — это война 1812 года, когда русская армия, преследуя французов, дошла до Парижа. Этот европейский поход русской армии способствовал радикализации умонастроения офицерского состава. И второе — восстание декабристов 1825 г. Это был бунт внутри самого правящего класса — бунт дворянства против имперских порядков, против самовластия императора. С одной стороны, само это восстание надолго, на целый век, вплоть до революции 1917 г., стало примером
101
дерзского выступления против самодержавия, против царской власти. Такого прежде не было. С другой стороны, восстание было жестоко подавлено, декабристы подверглись страшному наказанию: Сибирь, каторжные работы. Была и казнь: пять человек были повешены, причем эта казнь ознаменовала начало правления нового императора — Николая I. Психологически это событие имело, возможно, большее значение, чем всё прочее. К тому времени в России уже давно не было смертной казни. Казнив декабристов, император поступил незаконно, во-первых, и, во-вторых, жестоко1. Это определило на весь XIX в., вплоть до революции 1917 г., крайне отрицательное отношение к царской власти со стороны интеллигенции.
Получилось, что интеллигенция, с одной стороны, плохо знала народ и во многом была противопоставлена всему русскому; с другой стороны, она была противопоставлена императорской власти (той самой, которая век назад ее и создала). Значение неприятия царской власти нельзя преуменьшать: на протяжении XIX в. оно проявлялось почти у всех представителей интеллигенции. К концу XIX в. стал возможен террор — попытки убить царя. Это оказалось психологически допустимым. Расстрел императорской семьи после революции завершил эту линию, которая началась с казни декабристов. Такое трудно было бы представить до петровских реформ, когда царь представлялся как необходимое условие правильного устройства общества.
В послепетровской России государственная власть теряет свою опору в лице верхнего, образованного слоя и вместе с тем порывает с собственными культурными традициями, выбивая из-под себя почву массированной и некритичной вестернизацией. Как писал П. П. Сувчинский по поводу ошеломляюще быстрого и как будто добровольного краха русской монархии,
…к моменту испытаний в русской монархии не оказалось той социальной крепости, культурной традиции и государственной воли, которые были бы в силах, многое «сдав» революции, в то же время удержать юридическую и историческую преемственность власти2.
102
Ситуация, сложившаяся в послепетровской России, оказалась, таким образом, искажена с разных точек зрения. Были нарушены естественные отношения в обществе и культуре между разными их составляющими: власть, интеллигенция, церковь, народ. Блага, которые Россия получила от Запада — образование, наука, т. д., — безусловно, были благами, России совершенно необходимыми, без которых она не могла бы развиваться. Но введены они были совершенно варварским способом. Вполне можно сказать — не европейским. Они были внедрены насильственно и привели не к развитию собственного общественного порядка, а к его деформации и слому. Революция 1917 г. стала отдаленным результатом этих петровских реформ — не самих реформ, конечно же, а тех искажений, которые они произвели в российском обществе.
Вернемся к положению интеллигенции в начале XIX в. С одной стороны, она плохо знает народ, до той или иной степени презирает его и не питается народной культурой. А с другой стороны, она резко противопоставлена императору. Совершенно особое положение русской интеллигенции, на которое указывали многие, видя в этом какую-то ее особую черту, будто бы возносившую русскую интеллигенцию над обществом, на деле определялось тем, что она оказалась классом без места: ей не было места в собственной культуре. Утерялась связь с народом1, с одной стороны, утрачена связь с императором и с властью в целом, с другой2. Осталась связь с западной культурой — но односторонняя, выраженная скорее как мнение о собственной европейскости, нежели как действительная европейская идентичность. Это отсутствие места очень хорошо подмечает Герцен:
Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность
103
и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме1.
Он говорит это о людях XVIII в., но эта характеристика, к сожалению, верна до сих пор.
Что могла и что должна была делать интеллигенция в этой ситуации, на кого и как ориентироваться? Я думаю, что с XIX в. и вплоть до настоящего времени ситуацию и состояние русской интеллигенции, затем советской, затем опять российской можно описать метафорой странничества. Странник — тот, кто странствует, меняет страны, но не имеет своего места. Он странен в двух смыслах: в смысле смены стран и в смысле странности собственного состояния2, отстраненности от своего места.
Русская интеллигенция оказалась в ситуации, когда она должна была всё время куда-то идти — куда-то туда, где сейчас не находится. Она должна была найти свое место — ведь у нее не было своего места, и ей только предстояло его обнаружить. По сути она оказалась во многом отрезана от естественной жизни культуры, не имея связи ни с народом, ни с императорской властью. Она была как будто отдельно — как будто отделена от культуры и общества. Но при этом, с другой стороны, она оставалась русской интеллигенцией; при всей своей «европейскости» была именно русской — не английской, французской
Среди людей, мне близких… и чужих —
Скитаюсь я — без цели, без желанья.
Мне иногда смешны забавы их…
Мне самому смешней мои страданья.
…
А толковать — мечтать с самим собой,
Беседовать с прекрасными друзьями…
С такой смешной — ребяческой мечтой
Расстался я — как с детскими слезами…
А потому… мне жить не суждено…
И я тяну с усмешкой торопливой
Холодной злости — злости молчаливой
Хоть горькое — но пьяное вино.
(Тургенев И. С. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 10. М.: Худ. лит-ра, 1956. С. 40–41).
104
или немецкой. А одна из русских черт — искание чего-то несбыточного, чего-то такого, чего нет, но что непременно должно оказаться очень хорошим. Град Китеж или Беловодье народной мифологии, фиксируемые письменно с конца XVII в., но вряд ли не бытовавшие до того в устной форме, выражают мечту о вечной гармонии — о каком-то неизвестном месте, куда надо уйти, чтобы обрести это совершенство; о месте неведомом, но совершенно точно существующем. Конечно, мечтательность — черта вовсе не только русского народа; многие, если не все, умеют мечтать. Вспомним Платона и его проект идеального государства; Томас Мор создает свою «Утопию» (1516); «Город солнца» Кампанеллы (1602). И так далее. Но что касается Платона, Т. Мора и других, — это, конечно, мечты, но всё же такие, которые, как предполагалось, могут быть осуществлены в реальности. Это — проекты действия, основанные на рациональной критике существующего порядка вещей и ставящие целью его замену на лучший. Платон ведь направился к тирану Сиракуз Дионисию Старшему, чтобы осуществить свой проект идеального государства и добиться установления справедливости: для него это был реальный проект. У Т. Мора встречаем критику происхождения имущественного неравенства, законов и эксплуатации, имеющую непреходящее значение. Кампанелла создавал свой проект как практический, научный проект переустройства общества. Существующие фаланстеры стали воплощением проекта Ш. Фурье. Или проект Канта «К вечному миру» — он осуществлен сейчас в виде Европейского Союза, после двух страшных войн, развязанных Европой. В отличие от всего этого, русское мечтание было неосуществимым и неосуществляемым. Это — мечта об идеальном; но настолько идеальном, настолько хорошем, что оно оказывалось и неосуществимым.
Если таков психологический портрет русской интеллигенции XIX в., то должно быть понятно, что представления русской интеллигенции и о народе, и о Европе были отражением ее по-русски несбыточных мечтаний скорее, нежели отражением реальности. Для русских интеллигентов таким предметом мечтаний: о чем они мечтали, откуда шел свет — где эта страна, в которой всё хорошо? — была, конечно же, Европа. Если народной мечтой стал град Китеж и Беловодье, то для образованного класса — Европа. Это расщепление мечты, и во времени (Китеж и Беловодье — золотой век утраченной гармонии, Европа — символ имеющего наступить, будущего всеобщего счастья), и в пространстве (Европа — на западе, Китеж и Беловодье — то ли на севере, то ли на востоке, за Уралом), стало символом
105
расщепления русского общества реформами Петра. Но в каком-то смысле расщепившаяся мечта была той же самой: Европа оказалась всё тем же прекрасным краем, в котором всё замечательно, но которого на самом-то деле интеллигенция не знала. Сознательно оставив русскость, интеллигенция сохранила ее главную черту: несбыточность мечтаний о прекрасной и далекой стране. Для нее Беловодьем и градом Китежем стала Европа.
Это значит, что отношение русской интеллигенции к Европе было не европейским — оно было русским. Хотя они считали себя европейцами — они оставались русскими в своем отношении к Европе, в котором не было ничего европейского. Европейский взгляд — это прежде всего критический взгляд. Это взгляд, который ничего не принимает на веру, требует аргументации и взвешивания всех доводов, ничем не обольщен и ни во что не верит просто так. Первым здесь всегда идет сомнение, и оно непременно должно быть устранено рациональным рассуждением и доказательством. Этого критического, рационального отношения к Европе среди русской интеллигенции XIX в. мы практически не находим. Это надо понимать, оценивая тексты XIX в.: для русских интеллигентов Европа во многом — не реальная Европа, а их собственная мечта. Прозрения вроде позднего Герцена — скорее исключение, чем правило1. Но тоже характерное: долго прожив в Европе, в разных странах, досконально узнав европейскую жизнь, русский интеллигент может изменить отношение к Европе на противоположное. Герцен писал: мы совершенно не знаем Европы; он считал, что Европа идет к затуханию, что человеческое там вытравлено. Реальная Европа оказывалась совсем не тем местом мечты, к которому стремились русские интеллигенты. В наше время многое повторяется: возьмем взгляды известного современного советского и российского логика и философа Александра Александровича Зиновьева (1922–2006). В свое время (1978) исключенный из партии и высланный из страны, Зиновьев, настроенный резко антисоветски, оказавшись и пожив на Западе, полностью разочаровался в нем, — точнее, в возможности осуществить там свою мечту. Через двадцать лет он вернулся в Россию (1999) и стал ярым критиком Запада и его индивидуализма, забвения человека. Он считал, что формы
106
общежития, развитые в Советском Союзе, показывают путь к будущему человечества. Не так уж непохоже на то, что происходило в XIX в. с тем же Герценом.
Если говорить об отдельных фигурах XIX в., то, безусловно, первым следует упомянуть П. Я. Чаадаева (1794–1856). Его «Философические письма», хотя и имели реального адресата, так и не были отправлены. Это — философский трактат в виде писем. Их восемь, и создавались они одно за другим, с существенными перерывами. Если брать «Философические письма» в целом, то Чаадаев стремился предложить новое, всеобъемлющее и окончательное, философское учение. Его основная идея заключается в следующем. Есть физический мир, представленный материальными вещами в пространстве и времени. И есть мир духовный: наша нравственность, наше сознание. Духовный мир не располагается в пространстве, его нельзя увидеть. Это — два разных мира, но законы, которые ими управляют, едины. В физическом мире действует закон всеобщего притяжения, гравитации. Это всем известно; но кроме этого, добавляет Чаадаев, есть еще закон «верчения» — закон первого толчка. Для того, чтобы тела пришли в движение, должен был быть первый толчок. Это всё — идеи, характерные для того времени: ньютоновско-лапласовская механическая причинность, которая предполагает исчислимость всего в мире. То же самое, считал Чаадаев, характерно для нравственной области, области сознания. Идеи передаются от одного человека к другому точно так же, как тела передают друг другу движение. Как момент движения сохраняется, так и идея сохраняется: передаваемая от человека к человеку и от народа к народу, идея продолжает свою жизнь вплоть до полного осуществления. В физическом мире властвует абсолютная причинность, там нет никакой свободы: планеты не выбирают, куда им лететь, они двигаются согласно законам всемирного тяготения. Точно так же и в нравственном мире, говорит Чаадаев, должна быть такая же необходимость, абсолютный нравственный закон, исключающий всякую свободу. Когда исчезнет весь индивидуализм, вся свобода и собственные поползновения — тогда всё будет хорошо, когда все будут полностью подчинены единому нравственному закону. Как в физическом мире необходим первый толчок — иначе ничто бы не двигалось; так и в духовном мире должен был быть первый толчок — иначе никакого движения идей не было бы. Этот первотолчок в духовном мире был совершен Богом, сначала через еврейских пророков. Мухаммад, пророк ислама, также участвовал в этом движении. И Чаадаев весьма положительно оценивает миссию Мухаммада,
107
находя ему место в общем движении идей в человечестве, первотолчок которым дал сам Бог1. Этой оценкой Мухаммада Чаадаев существенно отличается от других русских философов XIX в., из которых едва ли кто-то, за исключением В. С. Соловьева, находил возможность положительно говорить об исламе. Но главным для Чаадаева является, конечно же, христианство. Только здесь полностью раскрывается нравственная идея и предназначение человека. Однако это раскрытие осуществляется неравномерно у разных народов в разных частях Земли. Чаадаев считает, что есть народы, которые, в общем-то, не нужны в истории, поскольку в них эта идея не раскрывается никак2.
Он не видит ничего страшного в исчезновении подобных народов, как, к примеру, в истреблении североамериканских индейцев современными белыми переселенцами3: общечеловеческая идея от этого не терпит никакого ущерба. Ровно то же относится, собственно
108
говоря, ко всему нехристианскому миру, точнее, неавраамическому: во всем мире, за исключением иудаизма как предшественника христианства и ислама как его наследника (в смысле воспринятия «толчка»), не происходит движения этой идеи, ее развития; это значит, что в нем ничего не происходит, и он по сути не нужен. Высказывания Чаадаева звучат очень резко, даже непредставимо для нынешнего времени. Но Чаадаев прямо высказывает свои взгляды, без утайки: общечеловеческая идея беспощадна ко всем, в ком она не проявляется или не может проявиться. Позже Н. Я. Данилевский, говоря о его «Письмах», вскроет эту логику:
Если, в самом деле, европеизм заключает в себе всё живое, что только есть в человечестве, — столь же всесторонен, как и оно, — в сущности, тождествен с ним; если всё, что не подходит под его формулу — ложь и гниль, предназначенные на ничтожество и погибель, как всё неразумное, то не надобно ли скорей покончить со всем, что держится на иной почве своими корнями? К чему заботиться о скорлупе, не заключающей в себе здорового ядра, — особенно же, к чему стараться о придании большей и большей твердости этой скорлупе?1
Конечно, Чаадаев прямолинеен до наивности. Конечно, сегодня едва ли кто-то рискнет выразиться столь откровенно. Но дело ведь не в степени политкорректности; дело в логике. А логика общечеловеческого подхода к истории — и сегодня та же, что у Чаадаева, и другой быть не может. Именно потому, что это — логика. Для общечеловеческого ценно не всё — ни в коем случае не всё. Для общечеловеческого ценно только воплощение общей сущности, причем наиболее ясное и полное ее воплощение. Отсюда — и дух конкуренции, и стремление к совершенствованию, болезненное постольку, поскольку требует выбраковки всего, что не соответствует не просто общечеловеческому, но его максимально напряженному и яркому проявлению. Только логика всечеловеческого может быть альтернативой; только всечеловеческий взгляд может помочь остановить разгул нетерпимости, свойственный общечеловеческому подходу. А нетерпимость в нем неизбежна — опять-таки в силу простой логики: этот подход выдает одну, культурно-обусловленную позицию за некую над-культурную и потому универсальную.
Вернемся к «Философическим письмам» Чаадаева. Обо всех прочих народах он говорит мало, а о России — много. Его первое письмо
109
целиком посвящено России и заполнено крайне резкими высказываниями в ее адрес.
Как уже говорилось, Чаадаев считал, что создал новую философскую систему, которой предназначено завоевать мир, поскольку она решает все вопросы. В этом целостном философском контексте и следует рассматривать то, что Чаадаев говорит о Западе и о России. Запад для него — это место, где европейские народы последовательно осуществляли в себе христианскую идею единения. Он строит идеальный образ, идеальную конструкцию средневековой европейской истории, идеализируя всё, даже религиозные войны. Кровопролитные, продолжительные, разрушительные, европейские религиозные войны видятся Чаадаеву в розовом свете. Они прекрасны потому, что эти войны, с точки зрения Чаадаева, показывают силу идеи — а для Чаадаева главным служит именно то, как идея проявляется в человечестве. Для него римский папа — символ единения всех христиан (необычное утверждение в устах русского писателя). Игнорируя отношение к папской власти в православии и протестантизме, Чаадаев необыкновенно высоко оценивает сам институт папства — и говорит при этом о единстве христиан. Это — еще один пример того, как работает логика общечеловеческого: принимая один из изводов христианства за общехристианский, Чаадаев сминает, как катком, все прочие его конфессиональные варианты, отправляя в утиль исторически ненужного. Только всехристианское могло бы быть решением — но до этого еще надо подняться. Экуменизм также действует в логике общечеловеческого, а не всечеловеческого, пытаясь привести все варианты к единому знаменателю, а не сохранить все знаменатели.
Идеализация Европы Чаадаевым наиболее ярко проявляется в его отношении к папской власти. Здесь очень хорошо видно, что Чаадаев принимает католическую Европу как нечто единое и идеальное. В этом контексте и следует рассматривать то, что он говорит о России в первом письме. История обошла Россию стороной — таков главный тезис Чаадаева. В России ничего не случилось, во всяком случае, ничего путного и стоящего. Характерно выражение, которое, нередко с искажениями, повторяют с тех пор, хотя и без ссылки на источник: «Мы не принадлежим ни к одному из семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого»1.
110
Мы стоим вне времени, мы не затронуты всемирным воспитанием человеческого рода. И так далее в этом духе.
Интересно, что эти историософские выводы у Чаадаева соседствуют с рассуждениями совсем другого рода — о том, что в России нет бытового комфорта. К этому он возвращается многократно и повторяет на разные лады. Если продумать это утверждение, оно предстает как косвенное свидетельство стратегического провала петровских реформ. Европейская наука и образование, внедренные в России, не дали своих плодов в самом, видимо, главном, — в повседневной жизни человека, не сделали ее лучше и приятнее. Они не были усвоены органично… и до сих пор, как Чаадаев о бытовом комфорте, мы твердим о необходимости внедрять научные достижения в производство. Что-то не так в нашем общественном сознании и общественном механизме, коль скоро то, что должно служить движению вперед и улучшать жизнь, надо «внедрять», т. е. насильственно приспосабливать к исполнению той функции, которая должна была бы исполняться сама собой, органично.
Странное соседство двух мотивов, и в первом письме, и в последующих. С одной стороны, мотива всемирно-исторических судеб человечества, его грядущего преображения в результате приведения в полное действие божественного замысла и исполнения предназначения человеческого рода. И на этом грандиозном фоне — никчемность России, не участвующей во всемирно-исторических судьбах человечества. А с другой — постоянно повторяющиеся сетования на то, в России нет, в отличие от Запада, красивых вещей, безделушек и всего прочего, что так украшает быт. Как связано одно с другим и зависит ли одно от другого? Интересный вопрос, имеющий, как представляется, значение и для сегодняшнего времени. И не является ли этот бытовой дискомфорт, который проявляется на контрасте с европейским устройством жизни и на который жаловались многие представители интеллигенции, своего рода оправданием и стимулом широкомасштабных утверждений о никчемности России?
Чаадаев ощущает себя как своего рода пророк, провидящий судьбы человечества. Философические письма — не просто философский, но и религиозно-пророческий текст. Чаадаев неоднократно повторяет, что божественный разум обладает безусловным приоритетом над разумом человеческим. Поэтому он, с одной стороны, приветствует философию Канта, поскольку та показывает ограниченность человеческого разума. Антиномии чистого разума расцениваются Чаадаевым как ясное свидетельство неспособности человека постичь истину
111
собственными силами. А с другой, кантовский антиклерикальный настрой («Религия в пределах только разума») оказывается для него неприемлемым.
Объявление Чаадаева сумасшедшим, само по себе более чем абсурдное, стало для русской интеллигенции еще одним знаком ее отчуждения от императорской власти. Для самого Чаадаева, привыкшего быть в центре внимания, это было, безусловно, ударом. Неоконченная и неопубликованная при его жизни «Апология сумасшедшего» свидетельствует о некоторой растерянности автора и готовности взять назад ряд резких формулировок первого философического письма в адрес России и пересмотреть идеализацию Европы; но всё же в целом Чаадаев остается верен своей позиции. Мимоходом он высказывает уверенность в том, что России в будущем суждено решить социальные противоречия всего человечества и разрешить мировые вопросы1, и это оказывается самым значительным расхождением с позицией, выраженной в «Философических письмах». Однако в обоих случаях Чаадаев остается типичным русским интеллигентом. При всем своем западничестве русская интеллигенция на деле любит Россию: само отрицание исторической судьбы России выражает у Чаадаева обиду и боль за то, что Россия не имеет той миссии, которой достойна. С этой точки зрения расхождение между позицией Чаадаева в «Философических письмах» и в «Апологии сумасшедшего» минимально, если вообще есть: и там, и здесь выражена уверенность в великой миссии России, но в первом случае она выражена апофатически, а во втором — катафатически. Расщепление на эти две позиции, и в то же время их единство у Чаадаева предвосхищает будущее расщепление русской интеллигенции на западников и славянофилов. Если объективно это расщепление, как уже говорилось, было отражением глубокого и трагического раскола русской культуры и русского общества на два не сообщающихся слоя, верхний и низовой, то психологически оно и не было расщеплением: как писал позже Герцен на смерть
112
К. С. Аксакова в 1861 г., «у нас была одна любовь, но неодинакая… И мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»1.
Можем ли мы распространить этот взгляд на весь XIX в.? Насколько правильно нередко высказываемое представление о разделении русской интеллигенции на тех, кто готовил революцию и жаждал перемен в России, и тех, кто стремился сохранить существующие порядки? О них часто говорят как о социальных или политических мыслителях и деятелях, как если бы их идеи имели отношение к реальному социальному порядку. Но не оказываются ли и те, и другие русскими мечтателями, плохо знавшими и Россию, и Европу, и помещавшими свою мечту — первые в Европе, вторые в России? И в обоих случаях мечта оставалась неосуществимой. Симпатии русского образованного класса к революционерам в конце XIX — начале XX в., а затем и горячее принятие революции были проявлениями той же линии. Но после 1917 г. мечты слишком грубо были разбиты реальностью, и для большинства хватило нескольких лет для горького отрезвления, которое, к сожалению, пришло слишком поздно. Убежденный либерал и европеист, П. Б. Струве признавал в 1919 г.:
Мы потерпели крушение государства от недостатка национального сознания в интеллигенции и народе… Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай — забвения национальной идеи мозгом нации2.
Это стремление к утопическому абсолюту, помещенному ли на Западе, помещенному ли в России, и превращает русскую интеллигенцию в класс без места. Ведь по самой своей сути эта задача неисполнима: невозможно найти то, чего не существует, это идеальное общество, настолько идеальное, что ему нет места на реальной земле. В этом смысле они — странники, без собственной почвы, без собственного места. Они ушли, но ушли из ниоткуда; они остаются русскими,
113
но у них, как ни странно, нет места в русской культуре; они идут, но сами не понимают, куда идут. Конечно, это трагическая ситуация. Эту трагическую раздвоенность можно увидеть и в фигуре Пушкина. С одной стороны, «самый русский из русских поэтов», Пушкин представляется нам сегодня, когда мы оглядываемся назад, началом всего современного в русской культуре. А с другой стороны, его известное высказывание: «Черт догадал меня родиться в России… »1. Европейски образованный, но не пересекавший границ России и никогда не бывавший в Европе, он питался русской культурой и смог выразить русскую культуру. Так оценивали Пушкина Гоголь, Достоевский, Тургенев; и всё же даже в его фигуре мы видим это расщепление между европейским и русским. В этом смысле странниками, путешественниками, отправившимися за счастьем в неведомое, были многие русские интеллигенты и даже целые течения XIX в. Герцен и Огарев, то ли дети, то ли уже юноши2, дают клятву, которой остались верны всю жизнь. Это была клятва в том, что они пожертвуют своей жизнью в избранной ими борьбе за всеобщее счастье. Никак не меньше! Было непонятно, где это счастье, в чем оно должно заключаться; но ясным было одно — не в императорской России. Проведя бóльшую часть своей взрослой жизни в Европе, участвуя в судьбоносных для нее событиях, зная лично едва ли не всех исторических деятелей, организовав в Лондоне Первую русскую вольную типографию, начав издавать «Колокол», высоко оцененный Лениным, — Герцен разочаровывается в Европе. То, что он пишет о подлинной Европе — не утопии их мечты, а настоящей, узнанной им, — мог бы написать представитель славянофильства или классического евразийства — русских течений, впервые в истории сознательно и критически трезво отнесшихся к Европе. В этом смысле «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского говорят о том же самом: Европа не верна провозглашенным ею лозунгам свободы, равенства и братства; этот манок русского представления об идеальной Европе рассыпается в прах при столкновении с европейской действительностью. Народники уходят уже не в Европу; они уходят в русский народ. Это само по себе показательно:
114
русский народ для них — точно такая же неизвестность, точно так же придуманная вещь, какой была Европа для Герцена и его поколения. К концу века возникают многочисленные партии, революционные кружки, возникают социал-демократы и прочие — но это продолжение всё того же движения: попытки найти неосуществившееся и неосуществимое счастье.
Славянофилы, с одной стороны, противопоставлены западникам; но, с другой, их объединяет исходная любовь к России и желание найти для нее идеальную судьбу. Исходным вопросом для славянофильства был вопрос о том, почему Европа столь несправедлива к России; почему возникает это расщепление между Европой и Россией, которое их самих, как людей европейски образованных, не могло не беспокоить:
В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии, к ее страданиям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека1.
В этом смысле славянофилы делают шаг вперед в сравнении с теми, кого теперь будут называть западниками. Почему? Мы видели на примере и Чаадаева, и Герцена, что и у них на деле есть расщепление между русским и европейским. Что они называют европейским, является проекцией их собственно русских представлений — об идеальном устройстве общества, о всеобщей гармонии, о сглаживании всех противоречий. Эта неосуществимая русская мечта для них и оказывается Европой. Когда они сталкиваются с реальной Европой, они могут отшатнуться от действительности: это не то, что они называют «Европа» или «Запад». Таким образом, и у них есть расщепление русского и европейского — но они этого не осознают, не подвергают рефлексии, не ставят как вопрос. «Былое и думы» — очень грустная книга. Грусть сквозит в каждой ее строчке. Но Герцен не пытается осмыслить ситуацию, осмыслить причину этой грусти. Не подвергая сомнению саму свою мечту, он грустит о том, что она не может быть
115
осуществлена в действительной Европе и — главное — не может быть осуществлена при его жизни. Герцен разочаровывается в Европе так же, как раньше разочаровался в России. Но почему наступает это разочарование? — этого вопроса он не ставит. Почему Европа — не то место, где может быть осуществлена мечта? Славянофилы же по меньшей мере ставили этот вопрос1. Очарование у Герцена сменяется разочарованием. Чары, прежде владевшие им, рассеялись. Но очарованность — не рациональная позиция, не рациональное состояние. В этом смысле он, как и другие русские интеллигенты, остается странником, который не знает, откуда ушел, и не знает, куда идет. Противоположное направление славянофилов — не менее русское в смысле своей мечтательности; имеет ли оно карту и компас, чтобы знать, куда идти?
Окончание странничества русской интеллигенции связано не с западничеством и не со славянофильством. Оно связано с третьим направлением, впервые заявляющем о себе устами Н. Я. Данилевского. Это — направление, провозглашающее не обще-человеческое (неважно, на европейский ли манер или на славянский), а все-человеческое.
 |
6 Глава 5. Н.Я. Данилевский: категория «всечеловеческое» и концепция культурно-исторических типов |

|
116
Разделение русской интеллигенции на славянофилов и западников было не случайным, оно отражало трагическое расщепление русской культуры и русского общества на низовую, народную часть и на прозападную элиту. Такое расщепление не просто трагично; оно угрожает целостности культуры и ее естественному функционированию. Отчуждение между основой и навершием лишило основу благодатного влияния верховой культуры, в результате чего низовая, народная часть могла становиться лишь еще более косной и тем самым — еще более отчужденной от верховой части. Навершие же, не имея питательной почвы низовой культуры, тянулось к культуре западной — но по понятным причинам могло питаться не ее корнями, не ее основой, а лишь готовой, верховой культурой Запада. Странным образом интеллигенция, т. е. творческая и созидающая часть общества, отвыкала в России именно от этого: она теряла привычку творчески претворять низовое в элитное. Она привыкала — и привыкла — питаться готовыми продуктами элитной культуры Запада, вплоть до того, что и критерии оценки результатов культурного творчества также брались готовыми. Потеря главного качества верхового слоя культуры — способности претворять низкое в высокое и оплодотворять низкое высоким — стало главной чертой и главной трагедией русской интеллигенции, усиливавшей ее отчуждение от общества; взамен интеллигенция начала только себя и считать обществом. Это же стало и основной трагедией русского общества и русской культуры, приведшей к страшной катастрофе 1917 г. Черта эта не изжита до сих пор; главное же, что она и не осознана. Русская интеллигенция и сегодня подобна избалованному ребенку, который собирает крем со всех пирожных на чужих столах и отказывается от каш, супов и прочей «грубой» пищи стола собственного: отворачиваясь с презрением от низкого, морща нос, русский интеллигент
117
и сегодня не способен творить, он способен только пересказывать чужое. Потому что, повторю, главная функция верховой, образованной части общества — претворять низкое в высокое, и только такое перетворение и является собственно творчеством. Образцы такого творчества мы встретим у русских писателей XIX в., начиная с Пушкина; но не встретим их сегодня ни в русской философии, ни в русской литературе. Русские писатели XIX в. и были подлинными творцами — но не слой русской интеллигенции того времени, способной не творить, а только брать готовое и пересказывать. Пресловутая «особость» русской интеллигенции, боюсь, состоит именно в этой неспособности к творчеству.
Как живое тело стремится затянуть раны и зарубцевать порезы, так и культура пытается преодолеть этот страшный разлад. Появление фигуры Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885) — это попытка самоизлечения русской культуры. Первая в нашей интеллектуальной истории попытка преодолеть смертельное отчуждение между двумя частями культуры. Данилевский выразил, с одной стороны, антизападнические настроения, противопоставив себя крылу западников. С другой стороны, он выступил столько же ясно и против славянофилов. Он встал, таким образом, над обоими лагерями. Появление Данилевского — особая стадия в развитии русского самосознания. Значение этого мыслителя и его идей до сих пор по достоинству не оценено. Что уж говорить, если даже адекватно представить взгляды Данилевского мы по большей части не в состоянии или не хотим, выставляя его то славянофилом, то зачинателем теории цивилизаций-монад, не сообщающихся друг с другом. Невнимание к стадиям собственной мысли — всё та же ребяческая черта русской интеллигенции, до сих пор не повзрослевшей, несмотря на страшный опыт прошлого века. И если русская интеллигенция сохранила главное в себе — приверженность правде, правдолюбие, она должна найти в себе силы стряхнуть эту пагубную детскость, очнуться от сладких, удушающих грез.
Итак, основной вопрос: опирается ли русская культура на какую-то свою, собственную логику — отличную от субстанциальной логики европейской культуры, от процессуальной логики арабской культуры, от логики китайской культуры и т. д.? Или нет? Только если мы сможем понять это, мы заложим какую-то почву для ответа на вопрос о том, что такое Россия и как она соотносится с Европой; является ли Россия Европой или нет. Вопрос этот, с тех пор как он был поставлен и переосмыслен Данилевским, обсуждался в России,
118
обсуждается до сих пор и остается острым и не решенным. Вопрос этот важен, несомненно, для нашей страны, чтобы понять и осознать, чем она является, и сформировать свое отношение к миру. Однако он обсуждается сейчас не на должном уровне теоретической проработки и осмысления. После 1991 г. фактически воспроизведено, в новых и не лучших формах, противостояние полуторавековой давности — славянофилов и западников. Удивительно, как история повторяется и как расщепление русской культуры воспроизводит себя, несмотря на прошедшее время и семидесятилетний перерыв советского безгласия. Повторяется то, что, казалось бы, давно пройдено. — Пройдено, но не преодолено.
Глубинная причина этого — столкновение России с более развитой европейской цивилизацией, которая сегодня, как и тогда, представляет для нее вызов. Когда мы сталкиваемся с другим — неважно, идет ли речь о человеке или о целой культуре, — причем от такого столкновения невозможно уклониться, как в случае столкновения России с Европой, вопрос о самоидентификации встает с особой силой. Он может оставаться в тени до этого, но в такой момент оказывается ярко высвечен. В русской ситуации в этом смысле нет ничего необычного. Столкновение с более сильной, преобладающей цивилизацией имело место неоднократно в истории в разных сочетаниях. Подобная ситуация сложилась в XIX в. в арабо-мусульманском мире. Она была даже более острой, поскольку эти страны, в отличие от России, оказались в колониальной зависимости от Европы. Но здесь задавались те же вопросы, что и в России: кто виноват в этом? Мы сами негодные — мы, русские, или мы, мусульмане? В исламском мире даже появился некий аналог противостояния славянофилов и западников. И что делать? Кто-то верил, что надо навсегда отбросить ислам и исламское наследие, встать целиком на западный путь развития — так же, как и наши западники. Кто-то считал, что необходимо обратиться к своему культурному наследию и почерпнуть в нем творческие силы для того, чтобы развить собственно исламское общество и ввести его в современность — но именно исламское, не заменяя его на западное. Как это противостояние возникло в XIX в. в исламском мире, так оно и продолжается до сих пор, хотя исламский мир не знал эпохи социализма и правления компартии, как это было в России. Я хочу сказать, что этот вопрос: понять себя, свое место и определить себя по отношению к европейской культуре и цивилизации, — это не собственно русская проблема. Эта проблема — если не общемировая, то по меньшей мере важнейшая для многих народов и стран, которые
119
сталкивались с вызовом европейской цивилизации. Есть общая логика столкновения с более сильной культурой и необходимости дать на него ответ.
Но при всем том, что это — общая проблема и общий вызов, у России есть свои особенности, которые отличают ее от других регионов. Эти особенности вытекают из географической близости к Европе и близости этнолингвистической. Россия непосредственно граничит с Европой, тогда как Китай, Индия и даже исламский мир, при всех оговорках в отношении последнего, отделены от Европы. Русский язык относится к числу индоевропейских языков, что также способствует ощущению единства с Европой. Впрочем, эти общие соображения, обычно приводимые, требуют осторожного к себе отношения. Ведь и Индия, и Иран относятся к индоевропейскому, или арийскому, ареалу, и даже дали ему свои имена наряду с Европой. Русский язык сохранил многие слова и корни, характерные для санскрита. Однако на этом основании не будем же мы сближать Индию и Европу, Индию и Россию, Иран и Европу и утверждать, что это — некое культурное единство. И этнические, и языковые факторы важны. Но всё же более важными являются факторы культурные — то, как устроена культура, ее логика, проследить которую, как мы видели в Главах 2 и 3, необходимо до самой основы — до исходной интуиции, определяющей все стадии смыслополагания, устройство языка и формального мышления; иначе говоря, проследить культуру как разворачивание эпистемной цепочки в каждом ее звене.
Данилевский первым в России обратил внимание на важность культурного фактора, расценивая его как имеющий приоритет над языковым, этническим и религиозным. Верно, что он использует термины, которые несут этнический смысл: Данилевский говорит о славянстве, о германо-романской цивилизации. И всё же в толковании этих терминов: что такое «славянский» или «романо-германский» культурно-исторический тип, — он обходится без отсылки к этничности. Этничность для него — способ обозначить что-то другое, сущностное. Достаточно сравнить подход Данилевского с подходом Л. Н. Гумилева (1912–1992), чтобы увидеть различие, о котором я говорю. Для Гумилева центральным служит понятие этногенеза. Этническое взаимовлияние, вплоть до влияния — как мы бы сейчас сказали — на генетическом уровне оказывается для него главным.
Данилевский за свою жизнь провел по поручению правительства десяток длительных, многолетних экспедиций, в ходе которых обследовал все рыбные промыслы европейской части России; им
120
было составлено законодательство, регулирующее рыбные и тюленьи промыслы. Помимо многочисленных трудов, составленных по долгу службы и частью вошедших в упомянутое законодательство, частью же остающихся в архивах, при жизни Данилевский написал и опубликовал две научные книги по демографии и климатологии1, а также целый ряд статей, в т. ч. по политическим и экономическим вопросам, которые были объединены Н. Н. Страховым в увесистый сборник, опубликованный после его кончины2. Осталась незаконченной и вышла после его смерти книга «Дарвинизм», направленная против учения Дарвина. Сегодня, не отвергая это учение, мы понимаем, что дарвинизм нуждается в существенных уточнениях. В этом смысле книга Данилевского «Дарвинизм» содержит целый ряд интересных замечаний в русле критики дарвинизма. Но главное произведение Данилевского, конечно же, — его сочинение «Россия и Европа», начатое в 1865 г. и законченное к началу 1868 г. (журнальная публикация 1869 г., первое отдельное издание 1871 г.). Она носит подзаголовок, который порой опускают, а между тем он имеет существенное значение: «Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому».
Этот подзаголовок дает основание для двух устойчивых мифов о Данилевском, которые воспроизводятся и сегодня — мифа об антизападничестве и мифа о славянофильстве.
Первый из двух мифов — представление о том, что эта книга является антизападной, или антиевропейской. В целом фобия антизападничества весьма характерна для русских западников, и они, не задумываясь и уж, конечно, не вникая в тексты, чохом характеризуют как антизападнические (и потому, в их логике, неприемлемые и даже не заслуживающие рассмотрения) взгляды и славянофилов, и Данилевского, а затем — и классических евразийцев. Между тем славянофилы признавали великое значение Европы и самой по себе, и для России. Хомяков говорил, что мы всегда будем благодарны Европе за те неоценимые блага просвещения и науки, которые она даровала
121
России1. То же самое у Данилевского: он никогда не отрицал значения европейского культурно-исторического типа и того факта, что тот представляет собой одну из высоких ступеней в развитии человеческого духа — такое отрицание невозможно представить себе в контексте его теории культурно-исторических типов. Это же верно и для классического евразийства2. В общем, ни славянофилы, ни Данилевский, ни евразийцы никогда не говорили, что нужно отвергнуть Европу, отрицать ее. Они всегда признавали ее значение. Но «признавать значение» не значит «боготворить». Только этим (а вовсе не признанием значения Европы в принципе) они и отличаются от наших западников: те требуют не только признания, но и обожания Европы, исключая даже тень ее критики. Это и понятно: для них Европа — Беловодье и град Китеж, и они не принимают никого, кто свободен от этой мифологии.
Где истоки этого мифа об антизападничестве? Представление об антизападничестве славянофилов, Данилевского или классических евразийцев почерпнуто исключительно из высказываний их оппонентов. Уже говорилось, что русский образованный класс был не просто европейски образованным, но и полностью жил европейской культурой, и его представители считали себя европейцами. Они жили европейской культурой в том смысле, что говорили на европейских языках, в том числе и в быту; и физически, так сказать, этот класс нередко проживал в Европе. Эта часть образованного класса вполне твердо, как писал и Данилевский, и другие авторы, усвоила то убеждение, что всё, связанное с родной почвой, с русской почвой — всё это противно европейскому прогрессу и потому должно быть искоренено. Поэтому совершенно неудивительно, что и теория Данилевского, и позже теории классического евразийства встречали у этой части русского
122
образованного класса очень резкое неприятие, отторжение и вызывали ожесточенные нападки.
Конечно, это свидетельствует об огромной проблеме русской культуры, которая остается проблемой до сих пор. Это — проблема самосознания и не сложившейся, разорванной идентичности. Даже убежденные западники и европеисты не могут на самом деле по-настоящему, до конца отождествить Россию и Европу. Возьмем известное в XIX в. выражение «русский европеец», употреблявшееся в среде русских либералов. Они тем самым хотели сказать, что быть русским и означает быть европейцем, что русскость полностью проявляется в европейскости. Но, как отмечает Данилевский — и мы можем отметить то же самое — у настоящего европейца, скажем, француза, не возникает такой назойливой потребности отождествить себя с Европой1, поскольку он и есть европеец, это не является вопросом. Поэтому сам тот факт, что необходимо было отождествить русского и европейца в этом термине, который был тогда в ходу и который сегодня возрождается в либеральных кругах, свидетельствует как раз о том, что между русским и европейским есть разрыв. И до сих пор проблема «Россия и Европа», поставленная Данилевским, остается нерешенной, и мы так и не видим спокойного, идеологически не нагруженного, философски глубокого и научно обоснованного обсуждения вопроса о том, что такое Россия и что значит быть русским. Подлинно научное, свободное от идеологических натяжек и перехлестов обсуждение этой проблемы возможно только в свете теории трех уровней идентичности: национального, регионального и мирового, — увязанной с фундаментальной логико-смысловой эпистемологией (изучающей типы рациональности) и основанной на ней. В этой и следующих главах, а также в Заключении мы будем подробно говорить об этом.
Итак, антиевропеизм Данилевского в смысле отрицания и отвержения Европы — миф; он, конечно, не говорит, что надо отвергнуть всё европейское и жить исключительно своим. Тогда каково его отношение к Европе; принимает ли он ее безоговорочно? Нет. Он — не европеист, не западник, причем по двум причинам.
123
Главная заключается в том, что славянские народы, и прежде всего русский (который тогда составлял, по словам Данилевского, 70 % «славянского племени»), должны в будущем образовать и развить собственный культурно-исторический тип. Вторая же — тезис о том, что эта историческая миссия славянства, его историческое предназначение, не вызывает симпатии и восторга у европейских народов. Почему? Отвечая на этот вопрос, мы должны понять, как Данилевский оценивает европейскую цивилизацию. Для нее, говорит он, характерно стремление распространить себя по всему земному шару. Читая соответствующие страницы «России и Европы», написанные полтора века тому назад, мы как будто читаем о современной глобализации. Данилевский уже тогда предупреждал, что под лозунгом своего общечеловеческого характера европейская цивилизация будет стремиться охватить весь земной шар и навязать себя как образ жизни всем неевропейским народам. (Наверное, в этом можно увидеть светский вариант христианского миссионизма.) В этом смысле антиевропеизм Данилевского носит оборонительный характер. Иначе говоря, идея противостояния Европе — это не идея отрицания Европы, а идея обороны от ее экспансионизма. Но и это было воспринято в штыки в нашем образованном европеизированном сообществе. Многие обрушились на Данилевского с критикой; достаточно сказать, что В. С. Соловьев резко критиковал его за то, что он, по мнению Соловьева, отрицает единство человечества.
Конечно, у Данилевского немало горьких, резких заявлений в адрес Европы. Например, он говорит: да, Европа несет цивилизацию всем прочим народам мира, в том числе и на восток, в Россию. Но как эта цивилизаторская миссия Европы была бы лучше всего выполнена в России? В том случае, если бы русских в России не было и если бы эти земли можно было заселить европейцами1. Тогда дело цивилизации пошло бы на лад и не было бы сопротивления косного русского люда, который противится всей европейской цивилизации. Конечно, Данилевский заостряет вопрос; но сам вопрос поставлен правильно. Данилевский очень точно улавливает настроение, преобладавшее (и преобладающее до сих пор) в среде западников. А заключается оно в том, что русский народ в самом деле представляет собой помеху на пути европейской цивилизации. Поэтому, когда Данилевский
124
предлагает свой взгляд на то, какой должна быть Россия и как она может осознать себя в отношении к Европе, он затрагивает очень глубокую и очень болезненную проблему, которая остается проблемой до сих пор. Данилевский очень точно и беспощадно ставит диагноз взгляду Европы на Россию:
Поистине, горою, рождающею мышь, — каким-то громадным историческим плеоназмом, — чем-то гигантски-лишним является наша Россия в качестве носительницы европейской цивилизации… При нашей уступке, что Россия — если не прирожденная, то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она — не только гигантски-лишний, громадный исторический плеоназм, но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, т. е. европейской или романо-германской, цивилизации1.
И диагноз этот был блестяще подтвержден О. Шпенглером, утверждавшим, что Россия — псевдоморфоза2. Русская культура для Шпенглера — псевдообразование, заполнившее чужое, не принадлежащее ей место — то, которое должно быть отдано подлинно европейским формам. Псевдоморфоза — это заполнение чужого пространства и вытеснение жизнеспособного старой, отжившей формой. Россия, по Шпенглеру, — лишь отжившее, ненужное препятствие расцвету западной культуры, стремящейся заполнить новые пространства. Ценным в «Закате Европы» является понятие «морфология культуры», хотя оно теоретически слабее, чем понятие «культурно-исторический тип», введенное Н. Я. Данилевским. Что касается конкретных рассуждений о той или иной культуре, отличной от Европы, то эту книгу сегодня можно принимать всерьез не более, чем рассуждения Гегеля о незападных культурах.
Второй миф связан с вопросом о славянстве. Конечно, с позиций сегодняшнего дня идея славянского единства или того, что Россия должна возглавить славянские народы, выглядит утопичной. Однако следует принять во внимание как минимум два обстоятельства. Первое — то, что православие и славянские корни то и дело являют свое значение в иррациональном ощущении близости стран
125
в сегодняшней Европе; они оказываются не пустым звуком. Позиции Греции и Сербии по ряду вопросов могут служить примером. Когда в 1999 г. Югославия была уничтожена бомбардировками НАТО, самый массированный удар пришелся на Сербию. Однозначная антисербская позиция Европы и НАТО по вопросу Косово очевидна, ее невозможно отрицать. Поэтому в том, что говорит на эту тему Данилевский, далеко не всё является вымыслом или преувеличением. И вместе с тем Данилевский прекрасно понимал, что никакого действительного общеславянского единства нет1. Он много говорит и о Польше, и о ее антирусской позиции, он вполне осознает реалии. — Тогда какой смысл в разговоре о славянстве, если в действительности во времена Данилевского никакого славянского единства не было в Европе? Это — крайне важная вещь, на которой следует остановиться.
Если взять наиболее успешную на сегодня цивилизацию, европейскую, мы увидим, что идентичность выстраивается здесь на трех уровнях. Идентичность национальная: француз, немец, итальянец и т. д. Идентичность общемировая: все мы люди, все мы принадлежим одному миру. Но между национальной идентичностью (нижний уровень) и общемировой идентичностью (высший уровень) располагается средний — европейский — уровень идентичности. Для европейца, в общем и целом, нет противоречия между этими тремя уровнями, во всяком случае — существенного противоречия. Быть французом и быть европейцем не противоречит, при любых оговорках, одно другому. И быть выразителем общечеловеческого — это вполне естественное продолжение европейской культуры с ее собственной точки зрения. Эта точка зрения естественна потому, что до сих пор в Европе не научились различать средний и высший уровень идентичности, региональный и мировой. Только принимая и выдавая первое за второе, собственную региональную идентичность за общемировую, Европа продуцирует миф об общечеловеческом характере своей цивилизации. (Ровно то же, по Данилевскому, относится и к славянофилам: они выдают славянское, т. е. средний, региональный тип идентичности, за общечеловеческое, совершая ту же подмену, что и европейцы или европеисты.)
Слипание второго и третьего уровня, т. е. отождествление европейского и мирового (общечеловеческого), является мифом. Мифом
126
потому, что никакого приращения при таком слипании уровней между ними не происходит. Между тем только приращение может оправдать разделение уровней, само их существование. Однако в том, что касается сочленения первого и второго уровней, т. е. национального и европейского, для Европы дело обстоит совершенно органично. «Европа» не является вымыслом или мифом, общеевропейский уровень для европейских народов — это действительный, работающий уровень, включенный в культурный механизм. Взаимообмен между европейскими народами — это обмен через этот уровень. Он опирается, с одной стороны, на национальное, т. е. на то, что есть особенного у одного народа и что он может дать другим, а с другой — на действительно общие европейские корни. Это способствует единству, и в то же время — многообразию и взаимообогащению европейского культурного организма. Ощущение европейского единства — не случайное, подлинное, и Европа постоянно демонстрирует его и сегодня.
Если взять арабо-мусульманский мир, то и здесь мы увидим национальную идентичность (иракец, ливиец, сириец, т. д.); общеарабскую и/или общеисламскую; и общемировую. Также три уровня, с расщеплением второго на общеарабский и общеисламский. И здесь тоже средний уровень — общеарабская, или общеисламская идентичность — не пустой звук, поскольку есть общая история, общее культурное пространство, а потому — возможность взаимопонимания и взаимного культурного обмена и обогащения. Сегодня исламский мир далеко не лидирует, но в свое время он представлял собой первую в мире цивилизацию, далеко опережая Европу.
На этих двух примерах мы видим, насколько важны эти три уровня: местная, или национальная идентичность; срединная, или региональная; общемировая. Первый и второй уровни сообщаются органично и в случае Европы, и в случае исламского мира. Это мое наблюдение хорошо согласуется с утверждением Данилевского, сформулированным как четвертый закон исторического развития (см. ниже, с. 140), утверждающий, что для наиболее полного и успешного развития цивилизации необходим политический союз политически независимых государственных образований каждого из «этнографических элементов», составляющих культурно-исторический тип. Хотя Данилевский не различает ясно первый и второй уровни идентичности, и порой они у него как будто смешиваются, его четвертый закон исторического развития ясно свидетельствует о необходимости различения этих двух уровней идентичности и их взаимодействия. Вместе с тем
127
требование политической самостоятельности верно только в отношении современной Данилевскому Европы, оно неверно в отношении арабо-мусульманского мира классической эпохи, и потому должно быть сочтено исторически варьируемым, а не непременным. Правда, исламский халифат никогда не представлял собой монолитного политического целого, даже в своем идеальном (не реальном) виде политического проекта: соотношение центра и периферии, подчиняющееся другой логике, нежели субстанциальная европейская, давало широкую свободу периферии.
Но ни в Европе, ни в исламском мире мы не видим даже попытки теоретически поставить вопрос, осмыслить проблему соотношения второго и третьего уровней. Практически же (теоретически неотрефлектированно) для Европы характерен экспансионизм, проистекающий из того, что она слепляет второй и третий уровень и в силу этого принимает второй уровень за третий, собственную цивилизацию за общечеловеческую. Для исламского мира характерно традиционное геополитическое представление о трех регионах: да̄р ас-сала̄м «обитель мира» (собственно исламский мир), да̄р ал-х̣арб «обитель войны» (весь прочий мир) и с̱уг̣ӯр «бреши» (пограничье между двумя регионами), фактически снимающее с повестки дня вопрос о соотношении между идентичностью второго и третьего уровней.
Что может быть срединной идентичностью, идентичностью второго уровня, для России? Вот вопрос; и отвечают на него только Данилевский и классические евразийцы. Их ответы — разные, но это — ответы. Что касается всего крыла западников, то они, без рассуждений относя Россию к Европе (нельзя принять за серьезное обсуждение обычно приводимые доводы вроде языковой и этнической общности или же, что еще более удивительно, выбор Петра I — и на этом волюнтаристском выборе деспотичного правителя основываются западники, провозглашающие себя подлинными свободолюбцами и демократами, борцами с царизмом и тоталитаризмом! поразительная непоследовательность), утверждают для нее срединную общеевропейскую идентичность. Но такой идентичности у России нет — это попросту исторический факт. Россия не участвовала в европейской истории, событийной и интеллектуальной; у нее нет латинского наследия в смысле религии и в смысле языка. Нет ничего, что дало бы такой идентичности возможность функционировать.
Данилевский находит срединную идентичность России как общеславянскую. Он говорит о том, что у России особая судьба, особый уклад, особая организация жизни. В этом он существенно не отличается
128
от славянофилов; и это дало основание Н. Н. Страхову в послесловии к пятому изданию «России и Европы», вышедшему в 1895 г., после смерти автора, назвать эту книгу «катехизисом или кодексом славянофильства»1; это же лило воду на мельницу мифа о славянофильстве Данилевского. Но в отличие от славянофилов, считавших славянство общечеловеческим устройством, которое должно прийти на смену европейской однобокости материального и чисто рационалистического начала в Европе, а значит, слеплявших второй и третий уровень идентичности точно так же, как это делали западники, — в отличие от них Данилевский ясно различает второй и третий уровень идентичности. Только второй, никак не третий, представлен у него славянством: славянский культурно-исторический тип — один в ряду многих, он характерен именно для славян и не претендует на общемировую значимость. Столь же ясное разделение второго и третьего уровней идентичности России позже дадут классические евразийцы, иначе высказываясь о втором уровне.
Славянское единство, конечно, и во времена Данилевского было утопией, и в наше время это — еще большая утопия. Но давайте вспомним, что когда-то, во времена Канта, и Европейский союз был утопией. Конечно, аналогия не во всем выдерживается, и тем не менее: не всё, что кажется неосуществимым, не осуществимо на самом деле. Между Кантом и современностью — две мировые войны, начатые Европой; но как когда-то религиозные войны привели к появлению идеологии веротерпимости, так и убийственные европейско-мировые войны привели
129
к осуществлению этого когда-то утопичного проекта. Скорости философского мышления и политического развития далеко не всегда совпадают: мыслители могут видеть далеко вперед, хотя не всегда провидят действительные пути осуществления своих планов.
Данилевский начинает «Россию и Европу» с вопроса, который покажется крамольным для европеиста: действительно ли Россия — это Европа, и действительно ли Европа включает Россию? И чем оправдано представление о географическом единстве Европы от Атлантики до Урала? Данилевский указывает на очевидные вещи, о которых позже будут говорить классические евразийцы: искусственность, произвольность деления российского пространства Уралом на европейскую и азиатскую части. Уральский хребет не представляет собой заметной горной границы, да и то — существует лишь на севере, тогда как на юге граница между Европой и Азией проведена по не самым значительным рекам. Если горы отделяют части света, тогда и Индия должна быть сочтена частью света: ее отрезают горы куда более высокие, чем Урал; и Китай мог бы быть частью света. Поэтому начинать решать вопрос о том, Европа ли Россия, надо не с готовых отождествлений: Россия, мол, — Европа географически. Отвечать на этот вопрос надо с самого начала: надо понять, что такое Россия.
Этот же тезис позже выдвинут классические евразийцы. И тезис этот — совершенно верный. На долгое время, вплоть до сих пор, установился миф о «европейском выборе» России. Петр «прорубил окно в Европу» и тем самым раз навсегда установил это единство европейской и русской судьбы, утвердил европейский выбор России. Если спросить сегодняшних европеистов, чем обосновано представление о «европейском выборе» России, вряд ли они скажут что-то более вразумительное. Заметим, что, когда мы живем в своем доме, то внутри него мы никаких «окон» не рубим. Может понадобиться дополнительная дверь, проем и т. п., но не окно. Само выражение «прорубить окно в Европу» означает, что Россия Европой не является, иначе никаких окон не надо было бы рубить. Утверждение о «европейском выборе», и не только России, повторялось и повторяется как заклинание, как будто само это выражение уже решает проблему. Но если ты чем-то являешься на деле, речи о выборе не пойдет: мы же не скажем «европейский выбор» Франции, потому что она — европейская страна. Россия знала и другие варианты выбора, взять хотя бы «социалистический выбор», который долгое время считался раз навсегда сделанным. Уже два варианта выбора; потом, после 1991 г., у нас придумали,
130
будто Россия — это «мост» между Востоком и Западом. Еще один «выбор».
Всё это — скороспелые идеологические ярлыки, подменяющие серьезное обсуждение проблемы. А начинается оно с того, чтобы спросить себя: что общего есть у России и Европы? Например, есть ли у России общее с Европой наследие древнегреческой философии? Конечно, греческая философия была известна на Руси, но это не идет ни в какое сравнение с ролью Греции для формирования западноевропейской духовности и рациональности. Через патристику греческая философия, и особенно аристотелизм, вошла органичной частью в западноевропейскую ученость и западноевропейский рационализм. Этого не было на Руси. Католическая теология, глубоко рационалистичная, затем европейский критический, скептический метод, начиная с Декарта, как характеристика европейского мышления, — имеем ли мы аналог этого в русской истории? Конечно, нет.
Но как относиться к этому отсутствию, к этому «нет»? Европеист скажет: это означает безнадежную культурную отсталость России; именно в силу этого в Россию надо пересадить всё европейское. Славянофилы, Данилевский, а затем классические евразийцы говорят: это «нет» вовсе не означает «пустое место»; отсутствие европейской истории не означает отсутствие истории вообще. Здесь нет европейского потому, что мировоззрение опирается на другое основание. Что это за основание?
То, о чем говорят названные мыслители, можно выразить двумя терминами: «целостность» (не «целое» — именно «целостность») и «соборность». Если Западная Европа — это территория латинства, или католицизма, или западного христианства, то Россия — это православие, восточное христианство. И это — не только религиозное деление, но и разделение типов мировоззрения. «Соборность» — определяющая черта православия для названных мыслителей. Это выражается прежде всего в том, что, с точки зрения православия, полнотой истины обладает только вся Церковь целиком — Церковь соборная, собранная. Это — принципиальный момент, в котором западное христианство разительно отличается от православия. Соборность предполагает собранность всех. Это означает, что если не хватает хотя бы одного, то теряется полнота истины — сама истина тем самым утеряна. Всесубъектность и все-ценность (ценность каждого, невозможность пожертвовать хотя бы одним), таким образом, оказываются органичны для этого мировоззрения.
131
В западном христианстве, утверждают евразийцы, на месте этого мы видим догмат о непогрешимости (безошибочности) папы ex cathedra, т. е. когда он выражает вероучительные истины как глава церкви. Получается, что принцип соборности, который исторически и является исконно христианским принципом, устранен и подменен единоличной властью папы1. Это — вопрос не просто церковного устава, это — вопрос метафизический: разрушить соборность значит разрушить истину как всесубъектность. И с этой точки зрения, конечно же, «примирения» между православием и латинством не может быть: нельзя соединить несоединимое, соборность (всесубъектность) и единоличную власть (власть субъекта), истину как всесубъектность и истину как субъектно-ориентированную. Любая уния всегда оказывается на деле уступкой со стороны православия западному христианству. В этой единоличной власти папы многие русские мыслители видели возрождение идеи единовластия римских императоров.
132
Это первое. И второе, что имеет значение в этой связи, — это вопрос о соборности как со-участии мирян в литургии.
Из двух католических Церквей большее право имеет на употребление этого термина в применении к себе именно Церковь Православная, при сохранении таинства священства и принципа иерархичности, не знающая разделения на церковь господствующую и на мирян, а потому в богослужении имеющая поистине общее действие1.
Владимир Николаевич Ильин имеет в виду прежде всего причащение под одним видом для мирян и под двумя видами для священников в католичестве, тогда как в православии сохраняется причащение под двумя видами для тех и других, не разделяющее священников и мирян в этом действии причащения Святых тайн. В этом смысле православие сохраняет исконную соборность христианства, утверждая полноту благодати только за обоими видами причащения совокупно и вместе с тем соединяя мирян и священников в этом действии, подчеркивающим совокупность, соборность благодати, даваемой Церкви. В. Н. Ильин говорит о православии, которое сегодня мы назовем историческим, — до революций 1917 г. С тех пор многое изменилось, и сегодня ставится вопрос о том, как оживить дух соборности, не ограничивая его этим, пусть и центральным, моментом культа.
Идея соборности, таким образом, имеет глубоко религиозные христианские корни. Можно ли ее выразить на внерелигиозном языке? Можно ли увидеть в ней какой-то философий, логический смысл? Да, можно. Это — всесубъектность, когда каждый является неутрачиваемым субъектом. Однако, поскольку «соборность» — религиозное понятие, в силу этого и у славянофилов, и позже у классических евразийцев это философское, внерелигиозное, культурное содержание оказывается полностью погруженным в религиозный субстрат и не выделяется из него. А выделить его непременно нужно. Иначе мы оказываемся заложниками взгляда, который однозначно отождествляет русское мировоззрение, Россию — и православие. Это — не просто неверно исторически и теоретически, но и губительно для России в современных условиях. При всем — совершенно понятном — значении православия в истории России, Россия не является, с тех пор как она стала собственно Россией, монорелигиозной страной. Без ислама как мощнейшей культурной и мировоззренческой
133
составляющей невозможно представить Россию, как, впрочем, и без буддизма или иудаизма. Добавим к этому культуру и верования многочисленных народов и народностей России — что после этого останется от предполагаемой «православной идентичности», «православного выбора» России? Если мы предлагаем всем неправославным народам и культурам проект соборности как православной соборности, мы не встретим понимания, поскольку какое отношение православная соборность имеет к исламу, буддизму и т. д.? Навязывание православной идентичности, особенно силовое навязывание, через школьные программы и армейский устав, через политический ресурс высших органов власти чревато крайне печальными последствиями. А вот если мы предлагаем проект всесубъектности, когда любой субъект России является субъектом в полном смысле, где ничей голос не должен быть потерян (а ведь именно это — идея соборности: ничей голос не должен быть потерян, каждый голос важен для истины), — если мы предлагаем это в таком, уже очищенном от религиозного субстрата виде, тогда этот проект не только может, но и наверняка будет принят в России.
Значение Данилевского, кроме всего прочего, заключается в том, что он, признавая важность религии, не считал ее основным фактором для определения культурно-исторического типа. Он выделяет четыре, как он выражается, «разряда культурной деятельности», или «оси» культурно-исторических типов, несводимых друг к другу и не разложимых на более простые: 1) религиозная; 2) культурная в узком смысле слова (теоретическая, или научная; эстетическая, или художественная; техническая, или промышленная); 3) политическая; 4) общественно-экономическая1. Здесь, во-первых, «культура» понимается максимально широко, как обнимающая все виды совместной и индивидуальной деятельности человека, а во-вторых, как включающая религию в качестве своего разряда, т. е. чего-то подчиненного. (Не хватает лишь указания на логику культуры.) Данилевский делает, таким образом, крайне важный шаг, лишая религиозную идентичность ее определяющего влияния. И у славянофилов до него, и практически у всех после него, в т. ч. у классических евразийцев, преобладание православной или как минимум христианской идентичности очень заметно и играет определяющую роль. То же относится и к Достоевскому.
134
Здесь, конечно, есть противоречие между идеей соборности как всесубъектности (каждый должен быть субъектом: идея собирания) и идеей частной религиозной православной идентичности (она не может быть все-идентичностью, это — частная идентичность)1. Я думаю, что это — задача и для современной России: спокойное продумывание этого вопроса, поскольку и сегодня многие в вопросах идентичности не отделяют логическое содержание от конкретно-религиозного. Нам предстоит подняться на уровень подлинного смысла идеи соборности, идеи всесубъектности; а чтобы подняться на этот уровень, нам нужно освободиться от ограниченности конкретным религиозным содержанием.
Говоря об общей характеристике учения Данилевского, следует избегать гипноза расхожих квалификаций, которыми изобилует литература. Обычно говорят, что Данилевский проникся идеями немецких романтиков (культура как выражение духа народа) и создал цивилизационную теорию. Тогда Данилевского ставят в один ряд с такими фигурами, как Шпенглер, Тойнби и др. Но это неверно2. На каком
135
основании делается такой вывод? Конечно, для теории Данилевского центральным является понятие «культурно-исторический тип». Однако принципиальное отличие Данилевского от названных представителей цивилизационного подхода заключается в следующем. Представители цивилизационного подхода в той или иной степени говорят об органическом единстве и в этом смысле закрытости культуры. «Морфология культуры» Шпенглера точно улавливает внутреннюю согласованность частей культуры, связанных между собой; но именно в силу этого культура оказывается до определенной степени непроницаемой для другой культуры или как минимум чуждой для нее. Не случайно эту теорию ее противники обычно сравнивают с лейбнициевской теорией монад, хотя это сравнение далеко не во всем справедливо. Конечно, цивилизационный подход на деле далек от такого изоляционизма, но в целом верно, что культуры и цивилизации при таком подходе существенно отделены одна от другой. Противоположностью этого подхода служат универсалистские теории, авторы которых считают, что история человечества едина от истока до какой-то конечной точки, задающей направление прогресса. Это — более древний подход, он практиковался больше, чем цивилизационный. Своим истоком он имеет архаику — авраамическое представление о единстве человеческого рода и его прародителе Адаме, хотя идеология его скорее исключительно христианская. Как говорил Тейяр де Шарден, история — это движение к «точке омега», от сотворения человечества к его конечному совершенству. Естественно, что это движение оказывается единым, поскольку все когда-то были сотворены и все когда-то придут к царству Божьему: эта идея предполагает единый, универсальный прогресс для всего человечества. В философской нововременной мысли идея единого прогресса была очень ярко выражена, например, у Гегеля.
Какого же типа теория у Данилевского: цивилизационная, где отдельные цивилизации лишены общего движения, или же универсалистская, где единый исходный пункт, единый пункт назначения и единое движение от первого ко второму? Ни то, ни другое. Теория Данилевского представляет собой третий тип теории. Основание этого отмечено выше: и цивилизационные, и универсалистские теории не различают второй и третий типы идентичности, для них либо третьего не существует вовсе (как в крайних вариантах цивилизационных теорий), либо второй и третий слипаются (как в случае универсалистских теорий). У Данилевского есть ясное различение между этими двумя уровнями идентичности.
136
Данилевский не отрицает, что в человеческой истории осуществляется движение к полноте. Но ключевой вопрос: эта конечная точка, точка омега, представлена как инвариант, как некое абсолютное состояние для всех — и в то же время (вот оно, слипание второго и третьего уровней идентичности) состояние какой-то одной культуры, наиболее полно воплотившей в себе достижения всего человечества? Если да, то это и будет общечеловеческая культура. И во времена Данилевского западная культура заявляла о своем общечеловеческом характере, и сегодня, во времена глобализма, западная культура претендует на то же самое — на то, что она представляет собой единственно возможное наилучшее состояние человечества. Как христианские миссионеры в свое время хотели осчастливить, спасти дикарей-туземцев, принеся им христианство, так и современная западная культура хочет осчастливить весь мир, принеся ему наилучшее состояние — либеральная экономика, политическая демократия и т. д. Если это действительно так, тогда Фукуяма прав, конец истории наступил, точка омега — наилучшее состояние уже достигнуто, и нам остается лишь одно — пользоваться абсолютными достижениями человечества и стараться полнее воплотить в себе общечеловеческую культуру, приобщиться к общечеловеческой цивилизации.
Так бы оно и было, если бы было верно исходное предположение. Оно заключается в наличии инварианта, т. е. существующей в своем единственном варианте и везде повторяющейся культуры, наиболее полно воплощающей идею развития человечества. Однако это представление, с точки зрения Данилевского, нелепо и противоречит фактам. Взять любого человека и спросить: в каком возрасте этот человек наиболее полно воплощает себя как человека? Ни в каком! В детском возрасте максимально проявляется память, в молодом — дерзновение, в пожилом — мудрость, и т. д.: для каждого возраста — свое наибольшее проявление какой-то из сторон человека и его совершенства1. Значит, ни для какого человека нет такого состояния, когда он — наиболее полный, наилучший человек. Надо собрать максимальные достижения каждого возраста — тогда и будет наилучшее состояние. Значит, не какой-то идеальный тип, не какая-то единственная точка омега — а необходимость собрать наиболее полные достижения каждого. Собранность, соборность. Это — другая логика.
137
Точно так же Данилевский спрашивает: какое из растений наиболее полно воплощает идею растения? Никакое! В некоторых отношениях мох куда более совершенен и являет определенные стороны растения в большем развитии, чем деревья или другие считающиеся высокоразвитыми растительные организмы. Для Данилевского движение к наибольшей полноте — это не движение к единственному, высшему и конечному (христианскому) идеалу, а собирание отдельных наивысших достижений, которые осуществлены на каждой стадии развития и на каждой его линии. Это и есть всесубъектность: никакая стадия, никакой этап развития человечества и никакая из его цивилизаций не может быть отброшена как ненужная или преодоленная. Здесь нет никакого гегелевского снятия или абсолютного прогресса, лестницы движения к абсолютному идеалу, когда мы отбрасываем все пройденные ступени.
Эта идея созвучна, кстати сказать, тому умонастроению, которое сейчас распространено благодаря современной западной философии, и прежде всего французской — тому, что называют постмодернизмом. Ведь смысл того, о чем говорят эти мыслители, заключается в том, что нет абсолютного критерия истины и мерила, что нельзя сказать, например, «нормальное» или «ненормальное» состояние, «более развитые» или «менее развитые» народы, «правильный», скажем, брак или «неправильный» (однополый) брак: вторая часть этих противопоставлений не менее «правильна» чем первая. Это постмодернистское настроение, захлестывающее мир, — тоже в каком-то смысле собирание. Но разница та, что такой постмодернистский коллаж — это собирание разнородного без попытки образовать единство. А соборность, как она понималась в русской мысли, — это, конечно, собранность вокруг какой-то одной идеи, собранность в один организм. Непременная центрированность. Постмодернистский коллаж проигрывает соборности так же, как пестрая свалка бытовых отходов — неброскому лесу или степи. В первом случае — неограниченное разнообразие и никакого «подавляющего» центра, во втором — гармония многообразия с улаживающим и налаживающим (устанавливающим лад) центром. Но этот центр — не один из субъектов, собранных в соборную личность, а именно идея. Можно было бы сказать, продолжая ряд наводящих сравнений, что налаживающий дух соборности — это не папа ex cathedra, не отдельная личность; и это не центр принятия единоличных решений в мировом масштабе вроде Белого дома в Вашингтоне или Уолл-стрит в Нью-Йорке. Скорее подходы к идее соборности в международных отношениях можно увидеть в ООН, где Совет Безопасности допустимо сравнить с «хоровой личностью» классического евразийства и где право вето
138
оказывается негативным выражением требования слаженного решения (латинский consensus, консенсус, ‘согласие’). Точно так же и лес многоцентричен, где каждое дерево — центр своей экосистемы и где собранность экосистем достигается их слаженностью, со-жительством (греческий συμβίωσις, симбиоз, ‘совместная жизнь’).
Таким образом, тезис Данилевского заключается в том, что нет культур, которые потеряли свое значение в силу того, что появились «более развитые» культуры. Каждая культура на стадии культурно-исторического типа достигает максимального развития какой-то из сторон, как человек в разные возрасты достигает максимального развития какой-то из своих способностей. Поэтому никакой из культурно-исторических типов не может потерять своего значения. Это — самое главное в его идее культурно-исторических типов.
Уловив это, мы легко поймем, почему Данилевский отрицает наличие чего-то общечеловеческого. Выдавать максимальное достижение какого-то одного культурно-исторического типа за общечеловеческое значит отрицать максимальные достижения других культур в других областях. Это всё равно, что сказать, к примеру, что все люди должны быть стариками, поскольку старики — самые мудрые; тогда человек должен был бы сразу рождаться стариком.
Разберем теперь систему взглядов Данилевского с точки зрения ее центральных категорий.
Понятие «культурно-исторический тип» является основным в его концепции. Что это такое?
Данилевский не всегда и не до конца точен в формулировках, и если брать отдельные его высказывания, то легко можно принять какой-то один аспект того или иного понятия за целое. Необходимо иметь в виду всю совокупность его взглядов.
Основным формальным признаком границы культурно-исторического типа служит языковой. С этой точки зрения культурно-исторический тип — это языковая общность (Данилевский употребляет термин «племя», но в его устах он имеет тот же смысл, какой мы сегодня вкладываем в термин «общность»).
Языковая и этническая общность совпадают или, во всяком случае, тесно связаны; поэтому с точки зрения содержательной культурно-исторические типы — это «великие лингвистико-этнографические семейства, или племена, человеческого рода»1.
139
Как образуется культурно-исторический тип (КИТ)? Не любое «племя», т. е. не любая этноязыковая общность, может образовать КИТ. В целом все «племена» по своей роли в истории делятся на три группы. Первые — те, что образуют собственный КИТ; их Данилевский называет «положительные деятели истории». Вторые — те, что не образуют собственный КИТ, но время от времени, как кометы или иные «временно появляющиеся феномены», «смущают современников» и кладут конец одряхлевшим, уже более не способным к развитию цивилизациям. Это — «отрицательные деятели человечества». Как правило, это — кочевые племена или племена, приходящие на какое-то время в кочевое состояние. Некоторые племена, как «германцы или аравитяне», могут играть и первую, и вторую роль. Наконец, племена, не являющиеся ни тем, ни другим; они лишь составляют «этнографический материал» для более сильных племен, способных образовать свой КИТ1.
Чтобы некая этноязыковая общность образовала КИТ, она должна обладать необходимым «началом». Это — наименее проработанная часть концепции Данилевского, поскольку остается неясным, в чем именно заключается это «начало». Он, однако, указывает, что такое начало — двуединое: оно заключается для каждого народа, образовавшего КИТ, «как в особенностях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жизни, в которые он был поставлен»2.
Образование КИТ племенем, которое к этому способно и которое обладает необходимым началом, вовсе не является гарантированным. Это — открытый вопрос, и решение его зависит от напряжения сил каждого отдельного племени. Например, славянское племя, хотя имеет тысячелетнюю историю, до сих пор не образовало, по Данилевскому, КИТ в собственном смысле слова, и образует оно его или нет — вопрос открытый.
Таким образом, образование и развитие КИТ всегда — вопрос исторической свободы, а не необходимости. Данилевский неоднократно подчеркивает, что решение этого вопроса — дело творчества и самодеятельности каждого племени, и оно не предопределено никакими правилами и законами.
140
Это не значит, что законов истории нет. Их, по Данилевскому, пять. Они описывают свойства и динамику культурно-исторических типов, и о справедливости этих законов свидетельствует вся история человечества. Однако эти законы никак не предопределяют, создаст ли определенное племя собственный КИТ или нет и насколько успешным и процветающим он будет.
Дадим слово самому Данилевскому. Вот как он формулирует, по его выражению, «некоторые общие выводы, или законы исторического развития, вытекающие из группировки его явлений по культурно-историческим типам»:
Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группою языков, довольно близких между собою — для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, — составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества.
Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политическою независимостью.
Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций.
Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, только тогда достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, — когда они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему государств.
Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу1.
141
О первом законе мы говорили, разбирая понимание Данилевским культурно-исторического типа. Второй закон представляется достаточно очевидным, во всяком случае, в истории трудно найти свидетельства его несправедливости. Третий закон гласит, что начала цивилизации не могут передаваться от одного КИТ к другому. Именно начала — но не достижения цивилизации, которые как раз могут и должны передаваться (как именно — об этом ниже). Реформы Петра были наивным нарушением этого закона: он мнил, будто раз навсегда вошел в европейскую цивилизацию, взяв наскоком ее технические достижения. Он, а за ним и наши западники, даже не задумываются о том, что брать надо не плоды, а тот импульс, который их породил. Но если бы мы и захотели взять начала европейской цивилизации, нам бы это не удалось — начала не передаются, и в этом Данилевский прав. Если понимать, что начало и есть логика, задающая культуру и определяющая ее архитектонику, то этот закон Данилевского перестает быть загадочным, он скорее покажется очевидным. Исходную интуицию и основанную на ней логику разворачивания языка и теоретического мышления можно понять, но невозможно перенять, если речь идет о чужой культуре. Это представляется мне само собою разумеющимся, если только мы понимаем, что такое логика культуры, от ее интуитивного истока до развернутости. Мы можем понять процессуальную логику арабской культуры, если она будет внятно представлена, но чтобы перенять ее, необходима напряженная и многолетняя культурная практика. В этой логике необходимо упражняться, сознательно и подсознательно — и в сфере языка, и в сфере мышления, только тогда она может войти в плоть и кровь и действительно стать интуитивно применяемой. Это показывает, насколько грубо рассуждают те, кто думает, будто обсуждаемый взгляд Данилевского закрывает путь к взаимопониманию и взаимообогащению культур. Ничего подобного: общение и взаимообогащение разных КИТ не только возможно, но и необходимо — без этого, кроме всего прочего, не было бы всечеловеческого1. Закрыт
142
лишь путь обольщения ленивой возможностью взять чужое, избежав собственной тяжкой работы — взять готовое развернутое, готовый плод, вместо того, что разворачивать свернутое, работать над развитием собственной интуиции и ее воплощением в действительных произведениях постепенно развивающейся культуры.
Четвертый закон, который мы уже упоминали, фактически должен быть понят как устанавливающий различие между первым и вторым уровнем идентичности. Согласно этому закону, цивилизация тем успешнее, чем разнообразнее первый уровень; а для его разнообразия, считает Данилевский, необходимо, чтобы политические образования первого уровня не были поглощены вторым. Необходима, иными словами, их субъектность.
Говоря об этих законах, мы начали употреблять понятие «цивилизация» наряду с понятием «культурно-исторический тип». Каково их соотношение у Данилевского? Иногда он их как будто отождествляет, хотя на деле — и таких свидетельств в «России и Европе» больше — под цивилизацией он понимает наибольшую развернутость и развитость культурно-исторического типа, осуществление всех его возможностей. Об этом говорит пятый и последний закон исторического развития, гласящий, что КИТ в своем развитии может (хотя это и не гарантировано) достичь максимального раскрытия тех возможностей, которые несет в себе, тех сторон человеческого духа, которые не могут раскрыть другие КИТ. Тогда данный КИТ и создает высокоразвитую цивилизацию и осуществляет достижения, которые навсегда входят в «сокровищницу человечества» и которыми могут пользоваться другие народы. Но этот, хотя и кратковременный по историческим меркам, период максимального напряжения настолько истощает силы народов, образующих данный КИТ, что далее они приходят в упадок и никогда уже не поднимаются до той высоты, которой достигли на пике своих сил.
Таковы законы образования и развития КИТ. Не забудем, что только часть «племен человеческого рода» способна образовать КИТ. Другие выполняют роль отрицательного деятеля в истории, а иные — и вовсе лишь этнографического материала для тех, кто способен образовать КИТ. Имея всё это в виду, зададим вопрос: что думает Данилевский о России и славянстве?
Славянство есть термин одного порядка с эллинизмом, латинством, европеизмом, — такой же культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания
143
по отношению к Европе, — какой имели Афины, Спарта, Фивы по отношению к Греции1.
Так Данилевский ясно заявляет то, о чем уже шла речь неоднократно: славянство — такой же КИТ, как и все прочие в истории; его отличие в том, что он только может состояться, тогда как прежние уже состоялись. Всего их было десять, к которым надо прибавить два не успевших развиться в силу испанского завоевания Америки: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический; 4) индийский; 5) иранский; 6) еврейский; 7) греческий; 8) римский; 9) ново-семитический, или аравийский; 10) романо-германский, или европейский; а также 11) мексиканский; 12) перуанский2. Но славянство, несмотря на тысячелетнюю историю России и многовековую историю других славянских государств, еще не стало «положительным деятелем истории», не создало своей цивилизации. У нас всё впереди, говорит Данилевский, у нас за плечами только подготовка, но не само построение цивилизации. И это будущее для нас открыто — открыто в том смысле, что мы можем победить, а можем и проиграть. Ничего другого не дано; коль скоро славянство не попадает в разряд «бичей Божьих», отрицательных деятелей истории, функция которых — разрушать отжившие, отцветшие цивилизации, ему не остается иного выбора, как либо образовать собственный КИТ, либо стать материалом для чужого. Данилевский, а позже классические евразийцы зовут к первому; западники-европеисты предпочитают второе. Данилевский предельно ясен в своем диагнозе, до беспощадности:
Всемирно-исторический опыт говорит нам, что ежели славянство не будет иметь этого высокого смысла (образовать собственный КИТ. — А. С.), то оно не будет иметь никакого, — что вся тысячелетняя этнографическая подготовка, вся многовековая народно-государственная жизнь и борьба, всё политическое могущество, достигнутое столькими жертвами одного из славянских народов, есть только мыльный пузырь, форма без содержания, бесцельное существование, убитый морозом росток; — ибо цивилизация не передается (в едином истинном и плодотворном значении этого слова) от народов одного культурного типа народам другого. Ежели они по внешним или внутренним
144
причинам не в состоянии выработать самобытной цивилизации, т. е. стать на ступень развитого культурно-исторического типа — живого и деятельного органа человечества, то им ничего другого не остается, как распуститься, раствориться и обратиться в этнографический материал, в средство для достижения посторонних целей, — потерять свой формационный, или образовательный, принцип и питать своими трудами и потом, своею плотью и кровью чужой, более благородный прививок, и чем скорее это будет, тем лучше1.
Оправдано ли понятие «общечеловеческое» в смысле общечеловеческой цивилизации? Что представляет собой та «общая сокровищница» человечества, о которой часто говорит Данилевский?
Понятие «общечеловеческое» употребляется в «России и Европе» в двух смыслах. Во-первых, когда германо-романский, или европейский культурно-исторический тип заявляет о своей общечеловеческой значимости. Это — реальное, или политическое значение слова «общечеловеческий». Во-вторых, это — логическая конструкция, отвечающая на вопрос: возможно ли построение такой цивилизации, которая относилась бы к конкретным КИТ так же, как род к видам? В первом случае общее оказывается постулированным и навязанным как общечеловеческое, представляя на деле лишь конкретный КИТ, т. е. нечто отдельное, во втором — теоретически конструируемым. В обоих случаях вместо полноты и максимума получается неполнота, вместо свободного осуществления — принудительное «обстругивание» под какой-то образец.
Если какая-то одна, в данном случае — европейская, цивилизация заявляет о своем общечеловеческом характере, это означает отрицание права и способности народов, образующих все прочие культурно-исторические типы, на развитие собственного начала, на разворачивание собственной логики культуры. Такое обстругивание других может быть выгодно и даже представляться полезным только с точки зрения того КИТ, который выставляет себя как общечеловеческий.
Это, однако, будет означать неполноту вместо полноты проявления человеческих способностей, регресс вместо прогресса. Во-первых, потому, что тем самым возможности инологичного разворачивания культуры во всех прочих КИТ будут подавлены. А во-вторых, потому, что
145
и для «образцового», «общечеловеческого» культурно-исторического типа это будет означать обеднение, а не обогащение: подавив все прочие логики, заместив их своею, эта цивилизация лишит себя возможности заимствовать те достижения человеческого духа, которые сама выработать не в состоянии.
Так обстоит дело, если под «общечеловеческим» понимают цивилизацию, выработанную только одним из всех возможных культурно-исторических типов человечества. Если же понимать под общечеловеческой цивилизацией такую, которая соберет всё, что является общим для всех КИТ, т. е. будет для них родом, то такая цивилизация неизбежно окажется неполной, бескровной. (Сегодняшние попытки построить «общечеловеческую» этику, религию или политику — не что иное, как подобное бескровное конструирование.) Данилевский уподобляет такую цивилизацию понятию рода в биологии: признаки, общие всем видам рода, всегда будут беднее, чем любой отдельный вид, и не могут существовать в действительности как только род.
Но род можно понимать и как способность всегда присоединять к общему, общеродовому конкретное видовое:
В первом смысле род есть только общевидовое, и в этом смысле понятие родовое будет ýже и ниже всякого видового в отдельности; во втором же смысле род будет всевидовое, и потому шире и выше всякого вида1.
Общечеловеческая цивилизация в логическом смысле, как собрание только общих, родовых черт, невозможна, неосуществима, как невозможно существо, воплощающее в себе исключительно родовые признаки, например, кошачьих, без всякой примеси видового. Отсюда вывод:
Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною неполнотою. Иное дело — всечеловеческое, которое надо отличать от общечеловеческого; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного, во всех местах и временах
146
существующего и имеющего существовать; оно несовместимо и неосуществимо в какой бы то ни было одной народности; действительность его может быть только разноместная и разновременная1.
«Всечеловеческое» у Данилевского — не только разновременное и разноместное собрание максимальных достижений всех КИТ (т. е. максимальных проявлений человеческого духа), но и актуальное восприятие таких достижений любым из народов2. Эти максимальные достижения не могут осуществиться в одном месте и в одно время, т. е. в одной цивилизации, — такое возможно только для бесконечного, а не «для коллективного и всё-таки конечного существа — человечества»3. Поэтому «прогресс» и есть, по Данилевскому, «разносторонность проявления человеческого духа»4, т. е. движение по разным направлениям, осуществление заложенных в разных КИТ способностей. Поэтому же
…общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, также не существует и не может существовать, потому что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошлом, настоящем и будущем5.
Является ли отрицание общечеловеческого также и отрицанием прогресса в смысле движения вперед, отрицанием взаимообщения и взаимообогащения культур? Нет. Именно появление и развитие
147
прежде не существовавших культурно-исторических типов обогащает человечество: появляются всё новые максимумы отдельных сторон жизни, достигнутые в соборном опыте человечества. Данилевский использует выражение, которое стало общеупотребительным: он говорит об «общей сокровищнице» человечества1. Общая сокровищница человечества и есть собрание наивысших достижений отдельных культурно-исторических типов. Греки достигли такого максимума, который невозможно превзойти, в скульптуре, в искусстве изящного: это — достояние всех, и все могут пользоваться им, беря из общей сокровищницы. Значит, все мы можем пользоваться этим и не тратить силы на то, что уже осуществлено. Римский гений — это гений правового и государственного строительства, и его достижения также принадлежат общей сокровищнице человечества. Европа, начиная с Возрождения, дала максимальное развитие наук. Это также принадлежит общей сокровищнице человечества. Таким образом, каждый делает то, к чему наиболее способен. — Как человек в разном возрасте проявляет то, к чему он наиболее способен в этом возрасте.
Здесь, безусловно, есть движение вперед, приращение и взаимное обогащение — но это не движение вдоль одной линии. Это — движение вдоль разных линий. Такое движение вперед вдоль разных линий (а не одной только) воплощает в себе идею соборности, или идею всесубъектности: необходимо собрать всё, нельзя утратить ничто из того, что было.
Из теории культурно-исторических типов также ясно вытекает то, о чем уже говорилось: Данилевский считает одинаковым заблуждением как славянофильство, так и западничество. Европеисты полагают, что общечеловеческая цивилизация воплощена в Европе и ее надо распространить на всё человечество, а славянофилы, признавая общечеловеческую цивилизацию, считают, что ее должны воплотить не романо-германцы, а славяне, и эту цивилизацию надо распространить на весь мир. На это важно обратить внимание, поскольку позиция самого Данилевского состоит в следующем: славянофильство и западничество одинаковы как заблуждения. Неправильному истолкованию этой позиции Данилевского способствовало крайне пренебрежительное и невнимательное отношение к его книге со стороны
148
русских европеистов: всё, что ставит под сомнение европеизм, для них заранее неверно и не может быть ничем иным, как манифестом отсталости.
Будущая славянская цивилизация, таким образом — лишь еще один культурно-исторический тип, это вовсе не общечеловеческая цивилизация. Ее отличает, впрочем, целостность. В контексте теории Данилевского это означает, что эта цивилизация, возможно (речь только о проекте), осуществит все четыре «оси», или «разряда культурной деятельности» (см. с. 133), культурно-исторических типов.
И последнее, о чем следует сказать — как Данилевский видит типы взаимодействия культур1. Их три. Первый он называет «колонизация», когда где-то образуются поселения представителей другой культуры. Например, немецкая слобода в том или ином городе России — это пример колонизации. Колонизация может быть полезна для принимающей культуры, но в очень ограниченном масштабе и для решения узких задач, она не имеет широкого значения. Второй тип взаимодействия — «прививка». Когда к дикой яблоне прививают черенок культурного растения, привитая ветка приносит большие, спелые плоды. Это — более глубокое взаимодействие. Его примером может служить организация в России Академии наук и учреждение университетов по европейскому образцу: это была прививка европейской учености и образования. Такие привитые ветви, говорит Данилевский, могут давать очень вкусные плоды. Но не надо забывать и об обратной стороне: привитый черенок не меняет материнское дерево; напротив, он высасывает из него соки и не дает ему развиваться. Материнское древо остается дичком. В этом есть глубокий смысл: когда мы заимствуем чужие достижения, мы не усваиваем тех творческих сил и тех энергий, которые породили эти достижения. Это разные вещи: сами достижения — и творческий импульс, из которого они растут. Поэтому такого рода прививки, если они остаются прививками, обрекают культуру на вечное отставание: привитая культура оказывается навсегда позади более развитой культуры, пытается ее догнать — а та всё время уходит вперед. В послепетровскую эпоху Россия всё время пытается догнать Европу — а Европа всё время оказывается впереди. Мы бежим за ней, подгоняемые мифом «модернизации», но Европа всё время обгоняет нас; так оно и будет впредь. А чтобы не было,
149
нужно перейти к третьему типу взаимодействия культур, когда чужие достижения становятся не прививкой, а удобрением для почвы собственной культуры. Вот тогда они входят в само материнское тело культуры, питая его целиком. Но это — более сложная задача: надо не просто взять готовые достижения, как то делал Петр, заимствуя готовую европейскую науку и технику. Необходимо эти достижения переработать, претворить; совершить ту умственную и духовную работу, которую провела культура, породившая эти достижения. Взять не просто готовые достижения, а взять их и проделать всю ту работу, которую проделала культура, произведшая этот результат. Только тогда мы можем надеяться, что получили импульс к творчеству и сможем породить собственный результат, а не воспроизвести чужой. Собственный результат, который будет уже, наверное, другим, чем тот, что породила та культура. Если основание и начальный период функционирования Российской академии наук были типичной прививкой, даже с признаками колонизации (завозные профессора и студенты), то к XIX–XX вв. научная жизнь понемногу приобретает признаки третьего типа взаимодействия культур, выделенного Данилевским. И именно тогда, когда эта привитая форма превратилась в «удобрение», питательный сок для привитой культуры, — именно в этот момент, как гром с неба, обрушилась «реформа» РАН 2013 г., целью которой было заменить этот третий, плодотворный для России этап взаимодействия с западной культурой — вторым, новой прививкой! — и опять с элементами колонизации: нас вновь призывают, стимулируя это на государственном уровне, импортировать профессоров, лишь бы они были завезены с Запада. Что это, как не консервация отставания России, которую обрекают на вечно-второй тип взаимодействия с Западом, блокируя действительно плодотворные для нее формы культурного обмена?
Третий тип взаимодействия культур — наиболее трудоемкий. Здесь надо не взять готовое, а по-настоящему трудиться, чтобы разбудить собственные творческие силы. В сегодняшнем мире нет другого пути для культуры, которая хочет сохранить себя, не уступить, не раствориться в условиях глобализации. Западники и европеисты, считающие себя прогрессистами, на деле оказываются ретроградами, поскольку хотят вечной консервации второго типа взаимодействия культур — прививки, обрекающей страну на вечный проигрыш в игре в догонялки. Да, прививка обеспечивает быструю отдачу, почти мгновенный результат, но опасна тем, что приучает жить на готовом. Мы стали слишком ленивы, вовсе отвыкли от «грубой» пищи,
150
утратили способность к интеллектуальному пищеварению и потому не способны к третьему типу взаимодействия культур. Куда проще взять готовое, чем развивать свое. Проще пересказывать на все лады европейских мыслителей, чем самому быть мыслителем; например, проще взять скороспелую (зато западную) теорию мультикультурализма, чем самому осмыслить вековой опыт сосуществования многих культур и народов в России. И так далее: добровольное интеллектуальное рабство поразительно в самой будто бы свободолюбивой части нашего общества.
 |
7 Глава 6. Ф.М. Достоевский: «всечеловеческое» и всемирная отзывчивость |

|
151
Еще одно толкование категории «всечеловеческое» встречаем у Ф. М. Достоевского (1821–1881) — современника Н. Я. Данилевского. Достоевский происходил из древнего боярского рода, однако родовитость едва ли сказалась на его образе жизни. Четыре года на каторге после осуждения по делу петрашевцев и гражданской казни оказали, безусловно, огромное влияние на писателя. Интересно, что по делу петрашевцев проходил и Данилевский, хотя он после стодневного заключения в Петропавловской крепости был выслан в Вологду, а не приговорен к казни: судьбы этих двух мыслителей оказались связаны в этой точке. Данилевский — особая, т. е. особняком стоящая, фигура в русской литературе XIX века. Его невозможно типизировать, он не похож ни на кого. Достоевский — не только писатель, но и общественный мыслитель. Конечно, он — не философ в смысле европейской традиции профессиональной философии. Однако его размышления и поиски имеют, безусловно, философское значение и интересны для нас в этом качестве.
Знаменитая «Пушкинская речь» Достоевского была произнесена на заседании Общества любителей русской словесности 8 июня 1880 г. Как известно, эта речь произвела огромное впечатление на слушателей, что было, вероятно, неожиданностью и для самого Достоевского. Она была встречена овациями и западников, и славянофилов. Сам Достоевский думал, будто его речь окончательно примирила эти два лагеря, показав мнимость их противостояния. Однако это было скорее впечатлением момента, непосредственным влиянием его слов, нежели подлинным снятием противоречий. На деле Достоевский понимал, не обольщаясь мгновенным эффектом, что противоречия гораздо серьезнее, нежели то, что можно было бы сгладить одной речью. Он пишет об этом в своем «Дневнике»; и он оказался прав. Со стороны лагеря западников, в частности,
152
со стороны профессора петербургского университета А. Д. Градовского, были выдвинуты острые возражения1.
Достоевский рассматривает Пушкина как ключевую фигуру в развитии русской литературы XIX в. Не случайно он начинает свою речь словами Гоголя, который говорил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа»2. В чем же состоит этот «русский дух»? Как подчеркивает Достоевский, и до Пушкина были великие поэты, и нельзя представлять дело так, будто бы Пушкин совершил какой-то великий переворот в литературе. О Пушкине часто говорили и говорят, что он перерабатывал европейские мотивы, подражал Байрону. Однако понятно, что простое подражание европейским поэтам не превратило бы Пушкина в ту фигуру, какой он был3. Значение Пушкина с исторической точки зрения заключается в том, что если бы его не было, не было бы, скорее всего, и всей той плеяды великих русских писателей, которые появились в XIX в. Эта его роль определена тем, что Пушкин был первым из литераторов, кто точно схватил и изобразил русские характеры. Иначе говоря, в творческой форме, через литературные образы Пушкин ответил на вопрос «что значит быть русским» — вопрос, разгадку которого с таким трудом на протяжении XIX в. искали философы и представители общественной мысли. Поэтому Достоевский и возвращается к Пушкину, поскольку уже он дал в неповторимой полноте русские характеры, русские типы. С этой точки зрения подражательство или воспроизведение каких-то прежде бывших форм теряет всякое значение. Дело вовсе не в этих формах; дело в том, что именно дает нам Пушкин, используя эти формы. Никакой подражатель не мог бы с такой глубиной и с такой ясностью описать русские типы, как это сделал Пушкин. Вот почему Достоевский говорит, что Пушкин — глубоко русский поэт,
153
он укоренен в русской почве — при всей его широкой европейской образованности.
Какие же это типы?
Это, во-первых, тип скитальца. Конечно, этот тип встречается не только в России; выведен он и Байроном. Однако отличительная черта русского скитальца заключается в том, что в своих скитаниях он стремится дойти всегда до самого предела, до края. Таковы скитальцы, которые уходили к цыганам, бросая привычные формы жизни и думая, будто там, в среде этого «дикого» народа, они могут найти то, что отсутствует в их жизни. Это — тип Алеко из поэмы «Цыгане». Цыганщина в русской жизни XIX в. — не свидетельствует ли действительно об этом? Это не только разгул, не только «раззудись, рука»; это и залихватское скитальчество. Уход к цыганам был переменой места, физическим, так сказать, уходом. Однако точно таким же скитальцем оказывается современный Достоевскому русский интеллигент, который уходит искать счастья не к цыганам, а в социализм1. Он не меняет места жительства; однако, погружаясь в социалистические идеи, он также оказывается скитальцем.
Что уходя к цыганам, что уходя в социализм, русский скиталец ищет не просто удовлетворения собственных желаний. Это — попытка найти не свое счастье, но обязательно — всемирное счастье. Точнее, собственное счастье и состоит в этой всемирности искомого, чаемого счастья. Как говорит Достоевский: русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. И добавляет: «Дешевле он не примирится»2. Это — очень ироничные слова. И Достоевский весьма ироничен в отношении этого типа русского скитальца. Этот скиталец не укоренен ни в чем, поэтому всегда думает, будто
154
бы абсолютное, всемирное счастье — где-то там, куда необходимо направиться, покинув свое место. Конечно, отнюдь не все русские люди — скитальцы подобного типа. Большинство как раз безмятежно живут, не беспокоясь, обычной жизнью мещан. Но всегда непременно находятся такого рода скитальцы, отправляющиеся за всеобщим счастьем. Таким скитальцем оказывается и Онегин. Не случайно, говорит Достоевский, он всё время перемещается, меняет места по мере развития романа. Эти русские скитальцы, являющиеся в разных обличьях, разделяют ту общую черту, что они — как былинка, которую может сдуть ветром, не укоренены ни в чем.
Этот русский скиталец, говорит Достоевский, не понимает, что правда не где-то там, куда он хочет всё время отправиться: к цыганам, в социализм, куда-то еще, — а правда в нем самом1. «Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить»2. Заплатить, естественно, не деньгами — заплатить работой над собой. Правда — в его душе, где он и должен был бы ее искать; будь так, не надо было бы никуда уходить, не нужны были бы скитания. Но русский скиталец не может этого понять, поскольку оторван от собственной, родной почвы, от почвы своей культуры, говорит Достоевский.
Этот тип русского скитальца появляется в начале второго столетия после петровских реформ. Об этом мы уже говорили: за эти сто лет в русском обществе оформилось глубокое расщепление на верхнюю, элитарную, интеллигентскую, европеизированную часть — и массовую народную. Человек, принадлежащий верховому слою — это человек «европейской культуры», со всеми его благими побуждениями: ведь он хочет блага, причем очень по-русски — всемирного блага, блага для всех, — но не может понять, где найти его. Не может потому, что не имеет корней в собственной культуре — он не может питаться ее почвой. И не случайна судьба тех двух скитальцев,
155
которые персонифицированы в образах Алеко и Евгения Онегина. Алеко изгоняем цыганами, которые говорят ему «Оставь нас, гордый человек!». Они его не принимают, поскольку у них-то как раз есть своя почва. Они живут своей жизнью, и хотя их считают диким народом, их жизнь органична, ее уклад вполне соответствует их душевному складу. Разителен контраст между ними — и представителем образованного общества, не укорененного в собственной культуре: он попадает к «диким» цыганам, но оказывается, что их укорененность, их органичность ставит их выше его. Он сдуваем — они прочны. То же самое относится к Евгению Онегину: он отвергнут Татьяной, когда, увидев ее в свете и оценив, ищет взаимности — но она его отвергает точно так же, как цыгане отвергли Алеко. И отвергает по той же причине, говорит Достоевский. Татьяна понимает, что Онегин — всего лишь былинка, не укоренная в почве; подует ветер — его не станет1. Беспочвенность Онегина имеет и другую сторону: он не способен на постоянство и подлинность оценки, ему нужно одобрение внешней инстанции. Он сам не способен оценивать и ценить; ему нужно, чтобы кто-то за него это сделал. Не вообще кто-нибудь, конечно же, а тот, кто для него выступает источником оценки и, главное, самих ее критериев. Бóльшую беспомощность, наверное, трудно представить:
О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив её робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного2!
Это духовное лакейство — оборотная сторона беспочвенности.
Татьяна — совсем другого типа характер, нежели Онегин. Подлинный герой поэмы, с точки зрения Достоевского, — Татьяна; поэму стоило бы назвать «Татьяна», а не «Евгений Онегин», говорит он. Татьяна — глубоко русский характер, укорененный в русской почве. Не случайно первая ее встреча с Онегиным — в деревне, в глуши, в погруженности в русскую жизнь. Но ее русскость, конечно же, не внешняя; не в том дело, что она живет в деревне — позже она окажется в свете, в Петербурге. Дело в другом. В чем же? Это — куль
156
минационная точка речи. Представьте, говорит Достоевский, что некий архитектор предлагает вам проект всемирного, абсолютного счастья. Окончательное, полное счастье для человечества; исполнение христианского идеала — царство Божье на земле. Однако в основание этого прекрасного здания нужно положить лишь одного замученного старикашку. В основание всеобщего счастья, иначе говоря, нужно положить несчастье лишь одного человека — да и какого человека? никчемного старика, мужа Татьяны. В «Евгении Онегине» так вопрос не стоит; это Достоевский ставит вопрос так. Но он именно так видит этот характер и его значение. Татьяна отвечает на этот вопрос в глубоком согласии с русским характером, говорит Достоевский. Она отвечает отрицательно: не может быть счастья на несчастье другого, даже если это счастье — всеобщее, а несчастье — отдельного человека. Не нужно всемирное счастье, если в его основании лежит хотя бы одна слезинка ребенка. В главе «Бунт» Пятой книги Второй части «Братьев Карамазовых», непосредственно предшествующей главе «Великий инквизитор», едва ли не слово в слово повторено то, что сказано в «Пушкинской речи» (два текста написаны почти одновременно). В «Братьях Карамазовых»:
— …Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!
— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.
— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?
— Нет, не могу допустить1.
В «Дневниках писателя» («Пушкинская речь»):
Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо,
157
мало того, — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, а приняв это счастие, остаться навеки счастливыми1?
В Пушкинской речи нет тех пронзительных, ужасных примеров, которые в «Братьях Карамазовых» предшествуют приведенному диалогу; можно сказать, что в «Пушкинской речи» говорится о едва ли не обыденной ситуации, когда никто не умирает — в отличие от «Братьев Карамазовых», где рассказанное оказывается на грани переносимого. И тем не менее ситуация — одна и та же. Дело не в степени страдания, не в его пронзительности. Дело в страдании как таковом. Ведь мир — Божий и Христос приходил в мир, чтобы дать людям свободу и искупление. Почему же люди ведут себя так, как если бы всего этого не было, как если бы завещанное Христом братство было пустым звуком для них? Вот для Достоевского главный вопрос, который он ставит и на который отвечает едва ли не во всех своих произведениях. В «Братьях Карамазовых» непосредственно за приведенным диалогом следует легенда о Великом инквизиторе. Христос — лишний не только для людей, но и для Церкви (там речь о римской церкви, о ее испанских инквизиторах). Точнее, он потому лишний для Церкви, что лишний для людей: им не нужна ни свобода, ни братство, им принесенные, они предпочитают рабство и жестокость. Вот в чем дело: послание христианства утеряно, люди не носят Бога в душе. Такова главная боль Достоевского. Он далеко не идеализирует русский народ и знает его худшие стороны. Говоря, что русский народ — богоносец, Достоевский выражает свою надежду на то, что именно этот народ, сохранивший, несмотря на все мерзости, утраченное прочими народами чувство христианского братства, принесет его другим, и прежде
158
всего в Европу. Вот в чем он видит оправданность «нашего стремления в Европу».
«Ихнее общество сложилось не по-нашему, не на Христе, а на Римской империи», напишет Достоевский в «Дневниках писателя» уже после своей речи о Пушкине. И продолжит: «Народ западный свергнет ту гнусную оболочку, в которой его заключили, и кончит тем, что найдет Христа. Может быть, к нам и придет за ним, к народу нашему великому, и тогда все обнимемся и запоем новую песнь»1. В чем же заключается эта «гнусная оболочка» западной жизни? Обращаясь к русским «либералам», как он их называет, в ответ на упомянутую статью А. Д. Градовского Достоевский говорит:
У вас гражданские идеалы одно, а христианство другое. По-нашему, по-русски это неделимо. Гражданским должно быть христианство, а христианин уже поневоле гражданином, ибо мы христианство принимаем в идее, а не в слове и не в букве, как вы2.
В жизни Запада христианство присутствует формально, как буква или как слово, не меняющее самой жизни и не превращающееся в ее субстрат. Такова мысль Достоевского: отличие России от Запада в том, что христианство здесь, в России, составляет саму жизнь и саму душу народа. Христианство не как богословское учение, не как обряды — не как слово и буква. Христианство как ощущение братства и как невозможность агрессии и страдания, злобы и ненависти между людьми. Христианство как подлинное братство. Думаю, что таково самое главное, стержневое чувство в Достоевском, определяющее все его произведения, в том числе и основную идею «Пушкинской речи».
Здесь у Достоевского — та же самая идея целостности, или соборности. Идея сохранения каждого — каждого субъекта, когда нельзя пожертвовать никем. Он видит русский народ как носителя этой идеи и на этом основании резко отделяет его от нынешнего «западного народа». (Думаю, что Достоевский прав и что логически всесубъектность не совместима с субъектной центрированностью субстанциальной логики.) В этом смысле Достоевский совершенно точно указывает эту черту характера Татьяны, поскольку она действительно отражает это народное чувство, народное ощущение соборности как непременности всесубъектности, когда каждый должен удержать и сохранить
159
собственную субъектность. Но возникает безвыходная ситуация, ведь сама Татьяна любит Онегина, а значит, она либо должна сделать несчастным своего мужа, этого самого «старикашку» (но она от этого отказывается) — либо она сама должна быть несчастна. Что же она выбирает? Она однозначно выбирает оказаться несчастной самой. Она готова быть несчастной — но не может сделать несчастным другого и на этом основать свое счастье или даже счастье всех. Здесь нельзя не провести параллель с «Анной Карениной» Л. Н. Толстого: ситуации весьма схожи. Анна как раз делает другой выбор — в пользу личного счастья. Но мы знаем, чем это заканчивается — невозможностью дальше жить. Этот ее выбор, противоположный выбору Татьяны, оказывается для нее смертельным. У Толстого Анна делает то, что Татьяна Пушкина считает невозможным, но тем самым и подтверждает правоту Татьяны — правоту ее решения, а не своего. Я не хочу сказать, что Толстой сознательно проводил какие-то параллели; но если их не было, то тем более характерна по-разному решенная, но совпадающая в главном идея этих двух писателей.
Итак, это — первое, что видит Достоевский у Пушкина: тип скитальца, не укоренного в родной почве, и противостоящий ему тип характера, укоренного в родной почве. При этом и Татьяна у Пушкина, и Анна у Толстого — не крестьянки и даже не купчихи или мещанки, это — представительницы высшего класса. Это особенно важно в свете расщепления русской жизни на европейскую, оторванную от народа интеллигенцию, и народ: важно, что в среде высшего, образованного класса есть типы и характеры, укорененные в родной почве, производные именно от нее, а не от Европы. Хотя Достоевский не указывает специально на это обстоятельство, я думаю, что он имеет это в виду, и это объясняет тот особый упор, который он делает на Татьяне, на этом русском типе. Мы должны понимать, что для той эпохи, для второго послепетровского века увидеть русские типы в народе не представляло бы ничего из ряда вон выходящего: Островский, к примеру, рисует такие типы. А вот увидеть русский тип в среде высшего сословия, среди европейски ориентированного класса было не в порядке вещей.
Позиция Татьяны выражает абсолютный этический императив: нельзя несчастье другого положить в основание собственного счастья. Конечно, не следует думать, будто это — черта только русская. Можно вспомнить этику Канта с ее абсолютным запретом на ложь, этику ненасилия Толстого и Ганди с ее абсолютным запретом на насилие. Вопрос, однако, в том, идет ли речь о теории, сконструированной
160
философом, или речь идет о стихии, субстрате народной жизни, из которой мы вычерпываем эти теоретические положения. Обратившись к современным этическим дискуссиям в западной литературе, мы увидим, что то, на что указывает Достоевский, имеет свое значение. Ведь абсолютность запретов, столь ярко проявившаяся у Канта, сегодня начинает размываться. Предлагаются ситуативные решения, когда мы должны выбирать, кем пожертвуем и чью жизнь или благополучие можем не сохранять в той или иной ситуации1. В такого рода контекстах речь идет об отмене абсолютного запрета на причинение зла, и они служат, безусловно, «научной», «философской» основой для таких бесчеловечных понятий, как «сопутствующие потери» при американских и натовских бомбардировках суверенных стран, для таких аморальных действий, как отнесение целых стран в разряд «изгоев»2. Поэтому абсолютность запрета на несчастье другого, о которой говорит Достоевский в связи с Пушкиным, имеет, безусловно, значение в свете современных этических дискуссий. Нельзя ценой чужого несчастья купить даже абсолютное счастье, не говоря уже об относительном. Таково требование этики всесубъектности.
Во-вторых, это то, что можно сформулировать так: «всемирная отзывчивость». Это — также проявление этики всесубъектности, в котором можно заметить и эпистемологическую, и эстетическую сторону. Формулу «всемирная отзывчивость» Достоевский применяет к Пушкину. Он говорит, что всемирная отзывчивость составляет исключительную черту именно русского духа, русского характера, которая проявилась у Пушкина3. Что это означает, собственно говоря?
161
Это означает, по Достоевскому, способность почувствовать страдания другого человека как свои собственные. В этом и заключается основание того, о чем шла речь выше — почему нельзя чужое страдание положить в основание хотя бы и всемирного счастья: чужое страдание будет и твоим страданием, а значит, будет исключать счастье и для тебя. Другой стороной всемирной отзывчивости, другим ее проявлением служит способность перевоплотиться в гений другого народа. То, что Достоевский говорит о Пушкине, никак не принижает, по его утверждению, всемирное значение Байрона, Шекспира, Шиллера или кого-либо еще из европейских гениев. Но у Шекспира, говорит он, итальянцы — все сплошь англичане: Шекспир переосмысливает их как англичан. Благодаря такому переодеванию в национальные одежды эти персонажи обретают и общеевропейскую, и мировую значимость, говорит Достоевский. Но у Пушкина испанские персонажи — именно испанцы, а не русские. В подражаниях Корану Пушкина, считает Достоевский, мы слышим голос, ощущаем дух «магометанина». В «Египетских ночах» перед нами — именно Древний Египет. Иначе говоря, это всякий раз — перевоплощение в другого, и отзывчивость понимается как такое перевоплощение. Это, говорит Достоевский, — проявление собственно русской черты. Это, добавлю я, может быть адекватно истолковано только как проявление логики всесубъектности.
Что же из этого вытекает? Сами петровские реформы, отношение к которым у Достоевского достаточно неоднозначное (они приводят к расколу, к беспочвенности, к появлению скитальцев), — они имели свою правду. Не истину, а правду: они были оправданны (не скажем же мы: «обыстиненны»). Истина — это истина факта, вроде совпадения высказывания с положением дел в мире. Правда же — это включенность данного явления в общемировую гармонию, в соборность и все-связность, включенность именно на своем месте: в этом заключается его правда, его оправданность. Или — его всесубъектность, т. е. его собственная субъектность как условие всесубъектности. Правда, оправданность — одна из излюбленных категорий русской мысли; вспомним «Оправдание добра» В. С. Соловьева. Когда русские мыслители критикуют западное христианство, они его критикуют именно
162
за односторонность, за формализм, за потерю этой целостности, или целостной оправданности1.
Всемирная отзывчивость проявляется в том числе и в том, что русский народ, считает Достоевский, принял петровские реформы как оправданные2. Здесь Достоевский начинает свою апологию «европейской линии» России, ее «вхождения в Европу». Правда петровских реформ и заключалась, по Достоевскому, в том, что они выражали правильное, нужное стремление России в Европу.
«Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому»3 — вот так появляется категория «всечеловеческое» в Пушкинской речи Достоевского. Достоевский считает, что русский гений, который заключается в способности воплотиться в гений любого другого народа, чувствовать любое чужое страдание как свое собственное, способен привести ко всечеловеческому единению. Здесь очевидным образом проявляется идея всесубъектности. Однако «всечеловеческое единение» Достоевский понимает вполне в духе христианского идеала. Поэтому он и говорит о русском народе как о народе-богоносце; кстати говоря, у Данилевского также можем прочитать, что избранными Богом народами был еврейский, открывший божественную истину, и русский. Однако у Данилевского это — второстепенное замечание, религиозная нота не определяет у него целостную концепцию. А вот у Достоевского это — определяющее для его концепции положение. Всечеловеческое единение он мыслит как христианское и арийское единение. Понимание способности воплотить в себе чужую правду, чужой гений входит у Достоевского таким образом в противоречие с тем, что это единение и эта чужая правда понимается как только христианская, т. е. ограниченная определенной религией. Для Достоевского христианское братство — второй уровень идентичности постольку, поскольку он
163
ставит фактически знак равенства между христианским и арийским. Всё за пределами «арийского», т. е. индоевропейского, ареала оказывается для него как будто слепым пятном. Однако постольку, поскольку в принципе христианство не может ограничиваться никаким «ареалом», этот уровень христианского братства потенциально оказывается и общемировым. Если так, то у Достоевского второй и третий уровни также слипаются, хотя вопрос о третьем уровне идентичности и его отличии от второго у него не только не проработан, но фактически и не намечен.
Данилевский и Достоевский жили практически одновременно. Оба говорили о всечеловеческом. Идея всечеловеческого и у того, и у другого созвучна идее соборности, собирания, сохранения всесубъектности. Это — общее для двух мыслителей. Оба они считают противостояние славянофильства и западничества заблуждением. Оба они его преодолевают. Однако глубокое различие между ними заключается в том, что для Данилевского славянофильство — такое же заблуждение, как западничество. Он считает оба течения ошибочными1 и ставит свою теорию над ними, над их противостоянием. А Достоевский считает, что славянофильство на самом деле выражает правду западничества и что западничество, если убрать его крайности, выражает правду славянофильства. И то, и другое выражает для Достоевского «наше стремление в Европу», но мы приходим в Европу не с какой-то чужой миссией, говорит он, мы приходим в Европу не как немцы, итальянцы, англичане или французы, мы приходим в Европу как русские. Это значит — мы приходим как способные ко все-примирению: способность чувствовать чужое страдание как свое, способность перевоплотиться в чужой гений и есть способность снять все противоречия. Это окончательное примирение, всеобщее братство связывается Достоевским именно с русским гением, или русской способностью. Поэтому он и говорит: стать настоящим русским значит стать братом
164
всех людей, или, если хотите, всечеловеком1. Интересно, что у Данилевского «всечеловек» невозможен как действительное существо, поскольку всечеловеческое у него — разноместное и разновременное собрание максимумов каждого из культурно-исторических типов, а значит, они не могут быть воплощены ни в одной цивилизации, и уж тем более — ни в одном человеке. Он так и говорит: «был только один Всечеловек — и Тот был Бог»2. Для Достоевского же «всечеловек» означает способность перевоплощения в любого из людей, а точнее, в любого из людей той общности, которую он и берет как имеющую значение — общность европейско-арийскую, христианскую. Достоевский понимает «русский гений» как способность перемещаться между идентичностями первого уровня, когда любая из них оказывается близкой и не чуждой. Конструируемый им второй уровень идентичности имеет достаточно размытые черты: это и не вполне «Европа», и не вполне «Запад». Скорее это — некая не имеющая четких границ общность по уже указанному признаку — по признаку принятия «христианской истины». «Всечеловеческое» у Достоевского толкуется, таким образом, как все-субъектное, но с особым пониманием способности смены субъектности, способности смены идентичности.
 |
8 Глава 7.Классическое евразийство: «всечеловеческий» проект цивилизационного развития России |

|
165
Еще один вариант разработки интуиций целостности, соборности, всечеловечности представлен классическим евразийством. Когда речь заходит о евразийстве, важно понимать, какой именно его этап имеется в виду. Под классическим евразийством я буду понимать период с оформления этого течения до начала-середины тридцатых годов. В 1921 г. вышел сборник «Исход к Востоку», ознаменовавший появление евразийства как течения. Что касается завершения классического этапа, то трудно указать точную дату, поскольку до конца тридцатых годов в издательстве евразийцев продолжали публиковаться книги евразийских авторов. Во всяком случае, можно сказать, что период расцвета классического евразийства — это годы с 1921 по 1929, до окончательного проявления т. н. «кламарского раскола», когда один из основателей евразийства, П. П. Сувчинский, пошел на открытый разрыв с принципами евразийства и открытое сотрудничество с советской властью. Другой основатель евразийства, Н. С. Трубецкой, умер в 1938 г. Это — еще одна дата, обозначающая завершение классического этапа. Как бы то ни было, в тридцатые годы классическое евразийство было еще живо, тексты публиковались.
Три центральные фигуры, вокруг которых возникло классическое евразийство — Н. С. Трубецкой (1890–1938), П. Н. Савицкий (1895–1968) и П. П. Сувчинский (1892–1985). Они составляли ядро евразийства на его классическом этапе («тройка», «симфоническая личность», как они именовали себя в переписке). Кроме них, к евразийству примыкали, приходили и уходили целый ряд блестящих фигур русской мысли 20-х годов. Среди них — Г. В. Флоровский (1893–1979), известный религиозный мыслитель1; Р. О. Якобсон
166
(1896–1982), известный филолог; Г. В. Вернадский (1888–1973), сын В. И. Вернадского, известный историк, написавший целый ряд книг, рассматривавших историю с евразийской точки зрения1, работавший после распада евразийства в США и заслуживший там признание как историк, и многие другие. Кроме устойчивого ядра и этого более широкого слоя мыслителей, группировавшихся вокруг евразийства, в евразийских изданиях участвовали узкие специалисты по тем или иным наукам, создававшие отдельные статьи на темы, интересовавшие евразийцев. Читая тексты евразийцев, необходимо ясно представлять, о ком именно идет речь. Сборники евразийцев обладают определенным единством, но вместе с тем если не разнобой, то значительное разнообразие авторских позиций, доходящее порой до несовместимости, в них может быть замечено.
В 1920 г. в Софии была опубликована книга Н. С. Трубецкого «Европа и Человечество», в которой были выдвинуты многие стержневые идеи будущего течения. Годом позже вышел в свет первый евразийский сборник «Исход к Востоку: Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (София: Балканъ, 1921), в котором были заявлены программные установки евразийцев. Затем выпускались сборники, имевшие разные названия, которые часто содержали словосочетание «Утверждение евразийцев» и порядковый номер, например: «На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая» (Москва-Берлин: Геликон, 1922). Стилистически использование слова «утверждение» может показаться сегодня не вполне внятным, но тогда это означало многое. Революционная и послереволюционная эпоха была эпохой отрицания — отрицания всех прежних порядков революцией и отрицания
167
самой революции со стороны абсолютного большинства старой русской интеллигенции и правящего класса. Контрастом этому всеобщему отрицанию стали «утверждения» евразийцев, поскольку они были едва ли не единственным течением, предлагавшим действительно целостную и конструктивную программу развития, программу движения вперед, а не бессмысленную мечту о реставрации прежних порядков, которую продолжали отчаянно лелеять столь многие. Вместе с тем евразийцы были не единственными, кто так использовал слово «утверждение»; так, в начале тридцатых годов в Париже выходят несколько номеров сборника «Утверждения: орган объединения пореволюционных течений», авторы которого стремились предложить пути преодоления «коммунистическо-материалистического» этапа революции1, второго после буржуазно-демократического, но, в отличие от евразийцев, не имевшие общего идейного стержня и слишком разнородные и теоретически невнятные2. Иначе говоря, стремление обустроить пореволюционную Россию, продолжить линию революции, преодолевая коммунизм, но не отрицая неизбежности революции, было свойственно не одним евразийцам. «Утвержденцы» были близки к евразийцам в том, что ставили акцент на культуре и необходимости для России обрести себя, но расходились в понимании конкретных путей, ведущих к этой цели. Той идейной и философской высоты, которую мы наблюдаем в классическом евразийстве в первую очередь благодаря влиянию Н. С. Трубецкого, «утвержденцы» не демонстрируют. В связи с этим можно упомянуть также группы, группировки и отдельные личности, собравшиеся вокруг П. С. Боранецкого и его издания «Третья Россия»3 и ставившие целью синтезировать отрицание старой России революцией и отрицание самой революции. Контуры этого «нового синтеза» поражают своей размашистой неряшливостью, где резкость, доходящая до развязности, подменяет мысль. На фоне такого рода попыток найти выход из тупика отрицания революции,
168
в которых не обнаруживается ни внутренней логики, ни теоретической глубины, ни подлинной новизны, ни перспектив, рельефнее выступают достоинства классического евразийства.
Помимо «Утверждений», по форме представлявших собой сборники статей, евразийцы выпускали «Евразийские временники» и «Евразийские сборники», имевшие сплошную нумерацию и выходившие примерно раз в год. Чаще выходили в свет «Евразийские хроники», содержавшие, наряду с теоретическими работами, более актуальные, менее теоретически нагруженные статьи, материалы «на злобу дня», небольшие заметки и письма. Эти «Хроники» имели собственную нумерацию. Наконец, евразийцы издавали и свою газету.
Евразийские издания выходили ограниченным тиражом, многие из них стали величайшей библиографической редкостью, и ни в одной библиотеке нельзя найти полную подборку литературы классических евразийцев или даже сложить ее из «кусочков», разбросанных по разным библиотекам. Составить действительно полное представление о взглядах классического евразийства по их изданиям сегодня — далеко не простое предприятие. Немногие переиздания, хотя и предприняты с лучшими намерениями, грешат пропусками, вставками или неточностями, а об академическом издании корпуса евразийской литературы сегодня даже не приходится мечтать. Слово «евразийство» не вызывает у сегодняшней русской интеллигенции, за исключением небольшого круга специалистов, ничего, кроме неприятных и очень смутных ассоциаций сомнительного свойства. Почему-то питать предубеждение, основанное исключительно на незнании собственных текстов евразийцев, считается не только нормальным, но и похвальным — лишний симптом, свидетельствующий о состоянии умов.
Классическое евразийство постепенно затухает в тридцатые годы. Приход Гитлера к власти, кончина Трубецкого, работа советской контрразведки против евразийства, начиная с середины 20-х годов — все эти факторы обусловили, в той или иной мере, это затухание. Евразийство в его цельности и с его особым идейным обликом уже не возрождалось, хотя отдельные отголоски его идей слышны и значительно позже1.
Одинокая, особая фигура Л. Н. Гумилева уже не принадлежит классическому евразийству. Верно, что он называл себя «последним
169
евразийцем», и хотя он общался с Савицким, его учение — совершенно иного типа, нежели учение классического евразийства. Этого обычно не замечают — между тем это принципиально. Для евразийства центральной категорией служит категория культуры. Классическое евразийство культуроцентрично, тогда как теория Гумилева этноцентрична. Для классического евразийства главными категориями служат «соборность», «симфония» — то, что выражает целостность, всечеловечность. Для Гумилева главная категория — «этнос», этническая история. И хотя Гумилев строит свою теорию пассионарности как научную, она сегодня едва ли может быть вполне подтверждена или опровергнута научными методами. Пассионарность, по Гумилеву, связана с циклами этногенеза. По сути дела, нет ничего общего между теорией Гумилева и взглядами классических евразийцев, если не считать употребления слова «Евразия» у тех и других, что едва ли можно всерьез расценить как основание общности.
В наше время возникают самые разные варианты евразийских учений и в России, и в других странах. «Левые евразийцы» в России, продолжая линию Сувчинского в момент кламарского раскола, утверждают, будто классическое евразийство отжило, и стремятся свести воедино коммунистическую идею и евразийство — что, конечно, непредставимо для классического евразийства. Термин «евразийство» использует А. Г. Дугин1. В современной России евразийские идеи развивает целый ряд ученых и практиков, собираются Евразийские конференции. Евразийство как политическая концепция было предложено президентом Казахстана Н. Назарбаевым в 90-е годы и в настоящее время служит идейной основой российско-казахстанских отношений и интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и других структур. В современной Турции выдвинут свой вариант евразийской идеи. Идея евразийства в наше время обрела множество ликов и рассыпалась в великом множестве вариантов. Интересно, что эта идея не принималась большинством русской интеллигенции в момент ее возникновения. Она третировалась как дикость, азиатчина, как поворот от просвещенной Европы к азиатскому варварству, — а сегодня
170
многие авторы соревнуются в трактовках этой идеи и хотят предложить каждый свою.
Блестящее десятилетие 20-х годов прошлого века, на которое пришелся расцвет и упадок классического евразийства, распадается на три ясно различимых этапа. Первый — с 1920 г. до середины 20-х годов. Это — период отдельных ярких личностей, период выдвижения и созревания стержневых идей евразийства. Второй период — середина 20-х годов. Это — период организационного созревания: евразийцы готовятся к тому, чтобы на деле, политически, вытеснить коммунистов и заместить их евразийской организацией с евразийской идеологией в руководстве СССР. Конец 20-х годов — упадок и начало распада евразийства: отход Флоровского в 1928 г. и его поворот на 180 градусов в отношении к евразийству1; кламарский раскол, окончательно выявившийся в 1929 г.; наконец, полная победа НКВД в борьбе против евразийства. Мы должны понимать, что классическое евразийство представляло для власти коммунистов в Советском Союзе несравненно большую угрозу, нежели все «старые» идейные течения, т. е. течения, возникшие до революции и несшие в себе, как правильно отмечали сами евразийцы, идеологию, уже не соответствовавшую пореволюционному миру и, главное, пореволюционной России: это и вся философия «Серебряного века», и все революционные течения, оказавшиеся в оппозиции официальной советской власти. Евразийцы были правы в том, что именно и только они предлагали действительную альтернативу власти коммунистов, предполагая ее нереволюционную, постепенную эволюцию. Мы к этому еще вернемся.
Первый период открывается книгой Трубецкого «Европа и Человечество», вышедшей в Софии в 1920 г., за год по появления сборника «Исход к Востоку». Именно с этой небольшой книги Трубецкого следует начинать отсчет евразийства не как оформившегося течения, но как теории и мировоззрения, хотя в ней еще не изложены идеи и не введены понятия, которые считаются специфически евразийскими. Однако в этой книге заявлено главное. Это — шокирующая для интеллигентского сознания того времени идея о том, что европеизация не является благом и что повторить путь Европы невозможно, оставаясь самим собой: чтобы действительно встать на этот путь,
171
нужно стать «этнографическим материалом» для Европы, тогда как сохранить себя можно, только развивая собственную культуру, опираясь на ее собственные возможности. В этом, кстати говоря, Трубецкой не просто прав, а прав именно с той точки зрения, которая должна быть сочтена истинно западной, подлинно европейской. Чтобы быть, как Запад, надо не быть, как Запад: это не диалектика и не игра в парадоксы, это выражение простой исторической правды, которая заключается в том, что Запад стал тем, чем он стал, только потому, что никогда и никому не подражал и не перенимал ничей образ жизни и ничье цивилизационное устройство, даже в те эпохи, когда с ним соседствовали несравненно более высокоразвитые цивилизации, как исламская эпохи ее расцвета1.
Эта простая, несомненно истинная и даже подлинно западническая мысль, тем не менее, как была, так и сегодня остается совершенно неприемлемой для российской интеллигенции, почти целиком пораженной недугом европейничанья. Как будто о сегодняшнем дне сказано Трубецким в предисловии к его книге, где он описывает происходившее в те десять лет, что предшествовали выходу в свет «Европы и Человечества», когда он проверял и уточнял свои идеи:
Из многочисленных разговоров я вынес впечатление, что большинство людей, с которыми приходилось встречаться, просто не понимают моих мыслей. И не понимают не потому, чтобы я выражался неудобопонятно, а потому, что для большинства европейски образованных людей эти мысли почти органически неприемлемы, как противоречащие каким-то непоколебимым психологическим устоям, на которых покоится европейское мышление2.
Трубецкой подвергает сокрушительной критике такие расхожие и общепринятые понятия, как «общечеловеческая культура», «общечеловеческая цивилизация», «мировой прогресс» и прочие, призванные обосновать ту мысль, что только и именно в Европе достигнуто то состояние культуры, которое является наивысшим возможным для человечества и что, следовательно, все прочие культуры должны
172
«стушеваться» перед ней. Его критика европоцентризма настолько фундаментальна, что оставляет далеко позади пропагандистско-идеологические упражнения Э. Саида в его «Ориентализме», наделавшем столько шуму на Западе. Трубецкой остался «незамеченным» — именно потому, что, как сам он точно указывал, его идеи затрагивают то, что западное мышление затрагивать не позволяет: представление о безусловном превосходстве Запада. Э. Саид и не подвергал это сомнению; он лишь хотел, чтобы от этого не слишком страдали арабы и другие незападные народы. Его критика комфортна и удобна для системы европейской идеологии, критика Трубецкого для нее — разрушительна.
Аргументация Трубецкого в «Европе и Человечестве» нуждается в неспешном и детальном разборе, который я вынужден отложить до более подходящего времени. Перейду сразу к выводам, которые сформулированы предельно ясно. Трубецкой утверждает,
…что полное, органичное усвоение романогерманской культуры (как и всякой чужой культуры вообще), усвоение, дающее возможность и дальше творить в духе той же культуры нога в ногу с народами, создавшими ее, — возможно лишь при антропологическом смешении с романогерманцами, даже при антропологическом поглощении данного народа романогерманцами;
что без такого антропологического смешения возможен лишь суррогат полного усвоения культуры, при котором усваивается лишь «статика» культуры, но не ее «динамика», т. е. народ, усвоив современное состояние европейской культуры, оказывается неспособным к дальнейшему развитию ее и каждое новое изменение элементов этой культуры должен вновь заимствовать у романогерманцев;
что при таких условиях этому народу приходится совершенно отказаться от самостоятельного культурного творчества, жить отраженным светом Европы, обратиться в обезьяну, непрерывно подражающую романогерманцам;
что вследствие этого данный народ всегда будет «отставать» от романогерманцев, т. е. усваивать и воспроизводить различные этапы их культурного развития всегда с известным запозданием и окажется, по отношению к природным «европейцам», в невыгодном, подчиненном положении, в материальной и духовной зависимости от них;
что, таким образом, европеизация является безусловным злом для всякого нероманогерманского народа1.
173
Надо ясно понимать, что злом является европеизация в смысле попытки заменить логику своей культуры европейской: именно это Данилевский и называл презрительно европейничаньем. Речь совершенно не идет об обычном культурном обмене или о заимствовании достижений другой культуры: «Заимствование отдельных элементов романогерманской культуры… только обогатит национальную культуру» других народов при том условии, что они смогут при восприятии европейской культуры «очищать ее от эгоцентризма»1. Эгоцентризм Трубецкой считает неотъемлемой и неустранимой характеристикой романогерманской культуры, которая и объясняет ее уверенность в том, что она — венец человеческих достижений и что все прочие культуры должны расположиться на лестнице приближенности к ее состоянию. Во всей аргументации и особенно в выводах Трубецкого явно пробивает себе дорогу идея логики культуры. Без этого будут необъяснимы его категорические выводы, процитированные выше. В самом деле, Трубецкой говорит, что эгоцентризм свойствен многим людям; спрашивается, почему тогда именно европейская цивилизация характеризуется эгоцентризмом? И главное: почему устранение «эгоцентризма» устраняет и европеизацию как тотальную переделку собственной культуры по лекалу европейской, так что заимствование отдельных достижений европейской цивилизации перестает быть опасным и угрожающим органичному развитию заимствующей культуры? Только если мы вспомним, о чем говорили в Главе 2, то поймем, что Трубецкой подразумевает глубинный когнитивный механизм, названный мною коллективным когнитивным бессознательным, который в случае характерной для европейского мышления субстанциальной логики действительно требует исключительной центрированности на субъекте. Этот механизм предполагает эгоцентричность как свой коррелят — в этом трудно сомневаться. Если так, то вся аргументация Трубецкого встает на прочную почву и обретает свой смысл.
Рассуждение Трубецкого можно было бы продолжить следующим образом. Эгоцентризм романогерманцев — это неизбывная уверенность в том, что их культура — наивысшая и наилучшая. Освободиться от эгоцентризма романогерманцев, таким образом,
174
означает освободиться от этого ложного убеждения и, следовательно, от убежденности в необходимости непременно копировать европейскую культуру. Но какой-то «центризм» должен остаться, точнее, прийти на смену эгоцентризму романогерманцев. Пусть это будет русско-центризм, арабо-центризм или любой другой: это будет означать, что развитие данной культуры центрировано на ней самой, а не на Европе. Тогда речь идет о сопоставлении двух типов эгоцентризма: романогерманского и другого (русского, арабского, индийского, т. д.). Спрашивается: чем все прочие типы эгоцентризма лучше, чем романогерманский? Почему в соперничестве разных типов эгоцентризма, т. е. разных «зол», должен победить местный эгоцентризм, а не европейский? Кто сказал, что это зло — меньшее? А вдруг оно большее? На такого рода вопросы ответить невозможно, если мы рассуждаем в терминах эгоцентризма. А вот если рассуждать в терминах логики культуры, которая задает ее органичное и успешное развитие, то ответ очевиден: только собственная логика обеспечит успех, копирование чужой логики действительно превратит культуру в непрерывно подражающую кому-то и вечно отстающую от этого кого-то обезьяну, как точно, хотя и не политкорректно, выразился Трубецкой.
Этот настрой противостояния европеизации как попытке растоптать логику собственной культуры классическое евразийство сохранило до конца; и этим оно ясно отличается от прочих течений, носящих то же название, но совершенно других по существу, начиная с учения Гумилева и кончая евразийствами наших дней. Точно так же настрой на невозможность научно иерархизировать культуры и назвать одни из них «дикарскими», а другие — «цивилизованными», определило появление в изданиях евразийцев статей о быте кочевников, укладе их жизни, их навыках и психологии, в которых доказывалось, что кочевники в тех отношениях, которые важны для них в их быту, не только не уступают европейцам, но и превосходят их1. Это было практической разработкой той идеи Трубецкого, которая ясно
175
заявлена и доказана в «Европе и Человечестве»: нет никакого научного основания для иерархизации культур, культуры не могут быть научно разделены на более и менее высокие или развитые. К этой мысли европейские ученые, крадучись, подобрались гораздо позже Трубецкого и заявили о ней с гораздо меньшей ясностью — так, что мысль эта стала неопасной для их неизбывного представления о центральной роли европейской культуры. Заявили, конечно, без ссылки на приоритет Трубецкого.
Заметим, что отрицание «общечеловеческого» у Трубецкого не имеет ни грана религиозности. «Европейское» отрицается вовсе не потому, что оно «католическое» или «протестантское», не потому, что оно «враждебно православию». Вовсе нет; чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать «Европу и Человечество». Это очень характерно: значит, дело не в неприятии культурных ценностей европейца, не в их отвержении (это же верно и для Данилевского, и для Достоевского); дело только в том, чтобы противостоять экспансии европейского под маской «общечеловеческого». Не случайно книга заканчивается утверждением, что сегодня (т. е. столетие назад) любые пантюркизмы, панславизмы и прочие объединения теряют всякий смысл, сегодня подлинное противопоставление только одно: европеизм — и всё человечество. В условиях нынешней глобализации утверждение это — совершенно очевидное.
Весь первый этап развития классического евразийства озарен ярким светом гения Николая Сергеевича Трубецкого. Именно он стал идейным и интеллектуальным центром евразийства, сформулировал и развил все его основополагающие идеи. Он был известным лингвистом и литературоведом, философом культуры, прекрасным этнопсихологом1. Его блестящие открытия мирового значения сделаны в области лингвистики. Н. С. Трубецкой основал фонологию — дисциплину, без которой немыслима современная лингвистика. Ему принадлежит идея языкового союза. В отличие от языковой семьи, объединяющей языки по принципу происхождения, языковой союз объединяет языки, принадлежащие разным семьям, но приобретающие схожие черты в силу длительного и тесного взаимообщения народов — их носителей, проживающих на общей территории и связанных общностью
176
культуры. Идея языкового союза была разработана Р. О. Якобсоном применительно к евразийскому союзу языков, сначала в докладе, прочитанном в декабре 1930 г. в Праге на конференции фонологов1, а затем в подготовленной на его основе брошюре2. Языки, составившие евразийский союз, приобрели ряд общих черт, которые резко отличают их от других, в т. ч. европейских, союзов языков. Это — наличие фонологической оппозиции мягких-твердых согласных и (или) гласных: такая оппозиция характерна только для евразийского языкового союза. Эти и другие черты евразийского языкового союза расценивались как научное свидетельство в пользу России-Евразии как органичного месторазвития.
В классическом евразийстве Евразия понимается не в принятом географическом смысле, не как часть света. Границы Евразии, в общем и целом, примерно совпадают с границами Российской империи. Но здесь не Евразия определяется через Российскую империю; напротив, евразийцы считают, что Россия в своем развитии достигла такого состояния, когда охватила почти всю территорию, естественно образующую Евразию. Эти естественные границы определены ландшафтом, имеющим равнинный характер: степи на юге и леса на севере, тогда как от Индии и Китая эту территорию отделяют высокие горные цепи, а на севере она ограничена Ледовитым океаном. На западе естественной границей служит резкое изменение ландшафта на границе с Западной Европой. Кроме того, так понимаемую Евразию отличает особый характер почв, что было установлено исследованиями Савицкого, проведенными, по его признанию, задолго до возникновения евразийства, в 10-е годы XX в.3 Далее, особые климатические условия, отличающие Евразию от западноевропейского и азиатского региона.
Эти естественные условия заложили основу для того, чтобы народы на этой территории образовали естественный союз — не искусственный, не насильственный, а естественный. В этом смысле для классических евразийцев Евразия оказывается синонимом России, и наоборот. Они так и писали: Россия-Евразия.
177
Россия-Евразия является, с их точки зрения, месторазвитием. Месторазвитие — естественная территория, отличающаяся географически, климатически (а также с точки зрения других естественных факторов — например, природа почв) от соседних регионов и ставшая местом длительного исторического развития и взаимного общения и обогащения заселявших ее народов, что приводит к появлению в их культурах, языках, психологии, мировоззрении общих черт. Россия, с их точки зрения, это естественный союз тех народов, которые проживали и проживают на этой территории и для которых Евразия служит их месторазвитием. Это и славянские, и финно-угорские, и тюркские племена и народы. С этой точки зрения общеславянское, европейское, арийское, индоевропейское единство — бессмысленные слова, понятия, не отражающие реальность.
Как уже говорилось, евразийский языковой союз расценивался евразийцами как важное научное свидетельство подлинности представления о России-Евразии как месторазвитии. Другое свидетельство — история. Согласно евразийцам, русские княжества до татаро-монгольской эпохи представляли собой разрозненные, слабые государственные образования. Они начали приходить в упадок еще до монгольского нашествия, поскольку не имели никакой исторической миссии, никакого предназначения1. Такое историческое предназначение русские получили только после монголов, и заключалось оно в том, чтобы объединить под единой политической властью это естественное месторазвитие. Евразийская миссия и есть объединение России-Евразии в едином политико-государственном организме. После падения власти Орды московские цари исполняли эту миссию, двигаясь на восток. После Петра Российская империя продолжала осуществление этой миссии, хотя европейская ориентация послепетровской империи является искажением подлинной миссии России и предательством ее интересов. Россия нередко ввязывалась в европейские дела, выступала на стороне тех или иных европейских держав, растрачивая людские и материальные богатства в войнах, которые никак не служили ее интересам. Это же касается и славянского единства, которого, с точки зрения евразийцев, нет и не может быть, поскольку естественным месторазвитием России служит Евразия, а вовсе не славянский мир.
178
Евразийская трактовка исторической миссии России также основана на идее соборности, однако она отличается от трактовок Данилевского и Достоевского: это и не славянство, и не стремление в Европу. Если использовать термин самого Достоевского, которым он описывал Алеко и Онегина — термин «скиталец», — то можно сказать, что и Данилевский, и сам Достоевский были такими скитальцами. Данилевский искал общеславянское единство, которого в реальности не было — и он сам понимал, что его нет; значит, он уходил к несуществующему. И Достоевский уходил также к несуществующему — к братской, всепримиренной и всесоединенной христианской Европе и даже миру (арийско-христианскому миру), где русский народ выступит со всепримиряющей миссией. Но ведь это фантазия; да и Достоевский сам говорил — да, это фантазия, он принимал это, он так и говорил в своей «Пушкинской речи». Но фантазия в данном случае — не как беспочвенное мечтание, а как попытка представить будущее.
В отличие от них, евразийцы перестают быть скитальцами, они встают на собственную основу, на собственную почву — их можно в этом смысле назвать почвенниками. Они-то как раз никуда не идут за пределы самой России-Евразии: здесь, в этих пределах (а не где-то «там») находят они оправданность России. С их точки зрения, следует смотреть на вещи трезво, не выдумывать некие «миссии» России, не придумывать для нее некую задачу, а посмотреть, каков реальный ход ее истории, и из этой реальности вывести исторические закономерности. Поэтому евразийцы и уделяли такое внимание отдельным конкретно-научным исследованиям по самым разным наукам, включая востоковедение. Сам Трубецкой был выдающимся лингвистом; Г. Вернадский — историком; Савицкий — географом. И так далее; в целом евразийцы считали, что насущной задачей русской науки является изучение Евразии с разных точек зрения, с позиций разных наук. Интересны рассуждения о том, что уже сделано, что евразийская наука уже внесла в мировую науку, и что предстоит сделать1. И всё же эти конкретно-научные исследования подчинены общей идее, которая является не научной, а философской. Изложим ее вкратце.
179
Исторический процесс, протекающий в месторазвитии того или иного народа, приводит к возникновению культуроличности. Культуроличность — это культура, понимаемая как единая, симфоническая личность. Симфония, конечно же, — православный, церковный термин. Симфония — это созвучие, согласие, гармоничное сложение сил всех участвующих в каком-то действии. Вспоминается термин «симфония властей» (ср. «разделение властей»). Но симфония понимается и в более широком смысле, как вообще соработничество всех, кто участвует в общем деле. «Общее дело» и есть выполнение всеми общего предназначения в свободном действии: всесубъектность предполагает, конечно, свободу. Тогда симфоническая культуроличность евразийцев — это и не индивидуализм западного типа, но это и не коллективизм советского типа. Индивидуализм исключает объединение какой-либо общей сверх-идеей. Единственное, что может объединить, — это идея общего блага и общественного договора в той войне всех против всех, которую ведут противопоставленные каждый всем индивиды. Но для евразийцев принципиально, что симфоническая личность — это целостная личность, целостная культура, в которой осуществляется соборное (собранное) дело ради одной идеи. В этом есть прямая параллель с соборным действием в православном богослужении. И дело не только в церковной жизни. В общественной жизни, в русской истории евразийцы обнаруживают действие того же принципа. Скажем, фигура царя в русской истории до Петра. Царь — не политическая форма; это источник всех политических форм. Это и есть та сверх-идея, вокруг которой возможно единение соборной личности народа. Когда сегодня кто-то кого-то называет царем, думая тем самым опорочить и высмеять, это — такова уж ирония истории — работает на укрепление соборного начала в политике. Экономические санкции, безусловно, ощутимо бьют сегодня по карману рядового человека в России, и в логике западного политтехнолога это должно заставить массового человека изменить поведение, стремиться к смене руководства, которое изменит невыгодную для него ситуацию на выгодную. В этой, европейской, логике, если тебе это невыгодно, ты должен сменить лидера, который даст тебе более выгодные условия жизни. Таково, с точки зрения западного политтехнолога, рациональное поведение, где индивид руководствуется своими интересами. Но произошло ровно противоположное: поддержка руководителя выросла неимоверно. Вместо того, чтобы сменить «невыгодного» лидера на «выгодного», люди сплотились вокруг своего лидера, т. е. действовали вполне в соответствии с логикой соборности, но не с логикой
180
индивидуализма или коллективизма — это совершенно другие логики. Это — факт сегодняшнего дня, и он свидетельствует о том, что общественное сознание устроено в России не так, не в той логике, как на Западе. Однако стоит руководителю показать, что он предал общее дело, общую идею, которая смутно угадывается, ощущается коллективным сознанием, как эта сплоченность, это единство тут же распадется. Мы видели это в событиях 1991 г. и в те годы, которые им предшествовали, когда всё рассыпалось в прах мгновенно. Я думаю, что здесь евразийцы действительно улавливают некую общую закономерность — то, что я называю логикой культуры, которая проявляется в том числе и в реальном политическом действии. Это повторяется в разные периоды русской истории, в разных исторических обстоятельствах, но логика этого действия — та же.
Единая, симфоническая культуроличность объединена общей идеей. Эту идею евразийцы вполне ожидаемо называют «евразийская идея». Что это такое?
Это — идея свободного развития всех тех народностей, языков, религий и т. д., т. е. всех субъектов, которые составляют симфоническую культуроличность. Идея свободного, гармоничного развития всех. Это — та же идея всечеловеческого, с которой мы встречались у Данилевского, но в масштабе России-Евразии, а не земного шара. Здесь — идея необходимости удержать субъектность, неповторимую личность каждого, т. е. каждого народа, каждого языка, каждого этноса, которые вместе создадут симфоническую личность.
Общая, симфоническая личность — это ни в коем случае не унификация, не общий шаблон, а собрание разных личностей — как у Данилевского всечеловеческое представлено собранием максимальных достижений разных культур. Данилевский искал в славянстве второй уровень идентичности, срединный между национальным и всемирным, и в этом смысле он был скитальцем: отправился искать этот уровень, полагая его там, где его не было. Мы можем сказать, что евразийцы находят этот срединный уровень в России-Евразии: это и есть срединная идентичность, располагающаяся между национальной, т. е. конкретно-этнической идентичностью народов, входящих в Россию-Евразию, и общемировой идентичностью. Это объясняет кажущуюся «замкнутость» евразийской мысли на России-Евразии. Евразийцы как будто не выходят за ее пределы, они говорят только об этом. Но им, собственно, и не надо выходить за эти пределы: здесь они находят и исходный, первый уровень идентичности, и второй, средний. Как в Европе народы взаимообогащаются, поднимаясь на общеевропейский
181
уровень идентичности: из него они черпают и через него обмениваются друг с другом, — так и народы, живущие в России-Евразии, обмениваются друг с другом через этот, евразийский уровень идентичности. В этом отношении характерна статья Трубецкого 1927 г. «К украинской проблеме»1. Ее особенно интересно и поучительно читать сейчас, когда мы уже знаем, что произошло на Украине. Трубецкой описывает два возможных сценария развития событий с точки зрения сугубо научной, лингвистической проблемы — проблемы конструирования литературного украинского языка. Литературный язык всегда — конструкт, не естественный язык масс (не народный язык). Иначе говоря, литературный язык создается искусственно и затем за счет научного употребления входит в обиход. Это — общее правило. В настоящее время, говорит Трубецкой (т. е. во время написания его статьи, сто лет назад), существует великорусский литературный язык, общий для русского, украинского и белорусского языков. Этот вариант великорусского литературного языка украинцы вполне могли бы считать своим, поскольку он был создан под влиянием киевского, а не московского, варианта литературного языка: второй был вытеснен первым во времена т. н. исправления богослужебных книг, и именно этот, киевский вариант литературного языка лег в основу великорусского литературного языка. Украинцы могут взять этот («свой») вариант великорусского языка за основу и сконструировать свой литературный язык, используя этот общий, «евразийский» вариант как источник для разных языковых форм, поскольку в нем хранятся и славянизмы, и формы церковно-славянского языка, которые удобно использовать при конструировании литературного языка и которые разговорный язык уже утратил. Например, есть термин «млекопитающие»: млеко — славянизм, в русском языке мы бы имели «молоко»; «питающие» — также не форма русского языка, по-русски было бы «кормящий». Представьте термин «молококормящий»… великорусский вариант литературного языка оказывается драгоценной сокровищницей форм, утраченных живыми вариантами языка, он хранит в себе всю историю языка, и отказываться от такого богатства было бы непростительным легкомыслием. Украинцы могут взять этот вариант за основу при конструировании своего литературного языка. Тогда они останутся органичной частью общеевразийской семьи. У них будет и своя, украинская идентичность, и свой литературный язык, и свой народный украинский язык, и срединная
182
идентичность, представленная евразийской общностью. Но они могут пойти по другому пути, говорит Трубецкой. Они могут объявить украинский народный говор единственно правильным и на его основе начать конструировать украинский литературный язык, отказавшись полностью от великорусского литературного языка. В результате они лишат себя богатого источника языкового разнообразия. Но главное не это. Главное то, что в таком случае, чтобы отгородиться от этого естественного источника, им понадобится поднять на щит русофобию на всех направлениях. Им придется, добавим, конструировать тогда срединную идентичность как европейскую, поскольку ничего другого для них не остается. Это — сугубо культуроцентричный анализ. Здесь нет ни грана политики. Речь идет о закономерностях выстраивания языка, т. е. о лингвистических закономерностях, и о закономерностях функционирования культуры. Но когда читаешь эту статью, создается впечатление, будто ее автор составил сценарий будущих событий на Украине:
Придется еще внушить всему населению Украины острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддерживать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства, хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного национального прошлого и попрания собственных национальных святынь. Ибо если украинцы не будут ненавидеть всё русское, то всегда останется возможность оптирования в пользу русской культуры. Однако нетрудно понять, что украинская культура, создаваемая в только что описанной обстановке, будет из рук вон плоха… Можно очень сомневаться в том, что эта культура будет действительно национальна. Полно воплощать в культурных ценностях дух культурной личности могут только настоящие таланты, работающие вовсе не для каких-то побочных политических целей, а лишь в силу иррационального внутреннего влечения. Таким талантам в описанной выше злобно-шовинистической обстановке не окажется места. Политиканам же нужно будет, главным образом, одно — как можно скорее создать свою украинскую культуру, всё равно какую, только чтобы не была похожа на русскую1.
Подобное бездумное культурное огораживание со всеми указанными Трубецким последствиями характерно на постсоветском пространстве в столь интенсивной форме пока только для Украины. Но в менее ярких формах эти процессы идут во всех новых государствах на территории бывшего СССР, и чтобы им развиться до такой
183
или почти такой степени, дело стало только за временем. Это — крайне тяжелый и болезненный процесс, чреватый большими осложнениями для России. Политики не видят или не хотят видеть того, что провидел век назад Трубецкой.
Культуроцентричность — характерная черта классического евразийства: объяснение социально-экономического и политического развития через культуру. И причину революций 1917 г. евразийцы видят именно в культурных факторах, не в каких-то других. Мы говорили об этом. С. Н. Трубецкой подчеркивает1, что в любой культуре есть низовая и вершинная части, народная культура и культура образованного класса. Они обычно взаимосвязаны: верхняя культура подпитывается народной, вбирая ее интуиции и обрабатывая их, и в то же время обогащает народную развитыми и отточенными формами, которая та сама произвести не может. В России же результатом петровских реформ стал такой раскол между элитарной и народной культурой, который привел к их взаимному отчуждению: они попросту не сообщались. Революция была неизбежна, поскольку культура не может находиться в такой ситуации, не может так существовать. И вина за революцию ложится, с этой точки зрения, исключительно на верхний, элитарный слой. Себя же евразийцы расценивают как единственное пореволюционное движение в русской среде: реставрация невозможна, как уже говорилось, а коммунистический строй евразийцы считают дореволюционным, поскольку он основан на учениях, возникших до революции (марксизм и материализм), отражающих дореволюционную, а не пореволюционную реальность. В этом смысле евразийцы и говорят, что они — единственное пореволюционное движение, поскольку предлагают проект будущего строительства России-Евразии как культуры, опирающейся на собственные основания.
Чтобы на них опираться, их следует осознать: евразийство является в этом смысле лишь возвращением к себе. Больше — никакого странничества, никаких скитальцев. Вернуться к себе — вот манифест евразийцев.
Что евразийство расстается с европейскими иллюзиями, проявившимися даже у Достоевского, сказано было достаточно. Но точно так
184
же оно расстается и с иллюзией славянского единства, характерной для Данилевского. Эта идея ясно заявлена и научно обоснована Трубецким. Он утверждает:
Русский литературный язык есть общеславянский элемент в русской культуре и представляет из себя то единственное звено, которое связывает Россию с славянством. Говорим «единственное», ибо другие связывающие звенья призрачны. «Славянский характер» или «славянская психика» — мифы… «Славянская культура» — тоже миф… Итак, «славянство» не есть понятие этнопсихологическое, антропологическое, этнографическое или культурно-историческое, а понятие лингвистическое. Язык, и только язык связывает славян друг с другом1.
Это означает, что славянство не может составлять второй уровень идентичности для России. Историческая судьба России такова, что для нее ее месторазвитие и стало вместилищем сразу и первого, и второго уровней идентичности. Тот культурный синтез славянского и туранского, византийского и монгольского, который образовал Россию-Евразию, создал тем самым совершенно особую ситуацию логики все-субъектности, о которой я уже не раз говорил. Именно поэтому евразийцы говорят о России-Евразии: это вовсе не «азиатчина»2, как то мнят европеисты, это — выражение того факта, что первый и второй уровни идентичности для России неотрывны один от другого. Это — великая особенность России, данная историческим ходом развития и определившая ее культурный облик, ее склад и лад. Пренебрегать этим в угоду призрачному копированию чужой логики — великое упущение и несправедливость по отношению в собственному прошлому.
Завершая краткий обзор первого периода развития классического евразийства, отмечу, что он был периодом отдельных личностей, сложившихся в хоровую личность. Эту симфоничность сама «тройка» (Трубецкой, Савицкий, Сувчинский) отмечала в своей переписке —
185
и именно она, эта симфония, была так жестоко разрушена поступком Сувчинского, получившем название «кламарского раскола».
Этот период, далее, был периодом личной реакции на произошедшую революционную катастрофу. Вот что сами евразийцы писали в 1923 г.:
Первая попытка со стороны нескольких лиц выразить и закрепить то, что каждым из них было увидено в определенный момент… была воспринята критикой как нарочитое стремление к искусственному созданию идеологии… Для евразийцев было бы в высокой мере отрадно сознавать себя находящимися в определенном православно-русском духовном преемстве, включающем в себя и славянофилов, и Гоголя, и Достоевского, и Леонтьева. Но как раз в те времена, когда заносились на бумагу мысли и слова, составившие «Исход к Востоку» (Утверждение евразийцев, книга I-ая), сознание всех нас в такой мере было под властью непосредственной катастрофичности происходящего, что всякие внешние духовные влияния притуплялись и сознанием владел и сказывался в нем исключительно личный опыт в происшедшем. В своей духовной основе — книги евразийских сборников явились и осуществлены не как попытка построить историософскую и другую надуманную систему; это, прежде всего, — книги личного опыта нескольких лиц1.
Эту же мысль подтверждал и Трубецкой. Он не просто пассивно, но и активно отделял евразийство от всей прежней традиции, в том числе от славянофилов — не по духу, а по содержанию учения. Для Трубецкого принципиальным был творческий подход, отсутствие скованности какими-либо застывшими рамками. Он подчеркивал, что невозможно предугадать формы будущей русской культуры, поскольку это — дело творчества. В манифесте евразийцев, во введении к своему первому сборнику, они писали:
Утверждая, вслед за славянофилами, самостоятельную ценность русской национальной стихии, воспринимая тонос славянофильского отношения к России, мы отвергаем народническое отождествление этой стихии с определенными конкретными достижениями, так сказать, формами сложившегося быта. В согласии с нашим историософическим принципом, мы считаем, что вообще невозможно определить раз навсегда содержание будущей русской жизни. Так, например, мы не разделяем взгляда народников на общину как на ту форму
186
хозяйственной жизни, которой принадлежит и, согласно народническому воззрению, должно принадлежать экономическое будущее России. Как раз в области экономической существование России окажется, быть может, наиболее «западническим». Мы не видим в этом никакого противоречия возможности и факту настоящей и грядущей своеобычности России1.
И если евразийцы, выражая свой личный взгляд и осмысливая личный опыт, личную реакцию на события русской революции, оказались созвучны прежней русской духовной традиции, то для них самих это могло быть установлено задним числом: их идеи не возникли как «продолжение» какой-либо линии в прошлом.
Исключением из этого служит православная идентичность — она не подлежит сомнению, она на первом месте для тех мыслителей, выражением личного опыта которых стало евразийство. Трубецкой утверждает:
Россия-Евразия — страна-наследница. Волею судеб ей приходилось наследовать традиции, возникшие первоначально в иных царствах и у иных племен, и сохранять преемство этих традиций даже тогда, когда породившие их царства и племена погибали, впадали в ничтожество и теряли традиции2.
Это утверждение, вполне в соответствии с общим настроем «Европы и Человечества», настроем на внутреннюю логику культуры, следовало бы истолковать как указание на всесубъектность. Но Трубецкой поступает иначе: для него это — показатель «ферментности» православия, его способности претворить любые традиции:
Церковнославянская литературно-языковая традиция утвердилась и развилась в России не столько потому, что была славянской, сколько потому, что была церковной… Все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с Православием. Византийская культура с самого начала была для русских неотделима от Православия, монгольская государственность только оправославившись превратилась в Московскую, а церковнославянская литературно
187
языковая традиция только потому и могла принести плод в виде русского литературного языка, что была церковной, православной1.
Именно личный характер первоначального евразийства обусловил нередкое смешение первого и второго уровня идентичности в их текстах. Я не говорю, что они не различали это; но тексты подчас построены так, как будто бы это смешение имело место. Нередко эти авторы расценивают православие как исключительную и неотъемлемую характеристику русской культуры и как будто переносят это на культуру России-Евразии. Уже не раз говорилось, что такая позиция, если бы она действительно была позицией теоретической, противоречила бы собственным установкам евразийцев. Но следует сказать, что и сами евразийцы ясно понимали это. Трубецкой писал еще в 1921 г.:
Много говорили о том, что историческая миссия России состоит в объединении наших «братьев» славян. При этом обычно забывали, что нашими «братьями» (если не по языку и по вере, то по крови, характеру и культуре) являются не только славяне, но и туранцы, и что фактически Россия уже объединила под сенью своей государственности значительную часть «туранского востока». Опыты христианизации этих «инородцев» до сих пор были очень мало удачны. А следовательно, для того, чтобы верхи русской культуры находились в соответствии с особым положением этнографической зоны русской стихии, необходимо, чтобы русская культура не исчерпывалась восточным православием, а выявляла бы и те черты своей основной народной стихии, которые способны сплотить в одно культурное целое разнородные племена, исторически связанные с судьбой русского народа2.
Та же мысль подчеркнута во введении к первому сборнику евразийцев:
Перед судом действительности понятие «славянства», как нам кажется, не оправдало тех надежд, которые возлагало на него славянофильство. И свой национализм мы обращаем как к субъекту не только к «славянам», но к целому кругу народов «евразийского» мира, между
188
которыми народ российский занимает срединное положение… Русские люди и люди народов «Российского мира» не суть ни европейцы, ни азиаты. Сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни — мы не стыдимся признать себя — евразийцами1.
Здесь очевидно, что идентичность второго и первого уровней ясно разделяется. «Российский мир» (обратим внимание на точность формулировки — не «русский мир», а «российский») — это и есть то, что именуется Россия-Евразия, и это, безусловно, идентичность второго уровня, создающая гармоничное общее пространство для разных народов. Народный уровень («русские люди» и люди других народов) — это первый уровень идентичности. С этой точки зрения быть русским значит 1) быть русским и 2) быть евразийцем — точно так же, как быть французом значит 1) быть французом и 2) быть европейцем. Этому есть очень ясное и, с моей точки зрения, неоспоримое обоснование. Идентичность второго уровня задается общностью базового когнитивного механизма, обеспечивающего субъект-предикатное склеивание и выступающего как ядро сознания. Идентичность первого уровня — это идентичность внутри общего коллективного когнитивного бессознательного, отщепляющаяся от него по признакам, имеющим содержательный, а не логический характер. Различие английской, французской, немецкой, итальянской культур — это различие не базового когнитивного механизма, не способа субъект-предикатного склеивания, а различие содержательной начинки, организованной по совпадающей базовой логике. Напротив, различие русской и европейской, европейской и арабской (и т. п.) культур — это различие не только и не столько содержательное, сколько в первую очередь логическое: различие базовых механизмов, обеспечивающих субъект-предикатную склейку и выступающих как ядро сознания, задающее его связность. Каково это различие для субстанциальной и процессуальной, «европейской» и «арабской» логики, мы видели в Главах 2 и 3. Какова логика русской культуры и имеется ли она вообще как особая логика субъект-предикатного склеивания, мы обсуждаем, начиная с Главы 4. Мой тезис заключается в том, что это — логика всесубъектности, содержательно отраженная как учение о всечеловеческом. Именно эта логика задает пространство культуры России-Евразии и тот уровень идентичности (идентичности второго уровня), который мы можем вслед за евразийцами назвать евразийским. С этой
189
точки зрения в словосочетании «русский европеец» кроется по меньшей мере две ошибки. Во-первых, неразличение первого и второго уровней идентичности. «Русский» и «европеец» относятся к первому и второму уровню идентичности соответственно, они не могут быть слеплены в одно словосочетание так, как если бы оно передавало некую единую характеристику, единый атрибут. Во-вторых, такая слепленность русскости и европейскости предполагает, что для России характерна субстанциальная логика, заявившая о себе и раскрывшая себя в развитии европейской культуры. Заметим: именно для России, а не для мышления тех или иных конкретных представителей русской интеллигенции. «Для России» значит — для строения ее культуры, взятой синхронно и диахронно. Это — логика, которую должна выявлять российская культура на протяжении своей истории, выявлять ее как основу своего мировоззрения, жизненного уклада, выстраивания общественных отношений, этики, хозяйствования. И так далее: это — целостный взгляд, берущий культуру как целостность и выуживающий ее стержневую логику, сохраняющую себя несмотря на все исторические флуктуации, несмотря на сбрасывание и надевание всё новых содержательных одежд на протяжении истории. Именно это имеет значение — а не мышление данного или другого представителя русской интеллигенции, получившего европейское образование. И с этой точки зрения деятельность Петра и его последователей, наивно веривших, что достаточно перенять внешние формы европейской культуры, чтобы Россия стала Европой и чтобы здесь появились «русские европейцы», преследовала абсурдную цель.
Евразийская идентичность — это общая идентичность второго уровня для всех народов, населяющих Россию. Трубецкой как нельзя более ясно заявляет, что русская культура (наверное, терминологически точно было бы написать «культура российского мира» или «культура России-Евразии») не должна исчерпываться православием, она должна дать возможность всем народам найти свое место в этом культурном пространстве. Эта позиция была отражена и в итоговых документах евразийского движения. В «Декларации» 1932 г. нет речи об исключительной православной идентичности России-Евразии, и евразийцы всех других исповеданий упоминаются наряду с православными евразийцами1. Только такая позиция является и теоретически правильной,
190
и практически эффективной. Она возможна только и именно как воплощение логики всесубъектности в реальной внутренней политике.
Евразийцев, как и предупреждал Трубецкой, не приняли сразу. Уже в 1923 г. Я. Садовский суммирует выставленные обвинения в адрес евразийцев следующим образом: 1) «евразийцы — пассивные богоискатели. Они не ценят благ земных»; 2) «евразийцы зовут к отказу следовать “общечеловеческой” западно-европейской культуре. Они зовут Россию к культурному союзу с “варварами” (вроде монголов, киргизов и др.)»; 3) «евразийцы поносят императорский (петербургский) период русской истории и идеализируют допетровский период»; 4) «евразийцы национал-большевики. — Евразийцы — антисемиты»; 5) «евразийцы ослабляют напряжение национального русского духа подменой слова “русский” странно подозрительным словом “евразиец”», и, наконец, итоговое: 6) «евразийцы — реакционеры»1. Нелепость обвинений очевидна любому, кто знаком с евразийством не понаслышке: это Трубецкой или Савицкий — национал-большевики? Или, может быть, Флоровский? Уже здесь очевидно то, что вполне проявится дальше: обвинения не только не согласуются с текстами и собственными взглядами евразийцев, но и противоположны друг другу до несовместимости. В самом деле, может ли «пассивный богоискатель» (№ 1) быть одновременно «национал-большевиком» (№ 4), а «национал-большевик» — «ослаблять напряжение национального русского духа» (№ 5)?
Нынешняя, с позволения сказать, «ученая» критика евразийства представлена такими «открытиями»:
Сегодняшнее евразийство роднит с евразийством историческим неприятие современной культуры, враждебность к либерализму и попытка найти «третий путь» между капитализмом и государственным вмешательством в жизнь общества и экономическую деятельность, то есть те черты, которые сближали евразийство 1920-х годов с фашизмом2.
191
Хлесткими заявлениями такого рода, ничем не подкрепленными, кроме впечатлений автора1, полна эта книга, и ее не стоило бы упоминать, если бы это не служило выражением позиции определенной части сегодняшней русской интеллигенции. Всё то же органическое, инстинктивное неприятие какого-либо разговора о собственной логике русской культуры: как только об этом заходит речь, наши европеисты срываются в такой вот крик. Это не удивительно: подспудно, т. е. неосознанно, принимаемой предпосылкой русского европеизма служит склеивание первого и второго уровня идентичности, а это возможно, только если русская культура не имеет собственной логики, только если она включена в субстанциальную логику европейской культуры. Им вторят и немногочисленные зарубежные исследователи евразийства, прежде всего наиболее выдающаяся из них М. Ларюэль, расценивающая евразийство как возрождение имперских амбиций России. В своем инстинктивном неприятии евразийства наши европеисты, как и упомянутые «исследователи» евразийства, вполне совпадают: и для тех, и для других классическое евразийство представляется угрозой, которую следует подавить в зародыше.
Впрочем, на самом деле все эти инвективы не так уж новы. В 1931 г. Савицкий в статье «В борьбе за евразийство», опубликованной в VII-й книге «Утверждений евразийцев» и вышедшей в том же году отдельной брошюрой, подробно разобрал многочисленные обвинения, выдвигавшиеся против евразийства за десятилетие с момента его возникновения, и дал на них исчерпывающий ответ. Если современная «критика» и изобрела что-то необычное, то как нельзя более нелепое обвинение в фашизме, как у С. Глебова2. Все прочие,
192
обычные нелепости уже были испробованы и пущены в ход в первое десятилетие существования классического евразийства.
Второй этап в истории классического евразийства, середина 20-х годов, характеризуется переходом к организационным действиям. Надо сказать, что основатели евразийства, как они не раз признавались в письмах, очень осторожно подходили к расширению круга евразийцев, опасаясь размывания движения. Их лозунгом было качество, а не количество; они были уверены, что до поры до времени следует сохранять евразийство в узком кругу, и лишь потом, став реальной политической силой, оно может «пойти в массы». Эта позиция, как уже говорилось, отозвалась сегодня труднодоступностью евразийской литературы.
«Организационный» период евразийства характеризуется созданием евразийской организации. Это был постепенный процесс созревания и вырастания ячеек евразийцев, как в эмиграции, так и в Советском Союзе, где он, без сомнения, находился под пристальным вниманием органов. Еще далеко не все архивы рассекречены, и приходится ждать исследований историков, которые прольют дополнительный свет на эту печальную сторону истории евразийского движения.
Второй период — это период разработки программы реального политического действия. Эта программа основывается на общетеоретических положениях, развитых евразийцами на первом этапе, и характеризуется двумя чертами: большей практической направленностью и систематичностью. Евразийское учение приобретает черты целостности и практической заостренности.
На этом этапе в евразийское движение активно включается Н. Н. Алексеев (1879–1964) — известный русский правовед, автор серьезных работ по философии права и теории государства, выпущенных в доевразийский период его творчества1. Он разрабатывает
193
основы евразийской государственной теории, тесно увязанной с пониманием права не как формального, а как правомочия, осуществляющегося в реальном действии. Основная идея заключается в том, что в западном понимании права право индивида и обязанность всех остальных могут пониматься как дихотомичные, или взаимодополнительные: я могу требовать от остальных соблюдения моих прав, соблюдение моих прав входит в обязанность всех остальных. Это непосредственно связано с пониманием субъекта права как абстрактного индивида, как некоего универсального существа, лишенного всех конкретных характеристик — в идеале всех, кроме характеристики «субъект права». Движение в этом направлении мы ясно замечаем в современном западном идейном пространстве: человек последовательно освобождается от признаков культуры, расы, возраста, языка, пола; можно не сомневаться, что долгоживущие культурные атавизмы вроде моногамного брака — наследника христианства недолго продержатся в Европе (здесь избавились лишь от гендерной, но пока еще не от количественной его характеристики). Универсальный субъект (кантовский идеал) не может не быть максимально очищенным ото всего конкретного, поэтому движение в этом абстрагирующем направлении не может не быть продолжено на Западе. Однако такой субъект — не более чем порождение субстанциального способа мышления и субстанциальной логики. Идея Н. Н. Алексеева, пробивающая себе дорогу на страницах его сочинений, заключается в том, что подобное тотальное абстрагирование не должно быть осуществляемо. Оно в самом деле не соответствует логике всесубъектности и идее всечеловеческого, которая конституирует второй уровень идентичности для России-Евразии. Не формальное право, а действительное осуществление этого права, подлинное, осуществленное правомочие, ставится Алексеевым во главу угла. Правомочие здесь — это способность разных субъектов, не приводимых к абстрактному единству, осуществить свое право. Такое понимание правомочия в пространстве всесубъектности предполагает симфонию, т. е. сложение усилий, соработничество. Это — другое понимание человека: не как совершенно изолированного, абстрактного и самодовлеющего, участвующего всегда в войне против всех остальных, вынужденного всегда отвоевывать свое пространство и защищать его от посягательств прочих, а как гармонично увязывающего свои усилия с усилиями других.
194
Можно сказать, что такое понимание права нацелено на осуществление связности в общественных отношениях. Такая связность возможна только как всесубъектность. В свою очередь, это предполагает и другое понимание государства — это не Левиафан и не результат общественного договора. Государство понимается, с одной стороны, как средоточие служения и нравственный идеал, а с другой — как аппарат осуществления всесвязности, т. е. как все-субъект. Все-субъект не в смысле подмены действительных субъектов, а в смысле центра, обеспечивающего все-субъектность. Ведь всесубъектность, будучи логической основой идентичности второго уровня в России-Евразии, должна получить в реальной политической жизни, в реальном устройстве общества какое-то воплощение. Такое понимание государства и пробивает себе дорогу в теориях евразийцев.
Но как сделать так, чтобы государство действительно осуществляло свою функцию обеспечения всесвязности общества, построенного на логике всесубъектности? Евразийцы видят только один путь: верность идее. На этом основана и это выражает их теория идеократии. Евразийское государство не может быть «техническим» аппаратом, некой системой должностей, как это имеет место на Западе, в правовых государствах (т. е. государствах, построенных на праве в его формальном понимании): как обезличен субъект-носитель права, так же точно здесь совершенно обезличено и государство. Неважно, кто занимает ту или иную должность: дело отлажено до совершенства так, что государственная машина работает в любом случае. Более того, человек, занимающий тот или иной пост в государстве, отправляющий ту или иную должность, должен полностью перестать быть человеком — должен вывести за скобки все свои убеждения и интересы, стать идеальным придатком к этой идеальной государственной машине. Конечно, западное государство не является «просто» некой машиной, которую можно, как часто думают европеисты еще со времен Петра и вслед за ним, взять с Запада да внедрить в России. Западное государство тончайшим образом пригнано к европейской логике культуры с ее пониманием субъектности и человека, отношения человека к другим людям, границ его нравственности и т. д. Попытка «пересадить» такое государство в Россию абсурдна постольку, поскольку российское государство стремится выстроить себя совсем по другой логике, и ожидание такой выстроенности составляет важнейшую черту российского общественного мнения, неизменно выявляемую его опросами. В условиях, когда нет осознания этой глубинной логики и когда реальное политическое действие не согласуется с нею, столкновение ожидаемой логики и той,
195
что находит воплощение в реальном политическом действии, не может не вызывать напряженности.
Идеократия, таким образом, — это служение евразийской идее. Евразийская идея, как уже говорилось, выражается просто: это — идея свободного и гармоничного развития культур всех народов России-Евразии. Это и есть развитие на основе логики всесубъектности. После революции 1917 г. ситуация коренным образом изменилась, и анализ этого изменения дан в великолепной статье Трубецкого «Евразийский национализм», опубликованной в IX Выпуске «Евразийской хроники». Здесь же дано определение многонародной нации:
Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многонародная нация и, в качестве таковой, обладающая своим национализмом.
Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию — Евразией, ее национализм — евразийством1.
Не просто носителем, но верным исполнителем евразийской идеи является евразийский правящий отбор. Правящий отбор должен носить всеклассовый (не «классовый» и не «внеклассовый»!) характер2, обеспеченный, помимо прочего, приданием классам функционального характера3. О правящем отборе4, по смыслу этого понятия, можно говорить только тогда, когда он стал правящим, получил реальную
196
власть. Евразийцы не смогли стать правящим отбором1. Но они ставили именно эту цель и разрабатывали именно такую программу. Это была программа мирного, постепенного преобразования советского строя на евразийских началах. Можно сказать, что это преобразование евразийцы мыслили именно как движение в направлении всё более полного осуществления логики всесубъектности.
Второй период развития классического евразийства отличается тем, что наряду с традиционными формами сборников, хроник и индивидуальных монографий появляется жанр «формулировок», представляющих собой компактное и вместе с тем целостное изложение программных взглядов евразийцев. В 1927 г. в IX Выпуске Евразийской хроники опубликована «Формулировка 1927 г.»2. Документ снабжен интересной шапкой: «НАМ ДОСТАВЛЕН НИЖЕСЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:», а также подписью: Москва, 19273. И шапка, и подпись явно свидетельствует о внутреннем, российском, не эмигрантском происхождении «формулировки». Судя по всему, тогда в Москве, вероятно, и в других городах СССР уже существовали подпольные ячейки евразийцев. В 1932 г. публикуется брошюра под названием «Евразийство: Декларация, формулировка, тезисы» (Прага: Издание евразийцев, 1932), содержавшая три перечисленных в подзаголовке документа. Они характеризуются еще большей, чем формулировка 1927 г., сжатостью. «Декларация» открывается словами:
197
«Первый Съезд Евразийской Организации принимает от имени всего Евразийства следующую декларацию»1. В этих двух формулировках 1927 и 1932 г., в декларации и тезисах 1932 г. емко сформулированы программные установки евразийцев.
Дадим слово им самим.
Прежде всего, евразийцы настаивают на том, что советский строй должен быть преобразован мирным путем — как мы сказали бы сегодня, путем реформ, а не путем революции и уж тем более не с опорой на внешнюю интервенцию (в отличие от части эмиграции, евразийцы всегда категорически возражали против этого2). Формулировка 1927 г. заявляет в п. 9 Раздела II («Против коммунизма»):
Принимая советский строй в качестве базы дальнейшего развития, евразийцы стремятся внести в этот строй:
1. начала религиозности,
2. начала хозяйственности в лично-хозяйственном (не капитали-
стическом) смысле,
3. начала социальности, утраченные в процессе перерождения ком-
мунизма в капитало-коммунизм,
4. сознание евразийского своеобразия в форме понимания России-
Евразии как особого мира и отвержения господствовавшего до-
селе западнопоклонничества3.
Возражая той (едва ли не исчерпывающей) части русской эмиграции, которая категорически не принимала принесенные революцией изменения и хотела вернуть всё в дореволюционное состояние, Савицкий писал в 1931 г.:
Что же есть мир? совокупность ли негибких окостенелых явлений, которые существуют так, как они есть, и погибают такими же — или система меняющихся, развивающихся форм, пластичных, открытых творческому воздействию? …для нас — второе. Чего хотите: снова уничтожения существующих форм, хотя бы и несовершенных (потому и подлежат они развитию и преобразованию!) и насаждения европейских? Поверьте, из этого опять ничего не выйдет… Даже открытая подача голосов представляется вам явлением, с которым вы не можете
198
справиться. Как будто эту подачу нельзя заменить иной, отнюдь не устраняя советов как иерархически расчлененной формы управления и самоуправления. Нет, евразийцы твердо стоят на лозунге преобразования и развития советской системы1.
В «Декларации» 1932 г. евразийцы заявляют:
IV. Своей основной задачей евразийцы считают практическую организацию жизни и мира. Наиболее мощным орудием этой организации они признают государство. Во имя осуществления своих целей они стремятся к овладению государственным аппаратом.
V. Евразийский государственный строй определяется как идеократия.
VI. Евразийская идеократия осуществляется евразийским ведущим отбором, духовной и практической основой образования коего является действенное служение евразийской идее.
VII. Евразийский ведущий отбор осуществляет государственную деятельность через систему свободно избранных советов2.
Евразийцы расценивали советы как форму прямого народовластия, стоящую выше западной представительной демократии. Строй, основанный на прямом участии народа в управлении государством и обществом, они называли демотией (в отличие от демократии). Идея демотии прямо согласовывалась со всеми центральными понятиями евразийства: демотия возможна как соработничество, как сложение сил, т. е. как симфоническое действие, создающее культуроличность и в то же время задаваемое ею. Демотия возможна (не подменяется узурпацией власти со стороны реально правящей верхушки) только в условиях идеократии, т. е. действительной верности идее (в данном случае — евразийской идее), а не личным и своекорыстным интересам (как то произошло в случае эволюции советско-коммунистической власти вплоть до ее полного разложения к концу восьмидесятых). В свою очередь, только такое симфоническое действие, направляемое идеократией и обеспечивающее демотию (прямое правление народа), защищает от присвоения государственного аппарата слоем чиновников и превращает государство в гаранта все-субъектности, обеспечивающего все-связность общества. Так складывается общий облик евразийской культуры, построенной
199
на логике всесубъектности, соответствующий идее всечеловеческого и раскрывающий ее.
В этом же ряду стоят вопросы хозяйствования. Естественно, что во второй период евразийцы уделяют этим вопросам, ввиду их прямой связи с практикой, первостепенное внимание.
Здесь также всё подчинено идее симфонии единичного, личного и общего. Одно не исключает другое, но предполагает и требует его. Этот взгляд несовместим с англо-американским либерализмом, хотя современный германско-скандинавский социал-демократизм имеет некоторые (только некоторые! и не самые важные, не сущностные) черты этого строя, замысленного евразийцами.
Если Формулировка 1927 г. использует выражение «планово-личное» хозяйствование, понимая под «личным» крестьянское и ремесленное производство и мелкую торговлю, т. е. то, что исключает среднюю и крупную капиталистическую собственность, то Формулировка 1932 г. уже использует выражение «планово-частное» хозяйство и утверждает, что «максимально благоприятное положение достигается при плановой государственно-частной системе»1.
Опыт обобществления, произведенный коммунистами в России, не может пройти бесследно. Старые формы хозяйства, основанные на частной собственности, и только на ней — никогда не восстановятся в России-Евразии. Плановое хозяйство и все те положительные достижения, которые оно несет с собой, будут сохранены… Плановое хозяйство, вместо того, чтобы подавлять всеми средствами частную хозяйственную инициативу, будет использовать ее и направлять на служение целому. Таким образом, устойчивый частный сектор будет введен в общий план государственного хозяйства. В этом заключается суть Евразийской государственно-частной системы. Это не компромисс между капитализмом и социализмом, не механическое соединение того и другого, не «полуленинство». Это синтез, диалектический выход из тупиков капитализма и полного обобществления, гармоничное разрешение противоречия между частным и общим в его применении к хозяйственной области. Оно вытекает из общего утверждения Евразийством соборной личности народа как органического синтеза личного и частного, общего дела и личной автономии2.
200
Как горькая ирония звучат сегодня слова, сказанные евразийцами 85 лет назад о роли государства в развитии науки и духовности:
Цель государственной политики по отношению к организации духовной культуры сводится к наибольшему вложению средств, способствующих проявлению духовной инициативы и духовной энергии как отдельного человека, так и человеческих коллективов.
Евразийцы считают значительно недооцененной ту роль, которую исторические государства играли и играют в деле развития различных областей духовной культуры. Организация научных учреждений, университетов и исследовательских институтов, организация системы народного образования, содействие развитию отдельных отраслей искусств — всё это в значительной мере было делом государств1.
Интересно, что евразийцы формулировали в области науки идею восстановления целостности знания. Это — имеющая давнюю историю идея, идущая еще от славянофилов и принимавшая разные формы. Эта идея имеет гораздо более глубокие логические основания, нежели пресловутая «междисциплинарность». Движение в сторону целостности знания формулируется как государственная задача:
Государство должно способствовать устранению тех отрицательных результатов специализации знаний, которые разрушили идею целостности науки и привели к тому, что ныне один специалист не может понимать другого2.
Словом, это была программа движения от коммунистического строя, исчерпавшего свои возможности, к процветающей, свободной, опирающейся на свои силы и культурные потенции России. Евразийцы считали, что уже за первое десятилетие своего существования советский коммунистический строй изжил себя и будет безболезненно, мирно преобразован в евразийский. Они ошиблись на шестьдесят лет: этот момент пришел в середине восьмидесятых. Но к тому времени даже память о евразийцах была уничтожена в советском идейном
201
пространстве. Вместо реальной, работающей программы евразийцев мы получили бездарную «перестройку», закончившуюся полным провалом и разбазариванием достижений и творческих сил России.
Прекратилось ли оно сегодня? Ответить на этот вопрос не трудно, надо только спросить себя: мы уже поняли, кто мы и зачем мы? Мы уже знаем, какова логика нашей культуры, двигавшая наше историческое развитие и связавшая нити судеб наших народов? Мы уже знаем, как эту логику приложить к делу, как начать гордиться тем, чего удалось достичь, когда мы были в ладу с нею, и горевать о том, что упущено в разладе с ней? И как проложить путь в успешное будущее в согласии с самими собой, т. е. с этой логикой, определяющей наше мировоззрение и задающей наши ориентиры?
 |

|
202
Мы воспринимаем мир как систему вещей. Наше чувственное восприятие устроено так, что мир предстает не как бессмысленный конгломерат разбросанных красок — цветовых пятен, звуков, запахов и т. д. Всё это составляет палитру мира, но мир прежде всего — система вещей. Только тогда мир становится осмысленным.
Мы говорим о вещах: наш язык устроен так, что мы изъясняемся предложениями, а каждое предложение состоит из подлежащего и сказуемого. Этим мы и отличаемся от животных: животные могут использовать слова, но они не умеют строить предложения. Слово — знак: животные способны овладеть знаками, освоить знаковую систему. Но предложение — не знак: предложение — это склейка подлежащего и сказуемого, а такая склейка не может быть знаком.
Мы мыслим вещи и о вещах. Мы способны доказывать и выводить следствия из посылок. В таких доказательствах мы узнаем новое о вещах и их соотношениях.
Везде здесь центральным является вещь. Иметь дело с вещами — самое привычное для человека, самое близкое и как будто не вызывающее вопросов. Но и самое загадочное.
В самом деле, кто может сказать, почему два слова, подлежащее и сказуемое, каждое из которых живет отдельно и своей жизнью: имеет значение и не нуждается в другом слове, — почему эти два слова склеиваются в нечто единое, в предложение, которое передает единственное значение, а не два отдельных? Как образуется эта субъект-предикатная склейка? И как склеиваются пятна чувственных восприятий, чтобы образовать вещь, которую мы видим в мире — и воспринимаем мир как систему таких вещей? Как и почему две посылки аристотелевского силлогизма склеиваются, чтобы дать вывод — вывод, в котором никто не может усомниться?
203
Эта удивительная способность склеивать — отличительная черта нашего, человеческого сознания. Сознание не столько воспринимает мир, сколько выклеивает его. Эта способность обеспечивает связность: связность мира и связность сознания. Нашу способность перейти от одного к другому, связать одно с другим.
Этот удивительный клей — наша интуиция. Прямое схватывание, прямое усмотрение. Отсылка к интуиции ничего не объясняет; отсылка к интуиции констатирует данность. Наше сознание устроено именно так, как оно устроено; а устроено оно таким образом, что способно образовывать субъект-предикатную склейку. Такова данность. Всё остальное может быть объяснено, исходя из этой способности; но сама она должна быть взята как данность.
Эта интуиция — самое глубинное, что мы можем обнаружить, т. е. вывести наружу, пощупать, рассмотреть. Здесь — граница между осознаваемым и неосознаваемым. Мы схватываем интуицию в превращенных формах: в форме ли иллюстрации (круги Эйлера), в форме ли образного описания (река-время Фах̱р ад-Дӣна ар-Ра̄зӣ, бесконечно растягиваемая резина А. Бергсона). Это, конечно, не сама интуиция, не само это базовое свойство человеческого сознания. Это те «рисунки», те «пиктограммы», в которых это свойство выступает почти неприкрыто.
Интуиция схватывает сразу то, что затем может быть развернуто в речевой форме, что будет расположено одно за другим. Мы осознаем, что хотим сказать, мгновенно — как вспышка, нас озаряет мысль; но слова располагаются одно за другим, если мы хотим сообщить эту мысль другому или записать для себя на память. Это сразу — свернутость, предшествующая развернутости и определяющая ее.
Мы видели, что возможны по меньшей мере две исходные интуиции субъект-предикатной свернутости. Они обосновывают две логики — субстанциальную логику европейской культуры и процессуальную логику арабской культуры. Это — логики в полном, до конца ответственном смысле этого слова. Каждая из них дает полноценную метафизику, полноценное мировоззрение, определяет строение культуры — и в этом смысле задает логику культуры. Определяет и формальную логику, процедуру доказательства. Каждая из них полноценна в своих пределах.
Сколько таких логик выработало человечество? Этот вопрос открыт для исследования. Однако понятно, что логика, определяющая наше чувственное восприятие, наше мышление, наш язык, наше мировоззрение, нашу культуру — такая логика не единственна. А это
204
значит, что претензии какой-либо культуры на исключительную общечеловеческую значимость абсурдны. Да, любая логика может быть доступна человеку, и в этом — и только в этом — смысле любая логика имеет общечеловеческое значение, поскольку может быть понята всеми. Но никакая из них не может вытеснить никакую другую, и в этом смысле никакая из них не имеет общечеловеческой значимости как исключительная, императивная логика выстраивания культуры.
Современный глобализм опасен тем, что пытается внедрить в сознание идею общечеловеческой значимости европейской культуры не только в первом (понятность), но и во втором (императивность) смысле. Единственным противоядием может быть идея всечеловеческого устройства мира. Да, мир становится глобальным в смысле своей все-связанности, и это невозможно отменить. Но кто сказал, что он должен непременно стать моно-логичным? Всечеловеческий проект мирового устройства — это проект сохранения всего многообразия, всего богатства проявлений человеческого духа, открывшего себя в многообразии логик, развернутых как многообразие культур. Культура «застывает» как цивилизация, и многополярный мир может замысливаться только как многоцивилизационный.
Это — захватывающая перспектива, требующая от всех нас серьезных теоретических усилий и детальной проработки. На этом пути предстоит сделать очень многое, и нас ждет череда потрясающих открытий. Взять хотя бы одно: кто может сказать, что такое «значение» или «смысл», откуда они берутся, имеются или нет закономерности их функционирования? Со значением если и работают, то как с готовой сущностью, как с чем-то наличным, из чего можно строить конструкции. Взять хотя бы теорию семантических примитивов А. Вежбицкой. Выстраивая весь смысловой мир культуры из комбинаций исходных смысловых атомов, Вежбицкая не может сказать, откуда взялись сами эти смысловые атомы («семантические примитивы»), почему их именно столько (хотя число их у неё все время возрастало) и почему они именно таковы, как представлены ею. Эта «смысловая таблица Менделеева» у Вежбицкой — изначальная данность, вроде Моисеевых скрижалей. Те объяснения, которые дает Вежбицкая, лежат всегда за пределами самого значения: она, как и многие, если не все, объясняет значение чем-то внешним, что не является значением. Однако как перекидывается мостик от этих до и вне всякого значения существующих внешних вещей (ведь речь о семантических примитивах, т. е. о чем-то базовом, исходном, что должно быть понято прежде всего прочего), т. е. вещей бессмысленных (они не могут
205
быть осмыслены, пока у нас в голове не возникли эти самые примитивы — «да» и «нет», «вверху» и «внизу», «спереди» и «сзади», т. п.) — к смыслу, она показать не может и не пытается. Но мы-то видели, как рождается значение — мы были свидетелями того, как эта тайна перестала быть тайной. Мы видели, как значение слова-связки «есть» в субстанциальной логике возникает, зарождается в когнитивной процедуре включения субъекта в пространственную область предиката; а значит, к этому сводится и значение категорий «бытие», «существование». Мы видели, как в процессуальной логике значение связочной функции «опора» (исна̄д) зарождается, возникает в ходе исполнения когнитивной процедуры связывания через протекание. Так уже два значения оказались расколдованы: мы открыли их исток и увидели их зарождение. Мы можем свести эти значения к интуиции, к исходным когнитивным операциям — и, наоборот, получить эти значения из таких операций. Мы, иначе говоря, владеем этими значениями, понимаем, как они устроены и почему именно таковы, каковы они. Для этих значений больше нет магии слова: мы не обольщаемся ни этимологией, ни историческими лингвистическими разысканиями. Все они важны и имеют свою ценность и свою прелесть. Однако ответ на вопрос: что значит слово «есть» или слово «опираться», — лежит не там, не в этих изысканиях. Ответ на этот вопрос — указание на те когнитивные процедуры, которые отвечают за зарождение этих значений. Здесь же, в этой области — и ответ на вопрос о переводе. По меньшей мере для этих слов перевести — значит указать на те когнитивные процедуры, которые рождают данное значение. Перевод — не поиск «похожих» слов в другом языке, и не достижение того же коммуникативного эффекта, и не что либо еще, о чем говорят теории перевода; перевод — это деконструкция, разбор, раскапывание исходных слов, пока мы не докопаемся до исходных когнитивных процедур, обеспечивающих осмысленность этих слов (как когда мы говорим: «это понятно» или «это имеет смысл»). И дело, конечно, не ограничивается этими двумя словами. Когнитивные процедуры — то, что я называю коллективным когнитивным бессознательным, поскольку эти процедуры обычно не осознаются, являются общими для больших групп людей, обеспечивая понимание между ними, и отвечают за исходные когнитивные акты нашего сознания — задают, я думаю, вообще любые значения и слов, и предложений, и текстов. В этом направлении предстоит сложная и интересная работа. Ведь слово «опираться» в русском или английском языке — обычное слово языка, не возводимое к связочной функции, т. е. к обеспечивающей ее когнитивной
206
процедуре, в пределах субстанциальной логики. А в пределах процессуальной логики оно к такой процедуре возводится. Слово «есть», «находится» в пределах русского или английского языка возводится к связочной функции и к соответствующей когнитивной процедуре, а в пределах арабского языка — не возводится. Когда разные логики как будто встречаются, когда они «смотрят» друг на друга, возникает этот потрясающий эффект расколдовывания значения: оно разрешается в систему коллективного когнитивного бессознательного разных логик. Выходит, чтобы вполне понять значение и овладеть им, надо научиться совмещать разные, как таковые несовместимые, логики; надо научиться передвигаться между ними, заставить их взаимодействовать, работать сообща, выполнять общее дело. И если каждая логика задает субъектность, то свести их в одной задаче значит — овладеть тайной все-субъектности. Наше сознание, умеющее работать со значением, но не знающее пока, как именно оно это делает, владеет тайной все-субъектности — но само это владение остается для него тайной. Нам предстоит попытаться раскрыть ее.
Способность склеить субъект и предикат, подлежащее и сказуемое, вещь и то, что о ней говорится, — это наша, человеческая способность, наша суверенная область. Эта способность осуществляется в разных вариантах. Вариативность субъект-предикатного склеивания — одно из наиболее потрясающих свойств, характеристик этой способности. Она многовариантна без инварианта. Отсутствие инварианта для этой способности раз навсегда, окончательно обосновывает невозможность общечеловеческого и необходимость всечеловеческого.
Такая способность субъект-предикатного склеивания названа мною «коллективное когнитивное бессознательное». Бессознательное потому, что эта операция субъект-предикатного склеивания проходит и происходит вне ясного контроля нашего сознания. Когда мы строим предложение, мы никогда не задумываемся, почему и на каком основании подлежащее и сказуемое образуют нечто неразъемное и передают единый и неделимый смысл предложения — мы делаем это «просто так», «само собой». Точно так же «само собой» наше чувственное восприятие настроено на то, чтобы, «не задумываясь», выхватывать из окружающего мира «вещи» — те самые субъект-предикатные склейки. Наконец, мы не можем сказать, почему верны, к примеру, три закона аристотелевской логики. Но если мы открыли коллективное когнитивное бессознательное как интуицию, характерную для больших групп людей (потому «коллективное») и обеспечивающую базовые, исходные познавательные операции, характерные
207
именно для человека (потому «когнитивное»), а не для животных, — тогда мы можем ответить не только на вопрос о том, почему верны три закона аристотелевской логики, но и при каких допущениях они верны и где границы их осмысленности. И тогда мы можем сказать, почему мир представляется нам состоящим из материальных, субстанциальных вещей, и почему есть культуры, которые считают действие вещью и работают с миром, строя системы культуры и общества, а также теоретические науки так, как если бы мир состоял из процессов (= протеканий). Культура, взятая как способ (т. е. один из вариантов реализации способности субъект-предикатного склеивания) смыслополагания, выстраивает для нас осмысленность окружающего мира, включая общество и язык. Культура как способ смыслополагания проявляется в деятельности каждого индивидуального сознания, которое выстраивает свой индивидуальный мир осмысленности вдоль тех основополагающих линий, которые заданы коллективным когнитивным бессознательным. Это — субъективный аспект культуры, но уже в нем виден неизбежный выход за пределы индивидуального. Культура имеет и объективный аспект: она застывает в материализованных формах общежития. Культуру, ставшую и застывшую «в материале», мы называем цивилизацией. Цивилизаций столько же, сколько типов коллективного когнитивного бессознательного, или: способов смыслополагания, или: вариантов субъект-предикатного склеивания. Культуры и цивилизации не сводимы одна к другой так же и потому же, как и почему не сводимы изначально разные способы смыслополагания.
Поэтому понятно, почему для больших общностей людей, которые мы называем нациями и которые бывают организованы в государства и, главное, являются носителями той или иной культуры, создателями той или иной цивилизации, — почему для них необходимы и достаточны три уровня коллективной идентичности. Средний, «региональный» уровень — это уровень коллективного когнитивного бессознательного, общего для нескольких наций и государств и задающего общие контуры их культуры и цивилизации. Это — их общее достояние, их общий источник, из которого они черпают вдохновение и силы культурного развития. Ниже этого, на первом уровне располагается национальная идентичность. Она отщепляется от региональной и, сохраняя то же коллективное когнитивное бессознательное, т. е. те же основные линии выстраивания культуры и цивилизации, наполняет их неповторимым, именно для данного народа характерным, колоритом. Так, типовые дома могут обустраиваться совершенно по-разному и выглядеть непохоже у разных владельцев — но они
208
остаются типовыми, и это их индивидуальное разнообразие возможно именно потому, что имеется типовое сходство. Наконец, общемировой уровень идентичности. Этот вопрос наименее проработан. Обычно его либо игнорируют, либо, как в случае европейской цивилизации, попросту принимают второй уровень идентичности за третий; в таком случае заявляют о собственной «общечеловеческой» значимости. Непроработанность вопроса о третьем, высшем уровне идентичности, в том числе подмена третьего уровня вторым, была простительна прежде, когда уровень технического развития был таков, что культуры и цивилизации двигались относительно независимо друг от друга. Сегодня они — как в переполненном вагоне метро в час пик, и чтобы не передавить друг друга, мы должны ясно осознать законы, которые проявляют себя на культурно-цивилизационном уровне.
Общим выводом, носящим характер закона, из всего, о чем мы говорили в этой книге, является необходимость гармоничного согласования первого и второго уровней идентичности для успешного развития данной культуры и цивилизации. Без «подпитки» вторым уровнем национальная культура вырождается в провинциализм, а второй уровень, если на нем не вырастают индивидуальные культуры, превращается в пустую и бесплодную абстракцию, в «мертвое» сознание. Между первым и третьим уровнем обязательно должен быть второй: нельзя принадлежать сразу «миру», не опираясь на общее с другими культурами коллективное когнитивное бессознательное, не имея этого «запаса прочности» и источника творчества. Наконец, нельзя смешивать второй и третий уровни идентичности и выдавать второй за третий, коллективное когнитивное бессознательное данной культуры и цивилизации — за единственно возможное и общее для человечества.
Запад, опьяненный своими успехами последних шести веков, слепо принимает второй, общеевропейский уровень идентичности за третий, общемировой. Это, и только это служит неосознаваемой посылкой, как будто бы оправдывающей глобализационные претензии Запада в его собственных глазах. Если остались на карте мира культуры, которым дорога своя история, собственное лицо, собственное будущее и которые не согласны стать «материалом» второго сорта для расползающейся по миру западной цивилизации, им стоит ясно осознать закон трех уровней идентичности и обратиться к органичному для них и проявившему себя в их историческом развитии коллективному когнитивному бессознательному. Новые страны, образовавшиеся на развалинах СССР и прежде не имевшие собственной государственности (я говорю об исторических фактах, а не о мифах нынешней
209
идеологии), кинулись выкраивать собственную национальную историю, культуру, литературу, философию и даже науку из исторических пластов, принадлежавших разным культурам и разным цивилизациям. Эти страны в угаре нового национализма забыли, что один только первый уровень идентичности не обеспечит им ни процветания, ни даже устойчивости: не учитывая того, что нельзя не опираться на второй, общий с другими, уровень идентичности, они обкрадывают себя и ставят под вопрос свое будущее. Это же относится ко многим государствам такого же типа, образовавшимся в национальных границах на прежних колониальных территориях Азии и Африки и никогда ранее не бывших именно национальными государствами. Везде здесь соблюдение правильного баланса между первым и вторым уровнями идентичности должно быть в центре внимания, если эти страны не хотят столкнуться с серьезными и глубокими кризисами.
В истории России ясно заявляет о себе логика всечеловеческого. Только эта логика может быть логикой действительно человечного мироустройства, не подавляющего никакие культуры, но, напротив, сберегающего их как драгоценное достояние всех. Логика всечеловеческого является собственной, «родной» и органичной для России логикой культуры. Не пытаться украдкой пристроиться к чужому цивилизационному пирогу — вряд ли достанутся даже крохи; но строить свое. Только таким может быть проект действительно и подлинно успешного, хотя и не спешного, цивилизационного развития для России.
 |

|
210
Carroll L. The annotated Hunting of the snark. Edited with a preface and notes by Martin Gardner. The definitive edition. New York: W. W. Norton & Company, 2006.
Jullien F. Le détour et l’accès: stratégies du sens en Chine, en Grèce. Paris: Grasset, 1995.
Massignon L. Les méthods de réalization artistique de peoples de l’Islam // Massignon L. Opera minora. T. 3. Beirut: Y. Moubarac, 1963. P. 9–28.
Said E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Routledge, 1978.
Sorokin P. Social and Cultural Dynamics. 4 vols. New York; Cincinnati [etc.]: American Book Company, 1937–1941.
Sorokin P. Social and Cultural Dynamics: A study of change in major systems of art, truth, ethics, law and social relationships. Boston: Extending Horizons Books, 1957.
‘Абд ар-Ра̄зик̣, ‘Алӣ. Ал-Исла̄м ва ’ус̣ӯл ал-х̣укм. Бах̣с̱ фӣ ал-х̱ила̄фа ва-л-х̣укӯма фӣ ал-исла̄м (Ислам и основы правления. Исследование вопроса о халифате и правлении в исламе). 2-е изд. Мис̣р, 1925.
Ал-Джа̄бирӣ. Таквӣн ал-‘ак̣л ал-‘арабийй (Становление арабского разума). 10-е изд. Байрӯт: Марказ дира̄са̄т ал-вах̣да ал-‘арабиййа, 2009.
’Абӯ Бишр Матта̄. ’Ана̄лут̣ӣк̣а̄ ал-’ава̄х̱ир ва хува ал-ма‘рӯф би-кита̄б ал-бурха̄н ли-Арист̣ӯт̣а̄лис («Вторая Аналитика», известная как «Доказательство» Аристотеля), нак̣лу ’Абӣ Бишр Матта̄ б. Йӯнис ал-К̣унна̄’ӣ ’ила̄ ал-‘арабийй мин нак̣л Исх̣а̄к̣ б. Х̣унайн ’ила̄ ас-сурйа̄нийй // Мант̣ик̣ Арист̣ӯ (Логика Аристотеля) х̣ак̣к̣ак̣а-ху ва к̣аддама ла-ху ‘Абд ар-Рах̣ма̄н Бадавӣ. Ч. 2. Кувайт: Вика̄лат ал-мат̣бӯ‘а̄т; Байрӯт: Да̄р ал-к̣алам. 1980.
Ар-Ра̄зӣ, Фах̱р ад-Дӣн. Ат-Тафсӣр ал-кабӣр («Большое толкование [к Корану]»). Т. 1. Байрӯт: Да̄р ал-кутуб ал-‘илмиййа, 2000.
Абдарразик Али. Ислам и принципы правления / Пер. Н. В. Ефремовой // История философии. Т. 20. № 2. М.: ИФРАН, 2015. С. 148–165.
211
Августин. Исповедь. М.: Renaissance, 1991.
Алексеев Н. Н. Евразийцы и государство // Евразийская хроника / Под ред. П. Н. Савицкого. Вып. IX. Париж, 1927. С. 31–39.
Алексеев Н. Н. Основы философии права. Прага: Пламя, 1924.
Алексеев Н. Н. Очерки по общей теории государства: Основные предпосылки и гипотезы государственной науки. Выпуск первый. М.: Московское научное изд-во, 1920.
Апресян Р. Г. Моральная философия, мысленный эксперимент и неуправляемая вагонетка // Философский журнал. Т. 9. № 2. 2016. С. 138–144.
Аристотель. Аналитики первая и вторая. М.: Госполитзидат, 1952.
Аристотель. Вторая аналитика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1978. С. 255–346.
Балуев Б. П. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Тверь: Булат, 2001.
Бергсон А. Введение в метафизику // Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 5. СПб.: Издание М. И. Семёнова, 1914. С. 3–47.
Бицилли П. М. Католичество и Римская Церковь // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 40–79.
Вернадский Г. В. Начертание русской истории. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1927.
Вернадский Г. В. Звенья русской культуры. Древняя Русь. Б. м.: Издание евразийцев, 1938.
Герцен А. И. Былое и думы. // Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 8–10. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
Глебов С. Евразийство между империей и модерном: История в документах. М.: Новое издательство, 2010.
Данилевский Н. Я. О движении народонаселения в России. СПб., 1851.
Данилевский Н. Я. Климат Вологодской губернии. СПб., 1852.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. СПб.: Тип. брат. Пантелеевых, 1895.
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. 2. Кн. 5. Гл. IV «Бунт» // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 1976.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Гл. 2. Пушкин (очерк) // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984.
Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях. Гл. III // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 5. Л.: Наука, 1973.
Евразийский временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Книга третья. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923.
Евразийство (Формулировка 1927 г.) // Евразийская хроника / Под ред. П. Н. Савицкого. Вып. IX. Париж, 1927. С. 3–14.
212
Евразийство (Формулировка 1927 г.) // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М.: Наука, 1993. С. 217–229.
Евразийство: Декларация, формулировка, тезисы. Прага: Издание евразийцев, 1932.
Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик? Стратегия смысла в Китае и Греции / Пер. В. Г. Лысенко. М.: Московский философский фонд, 2001.
Завтра: Ежемесячник утвержденцев (Париж, начало 1930-х гг.).
Ильин В. Н. К проблеме литургики в Православии и Католицизме // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 177–217.
Исход к Востоку: Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София: Балканъ, 1921.
Коран (пер. Г. С. Саблукова).
Логовиков П. В. Научные задачи евразийства // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Книга VII. Париж: Издание евразийцев, 1931. С. 53–63.
Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов // Арабская средневековая культура и литература (Сб. статей зарубежных ученых). М.: Наука (Главная редакция Восточной литературы), 1978. С. 46–59.
Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Введение // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М.: Наука, 1993. С. 4–23.
Памук О. Имя мне — Красный / пер. М. Шарова. СПб.: Азбука, 2015.
Пегов Г. Что такое Всероссия? Опыт вскрытия ее сущности и мирового значения. Посев: Франкфурт-на-Майне, 1952.
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1951.
Россия и латинство. Берлин, 1923.
Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006.
Савельев И. Своеобычное в русской фольклористике: Что дала и может дать нового в методологии русская фольклористика? // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Книга VII. Париж: Издание евразийцев, 1931. С. 65–82.
Савицкий Н. П. В борьбе за евразийство. Париж, 1931.
Садовский Я. Оппонентам евразийства (Письмо в редакцию) // Евразийский временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Книга третья. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923. С. 152–167.
Сборник политических и экономических статей Н. Я. Данилевского. СПб: Тип. бр. Пантелеевых, 1890.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Смирнов А. В. О формализации умозаключения в процессуальной логике. Ч. I // Философский журнал. Т. 10. № 4. 2017. С. 72–92.
213
Смирнов А. В. О формализации умозаключения в процессуальной логике. Часть II // Философский журнал. Т. 11. № 1. 2018. С. 5–27.
Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Данилевский Н. Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому. СПб.: Тип. брат. Пантелеевых, 1895. С. IX–XXXI.
Страхов Н. Н. О книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» // Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. С. 510–515.
Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М.: Тип. В. М. Саблина, 1909. С. 127–145.
Струве П. Б. Размышления о русской революции // Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 427–455.
Сувчинский П. П. Страсти и опасность // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 16–39.
Сувчинский П. П. Монархия или сильная власть? // Евразийская хроника / Под ред. П. Н. Савицкого. Вып. IX. Париж, 1927. С. 22–24.
Топоров В. Н. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения) // Н. С. Трубецкой и современная филология. М.: Наука, 1993. С. 31–118.
«Третья Россия» (La Troisième Russie). Париж, 1932–1939 г.
Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник: Непериодическое издание под ред. П. Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. Книга третья. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923. С. 107–124.
Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры (Этническая основа русской культуры) // Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. Париж: Издание евразийцев, 1927. С. 21–33.
Трубецкой Н. С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // Трубецкой Н. С. Евразийство: Избранное. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 140–189.
Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1920.
Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Трубецкой Н. С. Евразийство: избранное. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 274–289.
Трубецкой Н. С. Общеевразийский национализм // Евразийская хроника / Под ред. П. Н. Савицкого. Вып. IX. Париж, 1927. С. 24–31.
Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания. Париж: Издание евразийцев, 1927. С. 54–94.
Трубецкой Н. С. Русская проблема // Трубецкой Н. С. Евразийство: Избранное. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 214–224.
Трубецкой Н. С. Соблазны единения // Россия и латинство. Берлин, 1923. С. 121–140.
Тургенев И. С. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 10. М.: Худ. лит-ра, 1956.
214
Тургенев И. С. О Пушкине. Речь на публичном пушкинском заседании Общества любителей русской словесности 7 июня 1880 г. // Иван Тургенев и Общество любителей русской словесности. Сб. статей. М.: Academia, 2009. С. 11–22.
Утверждения. Орган объединения пореволюционных течений. № 1. Февраль 1931. Париж.
Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М.: Наука, 1993. С. 237–265.
Хара-Даван Эренжен. О кочевом быте // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Книга VII. Париж: Издание евразийцев, 1931. С. 83–86.
Хомяков А. С. Мнение иностранцев о России // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. 3-е изд., доп. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 3–28.
Хомяков А. С. По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. 3-е изд., доп. Т. 1. М.: Университетская типография, 1900. С. 197–260.
Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 523–538.
Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 320–440.
Шахматов М. В. О правящем отборе // Шахматов М. В. Государство правды. М.: ФондИВ, 2008. С. 49–51.
Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998.
Якобсон Р. О. К характеристике евразийского языкового союза. Париж: Издание евразийцев, 1931.
Якобсон Р. О. О фонологических языковых союзах // Евразия в свете языкознания. Прага: Издание евразийцев, 1931. С. 7–12.
215
Андрей Вадимович Смирнов
ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ vs. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
Корректор Н. Полякова
Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой
Художественное оформление переплета С. Жигалкина
Подписано в печать 12.03.2019. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 13,5. Тираж 600. Заказ №
ООО «Садра».
№ госрегистрации 1127746353855.
Тел.: +7 (495) 943-40-39, +7 (901) 593-40-39.
Факс: +7 (499) 230-13-88.
Е-mail: sadrabooks@gmail.com
129301. Москва, Проспект Мира, д. 186, корп. 1, кв. 8.
Издательский Дом ЯСК.
№ госрегистрации 1147746155325
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: http://www.lrc-press.ru, http://www.lrc-lib.ru
216