




|
Процессуальная логика |
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
А.В. Смирнов, В.К. Солондаев
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
ЛОГИКА

Москва
2019
|
УДК 165.12 ББК 87.153.30 С50 |
|
|
Рекомендовано к печати Книга подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-03-00672-ОГН Рецензенты: доктор философских наук В.В. Васильев доктор психологических наук, член-корреспондент РАН Д.В. Ушаков доктор медицинских наук И.В. Иванова |
|
|
Смирнов А.В., Солондаев В.К. С50 Процессуальная логика / А.В. Смирнов, В.К. Солондаев. — М.: ООО «Садра», 2019. — 160 с. ISBN 978-5-907041-37-0 16+ В монографии дан очерк логико-смысловой теории сознания. Показано, что сознание, взятое как cogito, полагает равновозможными «путь существования» (cogito ergo sum Декарта) и «путь действия» (cogito ergo actum, не указанное Декартом). Первый путь разрабатывался европейской культурой на основе субстанциальной логики, или С-логики, второй — арабской культурой на основе процессуальной логики, или П-логики. Культурные практики отбирают и закрепляют в коллективном сознании только одну логику в качестве нормативной основы общественного устройства, политики, права, этики, философии. Индивидуальное сознание, взятое как cogito, всегда сохраняет возможность выбора любого из путей и любой из логик. Многологичность индивидуального сознания была подтверждена в ходе экспериментального психологического исследования. Изучалось принятие родителями решения о вакцинации ребёнка. Обнаружено, что рассуждения в С-логике и П-логике одинаково убедительны для родителей, а выбор рассуждений в П-логике повышает шансы согласия на вакцинацию. Показаны перспективы, открываемые П-логикой в психологии и философии. УДК 165.12 ББК 87.153.30 |
|
 |
© А.В. Смирнов, 2019 © В.К. Солондаев, 2019 © Институт философии РАН, 2019 © ЯрГУ, 2019 © ООО «Садра», 2019 |
Содержание
Развилка «существование/действие»19
Пространственное разворачивание целостности43
Целостность, развёрнутая как протекание58
Культура как способ смыслополагания: право и этика80
Теория сознания: целостность и связность88
Обоснование темы исследования97
|
|
|
|
 |
1 Введение |

|
|
|
|
|
Вряд ли кто-то сомневается в том, что мир, нас окружающий, действительно существует. Едва ли не главная философская проблема заключается в том, что веру в окружающий мир невозможно доказать — она остаётся верой. Но сейчас речь не об этом. О возможности или невозможности доказать существование внешнего мира задумываются философы, но вряд ли этот вопрос волнует кого-то, кроме них. Учёный совершенно определённо начинает именно с этого утверждения, без принятия которого наука вообще была бы невозможна. А в обыденной жизни, в ежедневном общении все люди, включая философов, ведут себя так, будто существование внешнего мира не подлежит сомнению. Обыденное мировоззрение начинается с этого имеющего глубокий философский смысл постулата: внешний мир, безусловно, существует.
Но это — не единственное убеждение, которое все мы питаем, не задумываясь над ним — ведь большинство людей ни разу в жизни не подвергают его сомнению. С уверенностью в существовании внешнего мира связано ещё одно — убеждение в том, что этот внешний, не зависящий от нас мир един. Един в обоих смыслах этого слова.
Во-первых, этот мир один: мы не перемещаемся между разными мирами, разными вселенными, в ходе нашей жизни. Множественность миров была и остаётся лишь философской теорией, которую сегодня используют в физике, но это — не убеждение, которое питаем все мы. В любом случае наука изучает только один-единственный мир, в котором мы живём. И своё ежедневное поведение мы выстраиваем как жизнь в одном-единственном мире, в котором родились и в котором живём, строим планы на будущее и вспоминаем прошлое. В этом смысле и религиозная мифология не умножает мир. Мир этот и мир потусторонний — один мир, одна система, где наше поведение в «этом» мире связано, пусть опосредованно, с нашей судьбой в «том» мире и где тот мир влияет, пусть для нас непостижимо (на то она и мифология), на этот мир в целом и на нас и наше поведение, в частности. Эта связь и это соотношение между мирами понимаются
|
6 |
Введение |
|
различно, вплоть до несовместимости, в иудаизме, христианстве, исламе, буддизме или иных системах религиозных верований, но неизменным остаётся одно — сам факт связи и влияния между «этим» и «тем» миром (или мирами). С этой точки зрения религиозная мифология не даёт ничего принципиально нового в сравнении с представлениями уфологов или фантастов о «других мирах».
И во-вторых, этот мир един в смысле всеобщей связности. Он очень большой, и вполне возможно, что за всю свою жизнь мы не увидим и малой его части; и даже тот, кто, как Фёдор Конюхов, не раз проплывёт и пролетит вокруг земного шара или, как Артур Чилингаров, спустится в глубины его океанов, всё равно не увидит всю Землю, — не говоря уже о том, чтобы увидеть всю Вселенную. И тем не менее весь этот необъятный мир един.
В каком смысле? А в том смысле, что, если мы изучаем известную нам часть мира и открываем в ней какую-то устойчивость, повторяемость, какой-то закон, который позволяет нам предсказывать поведение окружающего нас мира, — то и в другой части мира будет происходить то же самое. Если стрелки будильника приводятся в движение взведённой пружиной в Москве, то и в Африке или на Северном полюсе эти стрелки будут точно так же двигаться, а будильник будет исправно звонить. Добро будет добром, а зло — злом не только в моей деревне или моём городе, но и везде на Земле и даже во всей Вселенной. И не только сегодня, но завтра и всегда. Этические представления могут меняться от культуры к культуре, от эпохи к эпохе, от человека к человеку, но это не отменяет сказанного, поскольку для каждого из этих коллективных или индивидуальных субъектов дело обстоит именно так, — а иначе понятия добра и зла не имели бы смысла.
Убеждённость в единственности и единстве мира очень глубоко встроена в наше сознание и исподволь управляет нашим поведением. Если мы стараемся «беречь честь смолоду», то только потому, что убеждены — на уровне какой-то внутренней уверенности, совершенно не обязательно осознаваемой, — что и в зрелом, и в преклонном возрасте «мы» — это именно те «мы», которые были и молодыми, и то, что мы делали на протяжении всей своей жизни, имеет значение для нас и сегодня. Муки совести, причиняемые не забытым, когда-то сотворённым злом, или тихая, спокойная радость, приносимая сделанным когда-то добром, известны любому человеку и лучше всего свидетельствуют об этом.
|
|
Введение |
7 |
Такая убеждённость в единственности и единстве мира, в пространстве и во времени, нерасторжимо (и вместе с тем непостижимо как) склеена с уверенностью в единственности и единстве нашего «Я». Ведь мои планы на будущее или ответственность за прошлое имеют смысл и действительны не только потому, что мир остаётся тем же самым миром на протяжении всей моей жизни, но и потому, что я сегодня — тот же самый, что когда родился или когда моя жизнь клонится к закату. Хотя мы каждый день, каждый час и даже каждую секунду — не просто разные, но другие, меняемся непрестанно, что-то приобретаем, что-то утрачиваем, и даже в каждый данный момент предстаём во множестве своих ликов: для кого-то мы — родители, для кого-то — дети, для кого-то начальство, для кого-то — подчинённые, кому-то — друзья, кому-то — враги, а для кого-то — просто прохожие, случайно мелькнувшие на горизонте, — несмотря на всё это неисчислимое многообразие ликов, мы — всегда мы, всегда строгая единица, ни в коем случае не дробящаяся, несмотря ни на какие умножения. Как един мир, предстающий в неисчислимом множестве образов, точно так же един каждый из нас, представая ежесекундно и в течение всей жизни в неисчислимом множестве ликов. Единство и единственность «Я» точно соответствуют единству и единственности окружающего нас мира.
Без этих двух столпов наша ориентация в мире рассыпалась бы в прах. Наше повседневное поведение возможно лишь благодаря двум этим постулатам и, в свою очередь, поддерживает нашу уверенность в них, — ведь они не дают сбоев, и никогда в своём опыте мы не встречаемся с тем, что поставило бы их под вопрос. А даже если такой вопрос вдруг возникает, если что-то наводит на мысль, что мир где-то ведёт себя не так, как мы привыкли, мы скорее перестроим наши представления о всеобщей закономерности, чем откажемся от убеждённости в единстве и единственности мира. Когда мы вдруг узнаём, что в космосе предметы не падают вниз, а парят, это не заставляет нас считать, будто мир поделён на две разные части, в которых действуют разные законы; нет, мы так сформулируем закон всемирного тяготения, чтобы он работал и на Земле, и в космосе, оставляя мир принципиально единым.
Отметим это удивительное обстоятельство. Незыблемая убеждённость, во-первых, в единственности и единстве внешнего мира; и, во-вторых, в единстве и единственности нашего «Я». Это, с одной стороны, сложнейшие философские проблемы; а с другой — самые простые,
|
8 |
Введение |
|
несомненные положения, которые все мы признаём за очевидные. Иначе быть не может; но это «не может» мы говорим только потому, что эти убеждения проникли в плоть и кровь нашего мировосприятия, нашего мышления и нашего поведения. Мы видим мир, людей вокруг нас и самих себя, мы строим своё поведение в этом мире только потому, что убеждены в истинности этих двух положений.
Откуда берутся эти два положения, в которых мы — люди, живущие в обществе, — не можем не быть уверены, даже если не осознаём их? Либо они даны природой и врождены, обусловленные какими-то генетическими или прочими биологическими механизмами наследственности; либо они даны нам культурными практиками, которые мы усваиваем, социализируясь и превращаясь в общественных живых существ. Не думаем, что можно защитить первую точку зрения — для неё не просматривается оснований. Остаётся второе: эти два убеждения, без которых мы — не мы и не можем жить в обществе, усваиваются благодаря культурным практикам, в которые мы погружены с младенчества, если не сказать — уже находясь в утробе матери.
Культура в этой книге будет пониматься как способ смыслополагания. «Смыслополагание» будем понимать как создание осмысленности, как делание мира осмысленным. «Осмысленным» не в каком-то высоком смысле этого слова: «смысл» — не некое высшее предназначение или что-то ещё в этом духе, как это часто понимают. Нет, «осмысленность» в самом простом и обыденном смысле этого слова. Например, звуки речи на знакомом языке для меня осмысленны, а на незнакомом — бессмысленны, хотя и эти осмыслены мною в каком-то смысле: я понимаю, что их издаёт человек, понимаю, что это — тоже речь, хотя и не понимаю, что именно сказано. «Смыслополагание» будет пониматься в этом смысле: как внешний мир, в существовании которого мы все уверены, становится понятным для меня; и даже если и не до конца понятным — то всё же понятным в принципе, в своей основе. Я могу не понимать, что такое первая или вторая космическая скорость и почему они именно таковы, но я понимаю, что такое выведенный на орбиту спутник, когда использую спутниковый интернет, спутниковый телефон или спутниковое телевидение. Я могу не знать, что такое сердцевина, древесина, пробка и кора, но я знаю, что вот это передо мной — дерево. Дерево я вижу как дерево — не как бессмысленное множество разрозненных сигналов моих внешних чувств: цветов,
|
|
Введение |
9 |
запахов, форм, осязательных или даже вкусовых (кто не пил берёзовый сок весной?) ощущений.
Конечно, и животные, во всяком случае — высокоразвитые, умеют ориентироваться в окружающем мире и, наверное, в каком-то смысле «знают», что перед ними дерево, а не камень, и именно дерево, а не некоторый набор физических свойств вроде цвета, запаха или формы. Возможно. Животные имеют начатки способности осмысливать мир, в этом вряд ли можно сомневаться. Здесь нет и не может быть однозначной границы между человеком и животным. И всё же такая граница существует, и существует именно в области смыслополагания. Именно и только человек способен к тому типу смыслополагания, который основан на субъект-предикатном склеивании и о котором мы будем подробно говорить в первой главе этой книги. Именно и только этот тип смыслополагания делает возможным язык в подлинном смысле этого слова — а не систему знаков, сколь бы сложной она ни была; об этом мы также поговорим. Смыслополагание в этом, «человеческом» смысле слова, полагание «что» и «какое» — раздельных, но не разделяемых, — будет интересовать нас здесь, и именно его мы имеем в виду, когда определяем культуру как способ смыслополагания.
Культурные практики, дающие нам овладеть языком и усвоить, осознанно и неосознанно, через вербальные и невербальные механизмы, всю ту сумму представлений, знаний и отношения к окружающему миру и людям, которая «наработана» носителями данной культуры, делают мир осмысленным для нас. Благодаря им мы усваиваем уверенность в том, что окружающий мир един и что мы остаёмся теми же самыми на протяжении всей своей жизни. Что эти представления на деле вовсе не тривиальны и не являются общераспространёнными, свидетельствуют данные культурной антропологии. Но сейчас речь не об этом. Постулаты о единстве мира и единстве нашего «Я», определяющие наше мировоззрение и поведение, можно назвать «естественной установкой». Естественной не в том смысле, что она дана природой — вовсе нет, поскольку зависит эта установка от овладения культурными практиками. Естественная установка естественна в том смысле, что она, и только она, позволяет нам «естественно» вести себя в обществе и мире — в том обществе и в том мире, который соответствующими культурными практиками и сформирован. Оправданы ли эти два постулата (о единстве мира и единстве «Я») теоретически — большой вопрос,
|
10 |
Введение |
|
но здесь мы имеем право вынести его за пределы обсуждения. Нас интересует не теоретическая (сугубо философская) их оправданность, а оправданность, так сказать, практическая. А практически они оправданы уже тем, что только на их основе мы можем социализироваться и строить своё успешное поведение в мире. Естественная установка — это установка обычного человека, не подвергающего её сомнению и рефлексии.
К этим двум постулатам, исподволь внедряемым в наше сознание культурными практиками, добавляется третий. Мы уверены не только в том, что мир един, но и в том, что его описание едино. Если Иван — хороший человек, значит, он хороший и не может быть плохим. Если ложка сделана из серебра, значит, она не вступает ни в какие химические реакции и не заржавеет, поскольку не может оказаться сделанной из железа. Если магнитный полюс расположен где-то на севере, значит, на юге его искать бесполезно. Если мухомор опасен, его не следует употреблять в пищу. И так далее: представление об устойчивости мира нам нужно не менее, чем представление о его единстве и единственности. Вряд ли большие шансы выжить у того, кто думает, что мухомор может оказаться сегодня съедобным, или добраться до места назначения у того, кто думает, что стрелка компаса сегодня будет указывать на юг. Закономерность мира всегда одна и та же, и мир ведёт себя так, как он себя ведёт, не изменяя себе. Это тоже можно считать частью естественной установки, внедрённой в наше сознание культурными практиками и необходимой для нашей успешной жизни. Существование внешнего мира, его единственность, единство и устойчивость, или постоянство, — так можно выразить естественную установку, формируемую культурными практиками и проявляющую себя и в нашем мировоззрении, и в нашем поведении.
Выраженная наукообразно, эта естественная установка предстаёт обычно как убеждённость в том, что логика, подлинным образом описывающая мир, одна. Ведь если мир устойчив и закономерность, им управляющая, одна, то и логика одна. Потому что логика и есть не что иное, как указание на закономерность мира. Стрелка компаса не может указывать и на юг, и на север одновременно, потому что закон противоречия не знает исключений, и, если она куда-то указывает, значит, указывает именно на север, поскольку закон исключённого третьего работает всегда. И стрелка компаса — всегда именно стрелка компаса, способная указывать направление на магнитный полюс: закон тожде‐
|
|
Введение |
11 |
ства также не знает исключений. Логика, законы которой сформулированы Аристотелем почти две с половиной тысячи лет назад, накрепко встроена в наше поведение, и мы обычно стараемся, пусть и неосознанно, вести себя в соответствии с её требованиями, чтобы достичь искомых результатов.
Естественная установка, внедряемая в наше сознание культурными практиками, принимается как нечто само собой разумеющееся. Но она также выражается в сугубо теоретической форме в философских учениях, точнее даже — не в каком-то особом учении, а в том, что лежит в основании многих, если не всех их, и что стало своеобразным credo европейской философии. Это — универсализм, понимаемый как универсализм разума. Credo высказывается и заявляется, оно не обосновывается; напротив, любые обоснования выстраиваются на его основе, отталкиваясь от него. Так и здесь: разум универсален и не зависит ни от каких географических, этнических, исторических и прочих обстоятельств. Это credo, отчётливо сформулированное уже Аристотелем, не было поколеблено в европейской мысли, в том числе современной, никакой критикой разума, критикой понятия истины, критикой науки или критикой философии. Напротив, всякий раз оказывалось, что любая такая критика велась именно от лица разума и не могла вестись иначе — иначе она и не была бы критикой.
Больше двух с половиной тысяч лет, со времён досократиков, европейская философия была занята собой: европейской культурой, европейским мышлением, европейским обществом и европейской наукой. Это совершенно естественно: чем ещё ей было заниматься, как не самой собой? На этом пути европейская философия достигла огромных успехов, а европейская культура распространила своё влияние далеко за пределы Европы. Представление об универсальности разума, теоретически заявленное Аристотелем, было многократно рассмотрено, пересмотрено, развито и подтверждено в тысяче вариантов. Многовековые культурные практики закрепили это положение.
И всё же остаются два вопроса. Во-первых, действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения? Конечно, трудно отрицать, что успешно строить свою ориентацию в мире и обществе нам помогает умение классифицировать вещи, подводить единичное под общее, обобщать, выделяя главные и второстепенные признаки. Так мы
|
12 |
Введение |
|
можем предсказать поведение мира, поскольку закономерность, на которую опираемся в подобном предсказании, всегда носит общий характер. Но только ли этой способностью, высшим проявлением которой в нашем отчётливом мышлении стали логические операции, основанные на подведении под класс, задаётся и рационализируется наше поведение? Действительно ли этот разум универсален в этом смысле — в смысле его влияния на наше поведение?
Чтобы вопрос показал своё подлинное значение, приведём два примера. В 1976 г. была опубликована великолепная книга Н.Д. Арутюновой «Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы», образцовая с точки зрения сочетания философского и лингвистического анализа языка. Уже в самом её конце встречаем такое утверждение: «Сигнал тревоги может быть выработан только в результате классификации ситуаций на угрожающие и неугрожающие» [Арутюнова 1976: 331]. Вот пример того, что мы называем влиянием культурных практик на наше сознание, в том числе — сознание учёного. Ведь речь о теоретическом положении, которое выдвинуто не случайно, а в контексте обсуждения вопроса о связи языка и мышления. Представим себе, что Н.Д. Арутюнова права. Выходит, заметив краем глаза, что вот эту машину вдруг занесло на тротуар и она грозит врезаться в толпу прохожих, я сперва должен классифицировать эту ситуацию, решив, является ли она угрожающей. Видимо, такое решение можно принять только на основании оценки всех признаков: скорости машины, её тормозного пути, управляемости, того, видят ли её пешеходы, и т.п. Наверное, пока я буду классифицировать, надобность в «сигнале тревоги» просто отпадёт. Если бы не только человек, но и животные «классифицировали» ситуации, прежде чем издать сигнал тревоги, они давно бы вымерли, не выдержав борьбы за существование. Нелепость этого утверждения о необходимости классификации ситуации, причём по дихотомическому признаку «угрожающая-не угрожающая» (точно по Аристотелю), совершенно очевидна — и тем не менее это положение выдвигается как не требующее обоснования. Вот что значит влияние культурных практик и привитое ими в качестве безусловного представление о непременности операций подведения под класс для осмысления мира. А почему не предположить, что ситуация заставляет кричать и что этот крик сигнализирует другому об опасности? Почему не осмыслить то же самое через категорию действия, а не через
|
|
Введение |
13 |
категорию класса? Ведь тот факт, что все мы встроены в целую сеть действий и взаимодействий, ни для кого не секрет. Чтобы ненавидеть врага, напавшего на мою родину, мне не нужно классифицировать ситуации противостояния на угрожающие и не угрожающие, мне достаточно любить свою страну и защищать её. Но «ненавидеть», «любить», «защищать» — действия, а не классы предметов. Неужели наше поведение таково, что оно «не замечает» этого фундаментального факта? Неужели мы, как считает Н.Д. Арутюнова, всё время что-то классифицируем, чтобы что-то сделать, а не встраиваем своё действие в систему других действий? А ведь приведённое мнение — не единичное, и философы вслед за некоторыми психологами за простым чувственным восприятием открывают без преувеличения «скрытый силлогизм», с обязательным подведением данного единичного под «общие свойства», причём видят в этом единственно возможный вариант объяснения процесса осмысления внешней действительности человеком. В.А. Лекторский пишет, ссылаясь на «современного психолога Р. Грегори», что, наблюдая дождь за окном, человек подводит эти частные явления под общие свойства любого дождя и строит силлогизм вроде того, что любой дождь имеет свойство смачивать землю, сейчас идёт дождь, значит, на улице мокро; а Г. Гельмгольц называл восприятие бессознательным силлогизмом. Значит, заключает В.А. Лекторский,
на бессознательном уровне такого рода умозаключения неизбежны — все явления психической жизни предполагают соотнесение частных случаев с определёнными общими характеристиками. Такие же умозаключения предполагает использование языка — ведь называя то или иное явление определённым словом, мы выделяем общие характеристики некоторого конкретного явления [Лекторский 2019: 19].
Что это, как не «слепое пятно» привычной нам культуры: стремление осмыслить мир как систему классов вещей, а не как систему действий; нивелировать действия, свести их к атрибутам субстанций?
Работая длительное время вместе с медиками в детской психиатрии, один из авторов настоящей книги столкнулся с необъяснимым для себя феноменом. Коллеги-медики удивительным образом игнорировали этические аспекты своей работы. Игнорировали в теоретическом плане, ссылаясь на «деонтологию, которая описана в учебни‐
|
14 |
Введение |
|
ках и все её знают со студенчества». При этом вопросов к этическим аспектам повседневной профессиональной практики коллег не возникало. Но если различные вопросы, связанные с диагностикой, тактикой ведения порой очень сложных случаев обсуждались с коллегами формально и неформально, то этические вопросы не обсуждались вовсе.
Явную формулировку такой позиции мы находим у К. Дёрнера: «Призрак бродит по медицине. Это — этика. Она призрачна потому, что внезапный взрыв “моды” на медицинскую этику раздражает» [Дёрнер 2006: 16]. Почему же этика призрачна и раздражает? Этика «описана в учебниках» далеко не так исчерпывающе, как хотелось бы думать. Скорее наоборот. Р. Тёлле — автор учебника, высоко ценимого теми практиками, которые отказывались обсуждать этические вопросы теоретически, — прямо пишет:
Опыт решения собственных проблем можно приобрести только при клиническом обучении и совершенствовании под соответствующим руководством и супервизией. По этой причине учебник не берёт на себя эту функцию. Это же касается и проблем взаимоотношений врача и больного [Тёлле 1999: 8‒9].
А.П. Зильбер частично отвечает на поставленный вопрос:
Основное негативное следствие всех медицинских революций, от которого проистекают многие этические и юридические несчастья, — это сокращение или даже утрата психологического контакта между больным и врачом. Мы бы даже назвали эту утрату контакта катастрофой [Зильбер 2008: 27].
Оказывается, дело вовсе не в «самой этике», а в психологическом контакте между больным и врачом. Утрата психологического контакта — причина этических несчастий, не наоборот. Но психологическому контакту не учат теоретически, как справедливо указывает Р. Тёлле, поэтому теоретическая этика для практического врача призрачна и раздражает.
Проведём мысленный эксперимент. Представим себя практическим врачом, который ищет в научном издании ответ на вопрос о психологическом контакте со сложным пациентом. И практический врач читает следующий вывод, убедительно обоснованный глубоким анализом научной литературы и сложными психологическими экспериментами:
|
|
Введение |
15 |
Всё в своё время, главное — учитывать обстоятельства. Не существует общих, всегда применимых правил, волшебной палочки, позволяющей справиться со всеми ситуациями и разнообразными структурами реальности. Задача состоит в том, чтобы обдумывать и совершать безошибочные нужные действия в нужный момент и нужным образом. Для этого могут быть выработаны правила, но они носят локальный характер, в сильной степени связаны с конкретными условиями. Это значит, что правил очень много [Дёрнер 1997: 229].
Если мы будем честны перед самими собой, скорее всего, мы поймём раздражение врача и его оценку этической теории как призрачной.
Предприняв попытки самостоятельно исследовать этические аспекты медицинской помощи средствами научной психологии, один из авторов настоящей книги получил результаты, парадоксально опровергающие его профессиональный опыт. Из опыта, подтверждаемого различными оценками контролирующих организаций, автору было хорошо известно, что с пациентами и их родителями можно устанавливать вполне рациональный психологический контакт. И такой психологический контакт значительно улучшал результаты оказания медицинской помощи. А научные исследования показывали невозможность рационального контакта, очень точно обоснованную А.Ш. Тхостовым и А.С. Нелюбиной:
Обыденные представления о болезни являются феноменом обыденного сознания и подчиняются законам его функционирования: трудно рефлексируются и расцениваются индивидом как истинные; имеют вероятностный характер; терпимы к противоречиям и малочувствительны к опытной поверке; основаны на эмоциональном отношении; содержат с формально-логической точки зрения неадекватно сопоставленные общие и частные признаки… «Обыденный человек», присваивая научные представления о болезнях, неизбежно их упрощает и тем самым искажает [Тхостов, Нелюбина 2008: 243].
Тем не менее из личного опыта одному из авторов настоящей книги было хорошо известно, что в ситуации болезни люди могут вести себя вполне рационально, почти совсем не владея медицинскими знаниями. Конечно, не все люди и не в любой ситуации болезни. Но рациональное поведение родителей детей-пациентов наблюдается далеко не только в исключительных случаях. И на рациональность поведения родителей детей-пациентов можно влиять, устанавливая с ними рациональный
|
16 |
Введение |
|
психологический контакт. Манипуляции и другие этически сомнительные средства психологического воздействия вовсе не обязательны. Так возникла гипотеза о рациональности, связанной с действием, точнее говоря, с поведением в ситуации медицинской помощи. Результаты эмпирической проверки этой гипотезы будут обсуждаться ниже.
Итак, первый вопрос, который стоял перед авторами этой книги: действительно ли оправдано навязываемое привычными культурными практиками представление о подведении под класс как стержневой операции мышления? Действительно ли рациональность может строиться только на этом основании, а прочие стратегии теоретического и практического поведения человека должны быть сочтены отклоняющимися от единственно возможной рациональности? И другой вопрос, тесно связанный с первым: если такова рациональность, выработанная европейской культурой, то исчерпывается ли опыт человечества этой культурой, взятой как определённый способ смыслополагания? Действительно ли можно осмысливать мир, только лишь классифицируя предметы по общим признакам? Нет ли в опыте человечества других примеров выстраивания осмысленности мира?
Оказалось, что есть. Арабская культура выработала взгляд на мир как на систему действий. Этот взгляд — принципиально иной, нежели взгляд европейской философии, которая видит мир как собрание субстанций. «Субстанциально-атрибутивная метафизика» греков, как выразился в своё время Б. Рассел [Рассел 1998: 25], прекрасно соответствует логике, основанной на операции подведения под класс. Но такая логика не годится для описания мира как системы действий и взаимодействий, если мы хотим положить в основу осмысления мира именно действие, а не свести действие к атрибуту субстанции. Действие как таковое, как именно действие оказывается «слепым пятном» для европейской логики, которая может работать с действием, только субстантивировав его, сведя действие к свойству или эманации действователя. Опыт арабской доисламской, а затем — арабо-мусульманской культуры оказывается драгоценным источником, показывающим, как можно разработать полноценную философию на иных основаниях, нежели греческая; как можно довести развитие теории до уровня формализованного логического доказательства, которое даёт строгий вывод, но не использует общие утверждения; как можно построить целостное мировоззрение, осмысливающее мир как совокупность действий; как можно выстроить общественные институты, включая науку, на основании логики действия, а не логики подведе‐
|
|
Введение |
17 |
ния под класс; наконец, как можно говорить на языке, который так же удачно пригнан к этому действенно-ориентированному взгляду на мир, как английский или французский — к субстанциально-ориентированному.
Итак, действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения? Возможно ли осмысление мира, если положить в его основу действие как таковое, а не субстанцию; даёт ли опыт человечества примеры подобного осмысления мира и можно ли таким образом дать логичное описание мира? Таковы два вопроса, на которые отвечает эта книга. Мы построили её следующим образом. В первой главе будет дан общий очерк теории сознания. Эта теория объясняет, почему человеческое сознание способно выстраивать осмысленность мира на основе разных логик и как возможны чувственное восприятие, язык и теоретическое мышление в качестве сторон единой деятельности сознания. Принципиальное следствие такого понимания сознания — положение о равноправности, или равнозначности, любой из логик смыслополагания, которые способно реализовывать человеческое сознание. Мы будем говорить о двух, которые удобно для краткости назвать С-логика (субстанциальная логика, или логика, сопряжённая с метафизикой субстанции) и П-логика (процессуальная логика, или логика, сопряжённая с метафизикой действия). В качестве иллюстрации, по необходимости краткой, будет рассмотрена культура как способ смыслополагания с акцентом на опыте арабской культуры. Если индивидуальное человеческое сознание способно выстраивать осмысленность на основе разных логик, то культура разворачивает только одну из них. Происходит своеобразный отбор, отсечение других вариантов и возможностей индивидуального сознания, когда в дело вступает сознание коллективное. Мы поговорим о некоторых моментах разворачивания арабской культуры на основе П-логики. Культура как способ смыслополагания воспроизводит себя благодаря возникающим и совершенствующимся культурным практикам, прежде всего обучению и воспитанию, и тем самым поддерживает в индивидуальном сознании ту естественную установку, о которой мы говорили. Однако индивидуальное сознание сохраняет способность выстраивать осмысленность на основе разных логик, а не только той, которая предполагается данной культурой в качестве основной.
|
18 |
Введение |
|
Вторая глава будет посвящена тому, чтобы показать, теоретически и экспериментально, как П-логика проявляется в поведении носителей культуры, которая воспитывает в качестве предпочтительной привычку к С-логике. Это возвращает нас к понятию индивидуального сознания, но уже на новом уровне. Во второй главе оно рассматривается не сугубо теоретически, а как взятое «из жизни», на примере действительных ситуаций, а значит, эмпирически. На основе предложенной в первой главе модели сознания мы построим эксперимент с целью выявить значение и роль П-логики как организующей наше поведение и лежащей в основе принятия решений наряду с С-логикой.
Таков общий контур предпринимаемого нами исследования. В Заключении будут даны основные выводы.
 |

|
 |

|
Во Введении мы говорили о том, что такое естественная установка сознания, как она проявляется в нашем поведении и как воспроизводится и закрепляется культурными практиками. Теория сознания должна объяснять, как естественная установка возможна. Чем объясняется её глубокая «встроенность» в наше сознание — такая встроенность, в силу которой мы обычно не только не сомневаемся в положениях, составляющих содержание естественной установки, но даже не осознаём их отчётливо, хотя признаём их правильность, если они сформулированы в явном виде и предъявлены нам?
Сформулируем естественную установку нашего сознания более полно и отчётливо:
1. Внешний мир имеется, он устойчив, един и единственен.
2. Наше «Я» имеется, оно устойчиво, едино и единственно.
3. И мир, и «Я» многообразны, но это не отменяет первых двух положений.
В формулировке естественной установки употреблены максимально нейтральные слова, избегающие однозначной фиксации того, что должно допускать многообразие трактовок. Например, в пунктах 1 и 2 использовано слово «имеется», а не «существует», «бытийствует». Слова «существует» или «бытийствует» наверняка покажутся многим более привычными, а философам ещё и — более правильными. Именно от этой поспешной однозначности необходимо воздержаться, если мы хотим построить теорию сознания, которая, во-первых, будет объяснять известные нам факты и отвечать на те два вопроса, что были поставлены во Введении, а во-вторых, будет при этом избегать догматически предпосланных положений. Когда Декарт формулирует своё
|
20 |
Глава 1 |
|
знаменитое cogito ergo sum, он допускает именно такую поспешную однозначную фиксацию того, что должно оставаться неоднозначным, если мы строим теорию сознания в общем виде. Почему, собственно, из положения «мыслю» должно однозначно, без всяких сомнений вытекать «существую»? Только многовековая привычка философов, закреплённая в общественном и индивидуальном сознании постоянными культурными практиками, заставляет принимать такое следование как 1) очевидное и 2) не требующее ничего дополнительного, как будто бы «мыслить» можно, только если прежде принять «существовать» в качестве непременного условия. Мы увидим вскоре, как именно происходит соскальзывание в эту мнимую очевидность и однозначность — соскальзывание, которого не избегают философы, как и обычные люди, не знакомые с тем, как работает наше сознание, как возникает естественная установка и как она конкретизируется, подсовывая нам в качестве «очевидных» совсем не очевидные и вовсе не однозначно определённые значения.
Художественную иллюстрацию нашего сомнения в мнимой очевидности находим в «Фаусте» Гёте. Когда Фауст хочет «по-немецки всё Писанье как следует перевести» (в поэтическом переводе Б.Л. Пастернака), он перебирает разные варианты начала:
«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намёк?
Ведь я так высоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мысль была». Вот перевод.
Он лучше этот стих передаёт.
Подумаю, однако, чтобы сразу
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чём суть.
Но после небольшого колебанья
Я отклоняю это толкованье.
Я был опять, как вижу, с толку сбит.
«В начале было Дело» — стих гласит1.
|
|
Теория |
21 |
Разве не будет не менее естественным сказать, что «мыслю» означает «действую»? Разве условием «мыслить» не является «действовать»? Разве можем мы представить, что некто, не способный действовать, мыслит? Или того хуже: если вдруг окажется, что мир устроен так, что действовать в нём невозможно, разве будет кто-то «мыслить» в таком мире?
Кажется, это очевидно. Если существует культура, в которой устойчиво закрепляется положение о том, что действие лежит в основании всего и что «иметься» значит «действовать», то в такой культуре и «существовать» будет означать «действовать». А разве не так? Разве это — не естественный вывод, если только мы берём в скобки всю предвзятость, заданную нашей культурной привычкой? Разве «существовать» или «бытийствовать» — не глаголы, и разве глагол не выражает действие? Дело не в языковых формах; дело в том, как именно мы мыслим «существование» или «бытие». Если «существование» или «бытие» — это действие, то оно непременно требует действующего и претерпевающего. В самом деле, действие всегда протекает, будучи инициировано кем-то или чем-то и будучи направлено на кого-то или что-то. Это создаёт устойчивость действия, задаёт логическую структуру закономерности ничуть не менее уверенно и убедительно, чем устойчивость сущности, субстанциального бытия. Устойчивость субстанциального бытия, схваченная в сущности вещи, и устойчивость действия, неизменно протекающего между действующим и претерпевающим, — два способа схватить закономерность и устойчивость мира. Они альтернативны в полном смысле слова, поскольку исходят из разных оснований; но они выполняют одну и ту же задачу: выстроить устойчивость мира, схватить его как закономерный. Ведь мир постоянно меняется, он всегда в движении, и мы никогда не застаём его точно таким же, каким знали вчера или мгновение назад. Чтобы ориентироваться в меняющемся мире, чтобы уметь предсказывать его поведение, мы должны уметь останавливать эту его постоянную подвижность, каким-то образом останавливать мир. Останавливать не до конца, не насовсем — не так, как остановлено парменидовское бытие, где любое изменение оказывается мнимым. Нет, его надо останавливать так, чтобы сохранить при этом возможность изменения — но такого изменения, которое оставит мир тем же самым, представив его иначе, изменившимся. Это — удивительная задача, и не менее удивительно решение, которое найдено нашим сознанием; решение, которое и сделало человека — человеком.
|
22 |
Глава 1 |
|
Решение задачи, которую назовём задачей то же иначе, с виду необычайно простое, и выразить его нетрудно: «что» и «какое». Наше сознание научилось видеть мир как «что» и «какое». Когда мы говорим, что «мир имеется» (п. 1 естественной установки), мы тем самым говорим, что способны видеть мир как множество «что», каждое из которых оказывается «таким-то». Вот это дерево, это «что» — старое, дуплистое, ветвистое: таково его «какое». Дерево остаётся деревом, тем же самым «что», хотя превращается из побега, только что вышедшего из семени, в старого великана: оно меняет своё «какое», но оставляет своё «что». И вот что удивительно: ведь не один только вот этот побег превращается в старое дуплистое и ветвистое тенистое дерево, таких вырастающих и стареющих деревьев — целый лес. Значит, «какое» может отделяться от данного «что» и как будто перемещаться к другим «что». Но ведь «что» и «какое» — неразделимы: когда я вижу перед собой вот это дерево, оно «что-и-какое» сразу, а не так, что отдельно я вижу дерево, а отдельно — его ветвистость, дуплистость, тенистость и т.д. Нет, конечно; «что-и-какое» склеены в этом дереве; и даже не склеены из чего-то раздельного, а прямо-таки выступают изначально нераздельно слитыми. И вместе с тем они могут разделяться! Вот что поразительно: раздельность-и-нераздельность «что» и «какое». В самом деле, вот передо мною красный мяч. Но есть и другие мячи — жёлтые, зелёные, белые; и есть другие красные предметы: майки, воздушные змеи, шляпки. Каждый из этих предметов — «что-и-какое», слитые так, что их не разделить; и тем не менее мы легко отделяем «красное» от шляпки и присоединяем к мячу, или ещё к чему-то, не испытывая никакого неудобства. Более того, мы можем собрать много «что», имеющих одно и то же «какое», и тогда скажем, что у нас — целый набор красных предметов: мячей, маек, флагов и шляпок, причём нас уже не заботит, что это всё — разные «что» и у них ещё много разных «какое» (мячи круглые, воздушные змеи — бумажные, и т.д.); нас заботит только то, что одно из совпадающих у них всех «какое» позволяет нам все их собрать вместе. Подвести под класс «красных» предметов.
Мячи и воздушные змеи летают, шляпки и майки надевают и носят. Это — тоже «что» и «какое». Но ведь «летать», «надевать», «носиться» — это действия. Значит, действия также — «какое». Что вытекает из того, что действия окружают нас, что едва ли найдётся некое «что» в мире, которое не будет включено в систему многообразных действий? Дерево растёт и стареет, воздушные змеи запускают
|
|
Теория |
23 |
дети, шляпки надевают и носят женщины. Мячи бросают, кидают, по ним бьют и их ловят. И так далее. Как поступим мы с этими действиями? Будет ли «какое», выражаемое действием, как-то отличаться от того «какое», которое мы выражали как качество — красное, ветвистое, дуплистое? Употребляя прилагательное, указываем ли мы на что-то иное, нежели когда употребляем глагол? Например, «дерево ветвится» — это то же самое, что «дерево ветвистое», или нет?
Античная философия давно ответила на этот вопрос, а европейская культура закрепила этот ответ в нашем сознании через многообразные культурные практики. Две из десяти аристотелевских категорий, «действовать» и «претерпевать», классифицируют наши действия как атрибуты субстанции. Воздушные змеи и мячи суть «летающие», шляпки и майки суть «надеваемые» и «носимые». И так далее: дерево есть «растущее» или, например, «срубленное». И даже если мы никогда не слышали об Аристотеле и его десяти категориях, если мы глубоко безразличны к философии, античной и современной, мы всё равно поступим именно так, коль скоро мы включены в систему европейских культурных практик. Они настолько глубоко внедрены в наше сознание, что большинство читателей, если не все они, скажут: это естественно, и иначе быть не может. Действие понимается как классификационный признак, позволяющий подвести данное «что» под тот или иной класс «какое», в наших примерах — «летающее», «носимое», «надеваемое», «растущее», «срубленное».
А в самом деле, может ли быть иначе? Может, и ещё как может. Действие может не сводиться к атрибуту субстанции, а, напротив, выступать как первичная основа осмысления мира. Это значит, что всё, о чём мы говорим, должно быть сведено к действию и включено в структуру действия — и только тогда это станет осмысленным. Не подведено под класс, а включено в структуру действия.
Погрузимся в практику смыслополагания культуры, которая кладёт действие в основу смыслополагания.
В IX веке в Багдаде, цветущей столице халифата, жил Абӯ ал-К̣а̄сим ал‑Джунайд, прославленный мистик, глава школы так называемого трезвого суфизма. До нас дошло несколько работ ал‑Джунайда, составивших небольшой том. Одна из них называется Кита̄б ал‑фана̄’ — «Послание о фана̄’». Работа, занимающая всего несколько страниц, посвящена одной из важнейших категорий суфийского учения — фана̄’, букв. «гибель». Эта категория непосредственно связана с тем, как суфии трактуют сердцевину исламского учения — поло‐
|
24 |
Глава 1 |
|
жение о тавх̣ӣд, божественной единственности. «Нет бога, кроме Бога», гласит первая половина шахады — исламской формулы свидетельствования веры. Бог, иначе говоря, — единственный бог, никаких других богов нет. Это положение звучит очень просто и понятно. Однако суфии делают ещё один шаг и говорят, что подлинным и пребывающим можно считать только Бога; всё остальное, и прежде всего сам мистик, переживает гибель (фана̄’). Но что это значит? Должны ли мы думать, что существует (подлинно, истинно бытийствует) только Бог, тогда как все вещи и даже сам человек обладают неподлинным бытием и в этом смысле «гибнут»? Будет ли такая «гибель» чем-то вроде исчезновения, аннигиляции в высшей, божественной реальности? Или речь идёт о чём-то другом?
Рассмотрим отрывок из названной работы ал‑Джунайда, читая и переводя который, мы будем отвечать на этот вопрос. Отрывок вполне понятен и не содержит никаких специфических терминов; единственное, чем стоит предварить его чтение, — это изложение известной коранической истории, на которую ссылается ал‑Джунайд. Она поведана в суре «Преграды»: «Некогда Господь твой из сынов Адама, из чресл их, извлёк потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих. “Не есмь ли Я Господь ваш?” Они сказали: “Да; исповедуем это”. Это было для того, чтобы вы в день воскресения не сказали: “Мы не были в состоянии постигнуть это” — или не сказали: “Отцы наши прежде нас признавали соучастников Богу, а мы были только их потомками”»2. Речь идёт о том, что до сотворения мира Бог «извлёк» на свет весь людской род, от первого до последнего человека. Понятно, что мира ещё не существовало, а значит, и люди не обладали существованием в том смысле, в каком мы приписываем существование сотворённым вещам. И тем не менее весь людской род предстал пред Богом, и в этом предстоянии свершился диалог, расцениваемый в исламе как завет между Богом и человеком. Бог спросил людей, признают ли они его Господом; люди ответили безусловно утвердительно. В исламском вероучении этот эпизод трактуют как указывающий на предвечную истину ислама и на то, что ислам — естественная, соответствующая устройству человека религия, о верности которой весь людской род заявил ещё до сотворения мира. Этот же эпизод нередко упоминают суфийские авторы, указывая на предвечную связь между Богом и человеком — связь,
|
|
Теория |
25 |
которую мистик стремится актуализировать и воплотить, соткав из неё ткань своей жизни.
Мы проделаем своеобразный эксперимент, пройдя по шагам весь путь осмысления текста. Сперва перед читателем окажется бессмысленный для него (если только он не араб и не арабист) набор знаков. Затем он должен будет решить, как именно наделить его смыслом, и увидит, какую развилку придётся пройти на этом пути. И, наконец, мы вместе поразмышляем о том, что приобретаем и что теряем на нашем разветвляющемся пути осмысления текста, сделав в точке развилки тот или иной выбор. Очень надеемся, что читатель терпеливо пройдёт с нами по этому пути, не перескакивая через его этапы.
Итак, арабский текст из работы ал‑Джунайда «Послание о фана̄’ (гибели)»:
قلت فما قولك "افناني بإنشائي كما أنشأني بديا في حال فنائي" ؟ قال أليس تعلم انه عز وجل قال "واذ اخذ ربك من بنى آدم" الى قوله "شهدنا" فقد اخبرك عز وجل انه خاطبهم وهم غير موجودين الا بوجوده لهم اذ كان واجدا للخليقة بغير معنى وجودها لانفسها بالمعنى الذي لا يعلمه غيره ولا يجده سواه فقد كان واجدا محيطا شاهدا عليهم بديا في حال فنائهم عن بقائهم الذين كانوا[في الازل]للأزل فذلك هو الوجود الرباني والادراك الالهي الذي لا ينبغي الا له جل وعز ولذلك قلنا إنه اذا كان واجدا للعبد يجري عليه مراده من حيث يشاء بصفته المتعالية التي لا يشارك فيها كان ذلك الوجود اتم الوجود وامضاه لا محالة وهو اولى واغلب واحق بالغلبة والقهر وصحة الاستيلاء على ما يبدو عليه حتى يمحي رسمه عامة ويذهب وجوده اذ لا صفة بشرية ووجود ليس يقوم به لما ذكرنا تعاليا من الحق وقهره انما هذا تلبس على الارواح[ما لها من الازلية3]
В этом небольшом отрывке 12 раз употреблены слова с корнем в‑дж‑д: 7 раз — вуджӯд, 3 раза — ва̄джид и по 1 разу — мавджӯд и ваджада. Нам надо решить, как мы будем переводить эти слова, поскольку от этого, как увидим, решающим образом зависит смысл отрывка, закладывающего основу джунайдовского понимания категории фана̄’ «гибель».
Глагол ваджада означает «находить». Точнее, этот глагол означает «он нашёл»: в арабском нет инфинитива, такого, как русское «находить», и любой глагол непременно несёт значение лица и времени. Зато в арабском есть масдар — имя действия, которое указывает
|
26 |
Глава 1 |
|
на действие, не указывая на время (или на лицо)4. Здесь это — самое частотное слово отрывка, вуджӯд. Если вуджӯд — имя действия для глагола ваджада «находить», который встречается в этом отрывке, то мы переведём его как «нахождение». Далее, имя действия, масдар, одинаково «обслуживает» и действительный, и страдательный залог глагола, а значит, вуджӯд будет именем действия и для вуджида — «он находился», как во фразе «Он находился в доме». Наконец, масдар одинаково относится, т.е. служит «истоком», для любого времени глагола, значит, он является именем действия и для глагола настоящего времени — йӯджад «он находится», как во фразе «Он находится в доме». Мы можем сделать вывод, что вуджӯд имеет значение не только «нахождение» в смысле действия нахождения, но и «нахождение» в смысле «наличие», причём в силу особенностей арабской языковой формы (масдара) эти значения не могут быть различены в самой языковой форме.
Однако по смыслу эти два значения существенно различаются. В первом случае речь идет о действии, которое совершается кем-то в отношении кого-то: «нахождение» означает, что кто-то «находит» кого-то. Во втором речь идёт о существовании: «нахождение» означает, что кто-то «находится», т.е. является таким-то или существует как такой-то. Это — развилка, это — та точка, в которой мы непременно должны выбрать один из двух путей: мы не можем пойти по обоим одновременно.
В нашем отрывке есть ещё два слова с корнем в‑дж‑д. Это ва̄джид, имя действователя для глагола ваджада «находить»; здесь мы не встретим никакой двусмысленности и переведём его «находящий». И имя претерпевающего для этого же глагола — мавджӯд. Имя претерпевающего в арабском языке может отсылать и к действительному и к страдательному залогу, поэтому мавджӯд мы можем перевести и «находимый» в смысле находимый, обнаруживаемый кем-то (объект действия другого лица), и «находимый» в смысле находящийся,
|
|
Теория |
27 |
существующий. Здесь вновь — та развилка, о которой мы говорили: развилка динамики и статики, действия и существования.
Это — развилка, которой не миновать: мы обязаны выбрать один из вариантов перевода. Мы можем проследить за игрой значений в нашем русском переводе — игрой, вызванной этой развилкой. Развилка, обеспечивающая равную возможность двух путей, даёт нам, с сугубо лингвистической точки зрения, и равную обоснованность двух вариантов перевода одного и того же отрывка: мы не можем выбрать между ними на основании языковых предпочтений и аргументов, они с этой точки зрения равно оправданы.
Пойдём по первому пути: будем считать, что вуджӯд означает «существование», а мавджӯд — «существующее». Такие слова с корнем в‑дж‑д, переданные через значения существования, подчеркнём одинарной чертой. Слова ваджада и ва̄джид нам не удастся передать через значение существования, они останутся привязанными к действию нахождения: «находить» и «находящий» соответственно; такие слова выделены разрядкой. Вот перевод:
Я спросил: Что значат твои слова: «Он (Бог. — А.С., В.С.) уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он (ал‑Джунайд. — А.С., В.С.) ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были существующими (мавджӯд) только благодаря Его существованию (вуджӯд): Он находил (ва̄ джид) людей, притом что отсутствовал смысл их существования (вуджӯд) для самих себя, благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид, наст. вр. от ваджада) только Он. Так Он находил (ва̄ джид, букв. «был находящим») их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее существование (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.
Вот почему мы говорим, что, если Он находит (ва̄ джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это существование (вуджӯд) — самое совершенное и полное существование (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить всё, что в нём (рабе. — А.С., В.С.) появляется, так что Он и вовсе
|
28 |
Глава 1 |
|
стирает его отметины и устраняет его существование (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и существования (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнёта Его. Это оказалось тёмным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].
В самом начале отрывка собеседник задает автору трактата вопрос с просьбой разъяснить высказывание, смысл которого — диалектика создания, выстраивания человека и его уничтожения, когда эти два действия оказываются сторонами друг друга. Бог создаёт, букв. «выстраивает» (анша’а), человека — но тем самым уничтожает, букв. «заставляет погибнуть» (афна̄), его. Как создание может стать уничтожением? Вот вопрос, на который отвечает этот отрывок.
Мы выбрали первым субстанциальный путь понимания смысла отрывка, трактуя везде, где возможно, слова с корнем в‑дж‑д как указывающие на существование. Мы понимаем — насколько это позволяет текст — человека как сущее, как то, что «есть»; как то, что не просто наличествует, но что может выступать субъектом в формуле предикации «S есть P». Тогда у нас сталкивается существование Бога — самое, как здесь сказано, полное, наилучшее существование, — и существование человека. Мы обнаруживаем прежде всего, что человек существует благодаря существованию Бога: таким оказывается смысл коранического отрывка, излагающего историю предвечного залога между Богом и человеком. Правда, не совсем ясно, как трактовать это и что означает эта зависимость существования человека от существования Бога в свете следующей фразы, где сказано, что смысла существования людей для самих себя не было: если не было, то как они были существующими? Кроме того, разговор о существовании перемежается указаниями на действия «нахождения» со стороны Бога, которые не вполне понятно как соотносятся с разговором о существовании. В одном месте нам пришлось и вовсе «подчистить» оригинал, чтобы перевод состоялся5.
|
|
Теория |
29 |
Во втором абзаце отрывка мы обнаруживаем, что Бог «находит» человека и полностью подчиняет себе, распространяя на него свою волю. Это и оказывается наилучшим для человека существованием: полная подчинённость воле Бога и полное устранение человеческого существования. Правда, тут же сказано, что любое существование и атрибут человека Бог устраивает — но как устраивает, если они устранены? Только если мы закроем глаза на все эти нестыковки, можно будет вытянуть некий смутный «общий смысл» отрывка примерно следующим образом: Богу принадлежит полное и самое совершенное существование, человеческое существование целиком зависит от божественного и является ничем в сравнении с ним.
Но что если мы отстранимся от наших естественных герменевтических ожиданий, сформированных привычными культурными практиками, заглушим их голос и попробуем перевести отрывок иначе? Что если первоосновой осмысленности выступает не существование, а действие? Мы пойдём тогда по второму из двух путей, заданных развилкой существование/действие. Будем трактовать все слова с корнем в‑дж‑д как относящиеся к действию «находить», которое имеет, во-первых, инициатора, действователя и, во-вторых, то, что претерпевает это действие6. Вот как выглядит такой перевод7:
Я спросил: Что значат твои слова: «Он уничтожил меня, создав, как изначально создал в состоянии моей уничтоженности?» Он ответил: разве ты не знаешь, что Он (Славен Он и Велик!) сказал: «Некогда Господь твой из сынов Адама… Да; исповедуем это». Так Он (Славен Он и Велик!) сообщил тебе, что обращал к ним речь, когда они были находимы (мавджӯд) только благодаря Его нахождению (вуджӯд) их: Он находил (ва̄джид) людей при том, что отсутствовал смысл нахождения (вуджӯд) ими самих себя,
|
30 |
Глава 1 |
|
благодаря смыслу, который известен только Ему и который находит (йаджид) только Он. Так Он находил (ва̄джид) их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания — они, возникшие [в предвечности] предвечно. Таково господнее нахождение (вуджӯд) и божественное постижение, только Ему (Велик Он и Славен!) надлежащее.
Вот почему мы говорим, что если Он находит (ва̄джид) раба, то распространяет на него, как захочет, Свою волю благодаря Своему всевышнему атрибуту, в коем Ему никто не соучаствует. Это нахождение (вуджӯд) — самое совершенное и полное нахождение (вуджӯд); а как же иначе! Ведь Он скорее достоин, Он имеет преимущество и Ему скорее надлежит овладеть, подчинить и захватить всё, что в нём (рабе. — А.С., В.С.) появляется, так что Он и вовсе стирает его отметины и устраняет его нахождение (вуджӯд). Ведь нет такого человеческого атрибута и нахождения (вуджӯд), которые не устраивал бы Он, как мы о том сказали, — Он, Всевышний, от Истинного и гнёта Его. Это оказалось тёмным для [людских] душ [— чем владеют они из предвечности].
Речь идёт о взаимодействии двух действователей — Бога и человека, каждый из которых способен осуществлять действие «нахождение». Это действие в обоих случаях направлено на человека: Бог находит человека, и человек находит себя. Эти два нахождения сравниваются во втором абзаце, и автор выносит однозначный вывод: нахождение человека Богом, а не его собственное нахождение себя, является наилучшим и самым совершенным. В таком случае находящий Бог и находимый человек оказываются накрепко связаны нахождением; но чтобы оно состоялось, человек должен полностью включиться в эту связанность с Богом. Не перестать существовать, не «аннигилировать» (как при первом понимании отрывка), а, напротив, превратиться в претерпевающую сторону процесса «нахождение», который инициирует Бог и который предполагает непременное наличие «находимого» человека (иначе как может осуществиться «нахождение»?). Такое «нахождение» человека Богом и составляет цель суфия, именно его он хочет превратить в ткань своей жизни.
В этом, втором, варианте перевода все термины с корнем в‑дж‑д последовательно переданы через смыслы действия, действователя и претерпевающего для действия «нахождение». Это, безусловно, преимущество в сравнении с первым вариантом перевода, где мы имели чересполосицу «существования» и «нахождения», что не может не по‐
|
|
Теория |
31 |
ставить под сомнение перевод, существенно меняющий смысл однокоренных и явно связанных слов на протяжении небольшого отрывка текста.
Проделанный нами опыт — не что иное, как моделирование культурных практик, отвечающих за изготовление осмысленности. Мы начали с арабского текста, который заведомо бессмыслен для русского читателя, не владеющего арабским языком. Некоторая сумма бессмысленных физических ощущений: линии, загибы, точки; чёрное и белое на бумаге или экране компьютера. Само по себе, как именно физическое ощущение, оно, конечно, осмысленно, поскольку мы понимаем, что вот это — линии, а это — точки, и т.п.; но как текст — не имеет смысла. Мы должны запустить машину смыслополагания для того, чтобы придать этому смысл, чтобы сделать это понятным. Мы промоделировали только один аспект работы этой машины. Это — выбор в качестве исходного, основополагающего значения «существовать» или значения «действовать». Это — тот самый выбор, перед которым стоял Декарт и который он однозначно сделал в пользу «существовать». Автор арабского текста, совершенно очевидно, делает противоположный выбор: в пользу «действовать». Это очевидно потому, что попытка понять текст как основанный на выборе в пользу «существовать» не проходит, не получает успеха: такое осмысление оказывается «корявым», «натянутым» и в конечном счёте — невозможным потому, что не позволяет истолковать весь текст целиком. Мы, читатели, можем настаивать на нашем выборе в пользу «существовать» и так прочитывать текст. Можем потому, что понимание — это наша, и только наша деятельность, протекающая именно в нашем, а не чьём-то ином, сознании. Мы можем даже питать уверенность, что поняли текст и истолковали его смысл. Но смысл будет, совершенно очевидно, недопонят, а точнее, понят неправильно. Что именно будет понято неправильно? Да, пожалуй, всё. «Существование» Бога и «существование» человека в таком случае оказываются альтернативными: или—или. Ведь если божественное существование наилучшее, значит, существование человека ничего не стоит перед лицом этого наилучшего существования; а значит, суфийский термин фана̄’ означает «гибель» в смысле самоуничтожения, исчезновения, аннигиляции. Бесчисленные европейские и околоевропейские трактовки этого термина ходят вокруг да около именно такого понимания фана̄’: «гибель» человеческого «Я» в смысле его уничтожения, говорят ещё — «растворения» в океане божественной
|
32 |
Глава 1 |
|
Реальности. Конечно же, ничего этого нет в данном тексте. Он написан автором, для которого основополагающий выбор сделан в пользу «действовать», а не «существовать». Поэтому речь в нём не о существовании Бога и человека — двух автономных сущностей, которые можно сравнивать независимо, когда они имеются как таковые. Речь в нём о двух действователях — Боге и человеке. Каждый из них осуществляет действие «нахождение», причём это действие направлено в обоих случаях на человека. В одном случае Бог — «находящий», человек — «находимый», так что они связаны действием «нахождение». В другом случае человек — и «находящий», и «находимый». Это — не «один и тот же» человек: человек рассматривается не как сущность, а как включённый в структуру действия, поэтому, когда человек «находит» себя, мы имеем ту же, что в первом случае, тройственную структуру «находящий—нахождение—находимый». И вывод: действие «нахождение», осуществляемое Богом, гораздо лучше и сильнее того действия «нахождение», которое человек осуществляет в отношении себя. Это вполне понятно: ведь Бог — несравненно более сильный действователь, нежели человек, так что данный вывод — никакой не парадокс, а скорее тривиальная констатация; если, конечно, считать тезис о том, что Бог — действователь в отношении всего мира и человека, тривиальным, но это, безусловно, именно так для сознания и культуры того времени и места, где создан рассматриваемый текст.
Могут возразить: в текстах европейских мистиков Бог также «находит» человека; в чём же разница? Разница в том, что в этом случае «находить» — действие в ряду других: Бог питает, наставляет, прощает, видит, слышит (и т.д.) человека. С этой точки зрения нет различия между исламской традицией — и христианской, перенявшей авраамические представления о Боге-Действователе. Однако ключевой вопрос в том, чем именно и как именно конституирован человек; чем именно и как именно он «выстроен» (анша’а), если выражаться в терминах джунайдовского текста. В тексте ал‑Джунайда ответ очевиден: человек конституирован действием «нахождение», которое совершает либо он сам, либо Бог; именно поэтому человек и «находится» — т.е. существует там-то и тогда-то. Поэтому «нахождение» у ал‑Джунайда — не действие в ряду других, которые Действователь-Бог совершает в отношении уже наличного, имеющегося человека; это — особое действие, которое только и конституирует человека.
|
|
Теория |
33 |
Заглянем чуть дальше, чтобы увидеть подлинную перспективу, открывающуюся с этой точки зрения. Если рассуждать сугубо логически и оставить в стороне религиозно-догматическое содержание, то ясно, что действие конституирует не только человека (претерпевающее), но и Бога (действователя). Логически это очевидно: действие как протекание невозможно без обеих сторон; но и обе стороны невозможны друг без друга и без протекания действия между ними. Поняв это, мы поймём, почему логическим завершением эволюции суфийской философии стало учение Ибн ‘Арабӣ, утверждавшего со-вечность Бога и мира при ежемгновенном протекании действия дарения бытия (вуджӯд) между ними. Бог и мир конституированы здесь не сущностно, и Бог не может быть конституирован независимо от мира: таков логически безупречный с точки зрения процессуальной логики, но содержательно шокирующий для исламского сознания вывод Ибн ‘Арабӣ.
Вернёмся к тексту ал‑Джунайда. Можно утверждать, что «наш» читатель, т.е. читатель, воспитанный привычными нам культурными практиками, независимо от владения арабским языком будет склонен прочитывать текст и придавать ему смысл по первому варианту, по-картезиански, выбирая «существование» в качестве очевидного и не требующего обоснований значения. Но если культурные практики воспитывают альтернативный выбор — выбор в пользу «действовать» как основополагающего значения, то текст будет прочитан по второму варианту, по-джунайдовски. Оба прочтения возможны; обе машины смыслополагания мы можем запустить в своём сознании. Нам более привычна первая — но только потому, что эта привычка сформирована культурными практиками. Эту культурную привычку должно что-то «пробить», что-то преодолеть, чтобы включилась альтернативная машина смыслополагания. В данном случае, в нашем моделировании ситуации понимания текста, таким «тараном» выступили мы сами, предложив интерпретацию, которая гораздо лучше объясняет текст, нежели привычная нам. В других случаях альтернативная машина смыслополагания может быть запущена чем-то или кем-то другим. Но важно другое: после того, как возможность альтернативного объяснения показана, в ней не остаётся ничего для нас загадочного. Альтернативный путь осмысления, альтернативный способ смыслополагания — не «марсианский», он вполне себе «наш», легко может быть открыт в нашем собственном сознании. Другой вопрос — какой именно из возможных способов смыслополагания, к которым наше
|
34 |
Глава 1 |
|
сознание равно открыто, культура выбирает в качестве стержневого, выстраивая себя на его основе и поддерживая его приоритетность для нашего сознания всей системой культурных практик.
Но почему мы говорим о «машине смыслополагания», о «способе смыслополагания» и тому подобных вещах? Ведь речь как будто о чём-то очень простом — о значении слова, точнее, всего гнезда арабских слов с корнем в‑дж‑д. Что тут сложного — посмотреть в словарь и выбрать самое подходящее значение! Для чего, как говорится, огород городить?
Даже если бы вся история ограничивалась одним этим текстом, и в этом случае огород городить имело бы смысл: ведь мы, ни много ни мало, вели речь о понимании одной из центральных категорий суфизма. Но главное в том, что на этом примере мы увидели, как легко и, заметим, как устойчиво наше восприятие проскальзывает мимо того, чтобы выбрать «действие», а не «существование», в качестве основополагающего значения. Ведь Декарт ничего не переводил с арабского, он лишь выражал, как он думал, абсолютно очевидные истины; и тот факт, что он не видел — совершенно ведь очевидное! — значение «действовать» за значением «мыслить», должно иметь какое-то очень весомое объяснение. И ведь не только для него; дело не в этой картезианской формуле, а в том, что за века она не была развенчана как лишь одна из возможных трактовок «мыслю». Напротив, слой за слоем европейская философия зиждела себя на этом основании: cogito ergo sum — едва ли не краеугольный камень новоевропейского рационализма, манифест чистой субъектности, обнаруживающей себя, и только себя, в чистом акте рефлексии. Следование «мыслю → существую» — это не логическое следование в смысле умозаключения (Декартова формула — не силлогизм), а следование в смысле очевидности смыслополагания. И эта «очевидность» не подверглась сомнению в европейской культуре! Вот почему мы ведём речь о культурных практиках и «машине смыслополагания»: такого рода устойчивые «слепые пятна» культуры невозможно объяснить иначе.
Почему же европейской мыслью не замечено то, что совершенно очевидно для взгляда, берущего в скобки догматы, внедрённые в наше сознание европейскими культурными практиками? А именно, что «мыслю, значит — действую» ничуть не менее оправдано, чем «мыслю, значит — существую»?
Дело вот в чём. «Действовать» — одна из девяти акцидентных категорий у Аристотеля, а значит, «действовать» предицируется суб‐
|
|
Теория |
35 |
станции. Если «действовать», в т.ч. «мыслить», — это предикат субстанции, он не может быть тем, что неотъемлемо заложено в субъекте. Между тем Декарт разыскивает именно такое основоположение — то, что не может быть отъято от субъекта и что не приписывается ему как предикат.
Значит, второй путь развилки существование/действие, путь действия, блокируется, во-первых, мощной традицией культурных практик, основанных на аристотелевском отнесении «действовать» к числу предикатов субстанции; и, во-вторых, собственным, так сказать, авторским стремлением Декарта найти что-то, что вне всякого сомнения присутствует в субъекте. Первое понятно; остановимся подробнее на втором.
Хотя на предшественников Декарта, в том числе Августина и даже ал‑Г̣аза̄лӣ, указывали неоднократно, всё же вопрос о том, из чего «состоит» значение «мыслить» и что может быть извлечено из него не аналитически, а как-то иначе — в данном случае путём рефлексии, — следует признать собственно картезианским, во всяком случае, с той точки зрения, которая нас здесь интересует. Даже сам этот вопрос, не говоря уже об ответе на него, не только во времена Декарта, но и до сих пор не приобрёл статуса тривиального, чего-то вроде таблицы умножения, которую знают все и не задумываясь применяют. Этим вопросом задавался и Гуссерль, отвечая на него иначе и стремясь открыть чистые структуры сознания, взять в скобки всё, что составляет его естественную установку, и найти чистые смыслы сознания; феноменология до сих пор считает, что идёт по этому пути. Несомненность бытия, выраженная в картезианском sum — «аз есмь», парадоксальным образом привела Декарта к непреодолимому дуализму «вещи мыслящей» и «вещи протяжённой», бытия субъективного и бытия объективного, тому дуализму, с которым европейская и североамериканская философия безуспешно сражается до сих пор безо всякой надежды на победу. Ведь этот дуализм означает раскол и разлад «Я» и мира, который невозможно победить даже хайдеггеровской попыткой вернуться к изначальной «открытости» бытия, сняв противопоставление категорий «бытие» и «истина». Всё это лишний раз возвращает нас к тому, с чего мы начали, — к неустранимой проблематичности доказательства наличия внешнего мира и встроенности «Я» в этот мир, соседствующей с очевидностью этого тезиса для обыденного сознания, его внедрённостью в естественную установку.
|
36 |
Глава 1 |
|
Но для нас сейчас важно не это. Для нас важно вот что: второе из двух обстоятельств, блокирующих выбор пути действия на развилке существование/действие, на самом деле не является таковым. Да, Декарт разыскивает очевидность и несомненность того, что может утверждаться в силу cogito и наряду с cogito. Само cogito несомненно, поскольку любое сомнение уже было бы cogito; но что можно утверждать наряду с этим несомненным cogito и на чём можно строить дальнейшее здание философии? И Декарт отвечает: sum, «аз есмь». Но наш-то вопрос остаётся: а почему не «я действую»? Почему несомненность cogito, которое у Декарта означает любую деятельность сознания вообще, означает несомненность существования, а не действия? Ведь не менее очевидно, что сознание действует, что любая моя мысль, переживание, ощущение — это некие акты сознания. В «Рассуждении о первой философии» Декарт неоднократно перечисляет действия, составляющие cogito, и всякий раз говорит: значит, я существую. Не «я действую». Удивительно! Ведь декартовское cogito на самом-то деле означает: чтобы действовать, надо быть; но чтобы быть, надо действовать. В самом деле, существование «Я» обосновано cogito, т.е. действиями: воление, воображение, восприятие, мышление. Но действовать может только существующее. Взаимная обоснованность существования и действия очевидны. Ведь существование прикреплено к cogito, неотъемлемо от него; но поскольку cogito — это действие (ведь очевидно, что сознание действует, оно не неподвижно; Гуссерль даже говорит об интенциональности сознания), значит, действие неотъемлемо от существования, а существование — от действия. И однако «действовать» и «существовать» — разное! Они образуют, как мы видели, развилку, на которой можно свернуть только на один из двух путей, запустить машину смыслополагания по одному из возможных вариантов, положив в основу либо «действовать», либо «существовать». Эти два пути нельзя совместить; но их и нельзя оторвать один от другого! Потрясающая несовместимость-и-неотрывность одного от другого. Но, заметим: несовместимость развёрнутых путей, таких, на которых уже выстроены субъект-предикатные конструкции; а неотъемлемость друг от друга — ещё не развернутых, а свёрнутых путей, в той «точке», где они ещё не разошлись и где значения «действовать» и «существовать» требуют друг друга и предполагают друг друга.
 |

|
|
|
Теория |
37 |
Подытожим. Декарт, а вслед за ним и вся новоевропейская философия, делает выбор в пользу «существовать», а не «действовать». Он не обосновывает этот выбор, считая его очевидным. Но что ещё интереснее, он не видит, что выбор на самом деле сделан. Для Декарта выбора нет, следование cogito → sum однозначно, очевидно и не подлежит сомнению. Вот ведь что главное: мы видели, что «существовать» и «действовать», взятые как cogito, вовсе не альтернативны, а предполагают и требуют друг друга. Они — то же иначе: существовать и значит действовать, а действовать — существовать, пока мы ведём речь о cogito. Эта разведённость и неотъемлемость одного от другого составляют величайшую загадку. Они могли бы составить и величайший исток новой философии, если бы были замечены. Незамеченность очевидного в новоевропейской философии — поразительный факт, но именно факт.
Это — первое. И второе: настаивая на том, что cogito ergo sum — это не силлогизм и не логическое следование, Декарт, как и его последователи, утверждает, что ergo здесь выражает нечто допредикативное, — поскольку логическое следование имеет предикативную форму, форму субъект-предикатной конструкции. Однако всё дело в том, что «допредикативное» означает — целостное и свёрнутое. Предикационные механизмы разворачивают свёрнутость, но разворачивают только на одном из двух возможных путей — либо на пути существования, либо на пути действия. Значит, найти допредикативное можно только как свёрнутость, только как целостность. Его нельзя найти как значение. Поэтому декартовское ergo sum — в принципе ошибочно. Выбирая значение «существование», Декарт разрушает допредикативную целостность существования-и-действия и делает однозначный выбор в пользу существования.
Скажем это иначе. Декартовское sum «аз есмь» — субъектно. Но субъектное не может не быть предикативным, даже если будет объявлено таковым. Ведь и «чистый субъект» — всё равно «что» и «какое», а значит, субъект-предикатная склейка, а не субъект сам по себе. Чистый субъект, как и чистое бытие, ничего не прибавляющее к субъектности, — оксюморон. Избежать субъектности можно только одним способом — нырнув в целостность, в которой существование и действие не стали отдельными и отделёнными друг от друга значениями; став таковыми, они требуют субъектности,
|
38 |
Глава 1 |
|
требуют развёрнутости предикативного состояния. Тысячи страниц философских сочинений на тему того, почему «существование» — не предикат и как можно различать бытие и существование, выражают это неразрешимое затруднение европейской философии: нельзя получить субъектность, избегая предикативности. Это — закон, и его не обойти; мы увидим, как он проявляется. Неслучайно авторы «Логики Пор-Рояля», отвечая Декарту, говорят, что «я есть» означает — «я есть существующий»8: формула «S (связь) P» не знает исключений, невозможно иметь субъект, не имея предиката. Как именно осуществляется связь субъекта и предиката — другой вопрос, и ответ на него вариативен, зависит от способа смыслополагания. Там, где на развилке «существование/действие» выбирают путь существования, эта формула приобретает вид «S есть P».
Зафиксируем выводы, к которым мы пришли.
1. Динамика и статика, неподвижность и движение, фиксированность и изменение даны нам неотрывно друг от друга в нашем собственном «Я». Любое cogito, т.е. любой акт сознания, требует признать «Я» наличным, существующим, и тем самым — действующим. И наоборот: любое cogito — действие, но чтобы действовать, «Я» должно наличествовать, существовать. Эта последовательность — не следование; существование и действие не обусловливают друг друга. Они скорее — стороны самих себя и друг друга, так что одно нельзя отделить от другого.
2. Существование-и-действие даны нам нашим сознанием и как наше сознание. Это заставляет нас считать, что «Я» и мир таковы же: «Я» существует-и-действует, и мир существует-и-действует. Существует мир в целом, такой же субстанциальный, как субстанциально наше «Я», которое мы всегда находим именно как «Я». Как мы, не изменяясь, меняемся всю жизнь, так и мир, оставаясь тем же, всё время — иной. Действие, неотъемлемое от существования, множит и меняет мир и «Я».
3. Это верно и для мира в целом, и для каждой вещи мира. Субъектность проецируется не только на мир в целом, но на каждую вещь в нём. Точнее, потому в нашем представлении о мире и появляются
|
|
Теория |
39 |
вещи, что мы сами, будучи одними и теми же и всегда — другими, и вне себя разыскиваем неизменное «что», которое оказывается изменяющимся «какое». «Красное солнце», садящееся за горизонт, потому «красное», что оно же будет «жёлтым» и «огненным», но также — «движущимся», «круглым» и так далее, оставаясь «солнцем».
4. Мы не способны в своём сознании удержать собственное сознание; это значит, что мы не способны остаться на уровне cogito. В cogito и через cogito нашим сознанием нам всегда дана целостность; но мы видим мир, говорим о мире и мыслим о нём — субъект-предикатными конструкциями. Субъект-предикатные конструкции разворачивают целостность, но одновременно и урезают её. Наше видение мира (то, что раньше называли «чувственное восприятие»), наш язык и наши теории несут на себе печать субъект-предикатного конструирования.
5. Субъект-предикатное конструирование — склейка «что» и «какое». Мы, оставаясь теми же, всё время и в каждый момент — другие. Наше «Я» рассыпается на множество «я»: сегодня я — ученик, завтра — учитель; сейчас я для этого — хороший, для того — плохой, а для третьего — безразличен. Я всё время «такой-то», но всегда — тот же самый «Я». Склейка субъектности и предикатности, «что» и «какое» закладывается здесь, в этом неотъемлемом от нас ощущении нашей тожести и инаковости. Это ощущение — неосознанное, но непременно присутствующее в каждом из нас; в любой нашей инаковости сохраняется наша тожесть.
6.Эта интуиция субъект-предикатного склеивания, возможности сохранить «что», бесконечно меняя «какое», определяет сознание человека. Человеческое сознание. Эта способность — стержневая, она задаёт возможность видеть мир как систему вещей, пользоваться языком, строить доказательства. Восприятие мира; язык; теоретическое мышление — три основных уровня, или области, индивидуального сознания, получившие развитие вокруг способности субъект-предикатного склеивания и благодаря ей. Общественное сознание, или культурные практики, выстраивают системы права, этики, политики, создающие возможность общественной жизни и, в свою очередь, закрепляющие задавшие их возможность культурные практики. Но в основе всего этого лежит способность субъект-предикатного склеивания.
7. Целостность, данная нам как наше сознание в его деятельности, как cogito, представляет собой свёрнутость. Мы умеем развора‐
|
40 |
Глава 1 |
|
чивать её только по линии субъект-предикатного конструирования, на основе субъект-предикатной склейки, интуиция которой дана нам нашим «Я/я». Именно то, каково наше «Я/я», определяет основополагающий факт нашего, человеческого сознания: мы способны развернуть смыслополагание по линиям субъект-предикатного склеивания.
8. Целостность, взятая как cogito, это целостность существования-и-действия. Целостность такова, что одно в ней не следует за другим, одно не служит условием или причиной другого, и одно не может быть отнято от другого. Всё сразу и всё вместе. Субъект-предикатное конструирование урезает эту целостность cogito в том смысле, что берёт одну, и только одну, сторону целостности, существование либо действие, как основу смыслополагания. Наше сознание формирует и проходит развилку существование/действие, вступая на путь субъект-предикатного конструирования.
9. Целостность выступает теперь как субъект-предикатная связность. Наше сознание связно постольку, поскольку способно работать с субъект-предикатными склейками, со «что» и «какое». Но и пройдя развилку существование/действие, сознание не теряет целостность, поскольку целостность и есть cogito — его собственная деятельность. Взятое теоретически, любое индивидуальное сознание способно двигаться по любому из двух путей субъект-предикатного склеивания, заданных развилкой существование/действие. Взятое в действительности, любое индивидуальное сознание включено в ту или иную систему культурных практик. Как не бывает человеческого сознания вне языка, так его не бывает и вне общества, а значит, вне системы культурных практик. Культурные практики закрепляют только один из возможных способов смыслополагания в качестве приоритетного — такого, к которому наше сознание приучается прибегать при решении едва ли не любых задач. Другой способ смыслополагания вытесняется на периферию, расценивается как «неправильный», «ненаучный», «обыденный» и т.п. Формируется коллективное когнитивное бессознательное как устоявшийся неосознаваемый выбор в пользу одного из возможных способов смыслополагания, стирающий память о самом выборе.
10. Так культура разворачивает и выстраивает себя на основе и вокруг одного из двух возможных способов смыслополагания, взятых как субъект-предикатное конструирование, опираясь на исходный основополагающий выбор либо существования, либо действия
|
|
Теория |
41 |
на развилке существование/действие. Пример соответствующих «больших культур» — европейская и арабская (доисламская и исламская). Однако индивидуальное сознание всегда сохраняет способность другого выбора на развилке существование/действие, поскольку человеческое сознание не утрачивает способности к целостности. Это значит, что любой из нас, даже если приучен господствующими культурными практиками к ви́дению мира, использованию языка и теоретическому рассуждению, включая доказательство, основанным на выборе, скажем, в пользу существования на развилке существование/действие, сохраняет возможность, во-первых, понять культуру, развернувшую смыслополагание на основе выбора в пользу действия, а во-вторых, самому развернуть смыслополагание на основе такого альтернативного выбора. Конечно, это потребует определённых усилий, и немалых, поскольку надо, во-первых, преодолеть инерцию привычного выбора — инерцию коллективного когнитивного бессознательного, и, во-вторых, самому, без поддержки привычных культурных практик, пройти путь смыслополагания. Этой затратностью и непривычностью объясняется то немалое сопротивление, которое встречает альтернативный путь смыслополагания в среде, уже приученной к другому способу смыслополагания всей системой культурных практик, сформировавших определённое коллективное когнитивное бессознательное. Преодолеть сопротивление можно либо сознательными усилиями, либо в силу того, что к этому подтолкнёт та жизненная ситуация, которая заставит наше сознание пойти по другому пути смыслополагания. С примерами того и другого мы познакомимся в этой книге.
11. Практика «вживания в культуру», известная многим востоковедам, — это практика постепенного, более или менее болезненного, освоения чужого коллективного когнитивного бессознательного и его принятия как своего. Она возможна постольку, поскольку наше сознание как целостность всегда сохраняет для нас допустимость другого выбора на развилке существование/действие; она болезненна потому, что для многих протекает как отказ от привычного способа смыслополагания. Удержать обе способности разворачивать субъект-предикатные конструкции, научиться сознательно переключаться между двумя способами смыслополагания, наблюдая разворачивание каждого и понимая преимущества и ограниченность любого из них, — особая задача и особая способность, которой, без сомнения, принадлежит будущее.
|
42 |
Глава 1 |
|
12. Развитие человеческого сознания пойдёт по пути овладения разными способами смыслополагания, по пути открытия новых развилок и новых возможностей выстраивать осмысленность. Опытом европейской и арабской культур не исчерпываются возможности разворачивания осмысленности, известные человечеству. Невозможно сомневаться в том, что вдумчивое освоение опыта других «больших культур» откроет для нас иные способы смыслополагания, которые мы — с, возможно, некоторым удивлением — обнаружим затем присутствующими и на периферии собственного сознания.
Теперь мы лучше поймём, как возможна естественная установка нашего сознания и почему она именно такова.
Нет ничего более естественного для нашего сознания, нежели оно само. Сознание как cogito — всегда целостность. Мы увидели эту целостность как целостность существования-и-действия; открытие других граней целостности — впереди, но для целей этой книги достаточно данных двух.
Далее, для нашего сознания не менее естественно видеть «Я» как единственность и единичность, как тожесть, сохраняемую наряду с многоликостью и инаковостью «я». Субъектность и предикативность, «что» и «какое» даны нам нашим сознанием как «Я» и «я»; как «Я/я». Неотъемлемые одно от другого, строго тождественные и всегда инаковые, нерасщепимые и расщеплённые.
Таким образом, нашим сознанием, каково оно в своём естестве, нам даны и целостность, и предикативность.
И то, и другое дано нам как то же иначе. То же иначе — когда мы различаем, но не можем разделить; разделяем, но не можем различить. Существовать для нашего «Я» — то же, что действовать, хотя действовать — это иное, нежели существовать. Субъектность «Я» — всегда строго то же, что предицируемые «я»-кости («я» как ребёнок, «я» как родитель, т.д.).
Однако то же иначе целостности — иное, нежели то же иначе предикативности. Целостность не может увеличиваться или уменьшаться; разворачиваясь и сворачиваясь, целостность остаётся всегда той же — иначе; целостность нельзя изменить, хотя она всегда — другая. О такой целостности говорил, по-своему точно, но очень неадекватно, Гуссерль:
Сознание, если рассматривать его в «чистоте», должно признаваться замкнутой в себе взаимосвязью бытия, а именно взаимосвязью абсолютного бытия, такой, в которую ничто не может
|
|
Теория |
43 |
проникнуть и изнутри которой ничто не может выскользнуть; такой, для которой не может существовать никакой пространственно-временной внеположности и какая не может заключаться ни в какой пространственно-временной взаимосвязи; такой, которая не может испытывать причинного воздействия со стороны какой бы то ни было вещи и которая не может причинно воздействовать на какую бы то ни было вещь — при условии, что у слова «причинность» нормальный смысл естественной причинности, то есть существующего между реальностями отношения зависимости [Гуссерль 1999: 109].
Как видим, точно схваченная характеристика того, что мы называем «целостность», соседствует у Гуссерля с унаследованным от европейской традиции однозначным выбором в пользу существования на развилке существование/действие, — а ведь этот выбор урезает целостность, переводит её в разряд предикативности. Предикативность — также то же иначе, но — в своих пределах, которые заданы уже сделанным выбором на развилке существование/действие. В этом смысле субъект-предикатная склейка — связность, но уже не целостность как таковая. Связность возможна благодаря целостности и на её основе. Именно целостность сохраняет связность нашего сознания и обеспечивает её, а вовсе не «силы», которые европейская философия унаследовала через схоластов от Аристотеля: ещё Кант говорит о «воображении» как связывающем разные данные сознания, которое выступает у него как наследник «общего чувства». Ничто из этого нам не нужно; всё это — лишь ненадёжная попытка выразить, что такое целостность. Две категории: целостность и связность, — дадут нам то, что давал целый набор традиционных «сил» души, оставшихся в наследство философии даже тогда, когда «душа» утратила для философов свою реальность.
 |

|
Европейскими культурными практиками наше сознание натренировано на то, чтобы узнавать целостность в её пространственном выражении. Пространственность, на зависимость от которой неоднократно сетовали европейские философы, но которую всерьёз смог преодолеть только Бергсон, совершенно не случайна; и преодолеть её Бергсон смог лишь потому, что предложил альтернативную презентацию целостности.
|
44 |
Глава 1 |
|
Но об этом — позже. Сейчас посмотрим на этот простой рисунок:

Рис. 1
Перед нами — поделённый надвое параллелепипед. Что это именно параллелепипед и что его делит надвое на равные части отрезок прямой линии — случайность: здесь могла бы быть любая замкнутая фигура, без остатка разделённая надвое (не обязательно пополам) внутренней линией любой конфигурации.
Подсказывает ли нам что-нибудь этот простой рисунок? Конечно! Вот что:

Рис. 2
Наш опыт легко истолковывает этот отвлечённый рисунок. Может быть, «Б» — это коробка с карандашами на моём столе, где в одном отделении, например, отделении «А», я держу простые карандаши, а в другом, отделении «не‑А», — цветные. Если я соблюдаю правило хранения и сортировки карандашей, я знаю, что все карандаши на моём столе находятся в коробке «Б», что, если я не глядя возьму карандаш из одного из отделений, он окажется либо простым, либо цветным. Поэтому, если мне нужен простой карандаш, я возьму его только из отделения «А», и я точно знаю, что он не окажется цветным; аналогично, если мне будет нужен цветной карандаш. Мир, а точнее сказать, тот его фрагмент, что представлен моим письменным столом с коробкой для карандашей, всегда — и сегодня, и завтра — будет вести себя подобным образом. Более того, я уверен, что, если уеду из Москвы на дачу, в деревню или вообще в другой город или даже в другую страну, коробка с карандашами на моём столе и там будет вести себя точно таким же образом.
Но откуда мне это известно? Из опыта? Нет, конечно; опыт всегда даёт только единичное, но не общее и не необходимое знание;
|
|
Теория |
45 |
я никогда не могу быть уверен, что известное мне по опыту не окажется другим. Между тем с карандашами — да и вообще с любыми объёмами, без остатка делёнными на две или сколько угодно частей — всегда всё будет именно так, как было однажды. Откуда моя уверенность в том, что мир всегда, с необходимостью, будет являть именно ту закономерность, которую я подглядел в опыте?
Мне это известно потому, что Рис. 1 даёт мне ощущение целостности. Внешний замкнутый контур, будучи поделён надвое без остатка, задаёт абсолютный мир целостности. В него ничто не может проникнуть извне, поскольку он оберегаем внешней границей; и из него ничто не может выскользнуть наружу — по той же самой причине. Вот почему этот мир абсолютен: он ограничен, но ограничен только самим собой. Кому-то это может показаться противоречием в определении: «абсолютное» значит безграничное, не ограниченное ничем. Это верно; но ведь внешняя граница фигуры на Рис. 1 никак её саму не ограничивает. Внешняя линия — это, собственно, не граница, это и есть сама фигура. Отвлечёмся от конкретной метрики и представим, что внешний контур фигуры на Рис. 1 бесконечно растягиваем: он может заполнить весь мир; и представим, что внутреннее деление этой фигуры продолжается бесконечно. Что изменится? Да ничто; целостность останется целостностью, бесконечно растягиваясь и разворачиваясь — конечно же, внутри себя, никак не «снаружи», потому что никакого «снаружи» нет, есть только сама фигура, заданная внешним контуром и бесконечно растягиваемая. Свойства такой целостности и описывает Гуссерль как свойства «чистого сознания».
Что меняется на Рис. 2? Ничто — в смысле свойств целостности. Всё та же целостность, которую наше сознание открывает как самого себя, поскольку и само сознание — целостность. Но здесь, на Рис. 2, возникли слова, возникли названия. У нас появились «А», «не‑А» и «Б». Необходимы они или произвольны? Почему мы не возражаем против того, чтобы наша целостность получила эти отдельные названия? Ведь целостность ничем не ограничена, она абсолютна; целостность не имеет частей, не прирастает и не умаляется, она может бесконечно сжиматься и растягиваться, не изменяясь, всегда оставаться собой, будучи всегда иной. Тогда что такое — эти названия? Как они «прикрепляются» к вечно изменчивой и всегда той же целостности? И «прикрепляются» ли?
XX век был веком триумфа семиотики. Наука о знаках, принципиальные основания которой заложил Аристотель, пережила неожи
|
46 |
Глава 1 |
|
данный — но вполне закономерный — взлёт, обеспеченный и математизацией логики, и победой англо-американского эмпиристского, можно сказать — бэконовского направления в философии. Знаками оказалось удобно оперировать как единичными сущностями. Семиотика правила бал и праздновала победу: весь мир стал миром знаков, культура превратилась в карнавал значений, а семиотика претендовала уже на звание универсального метода в гуманитаристике.
Знак — это ничего не значащая, потому что произвольная, связь между какими-то двумя предметами или событиями, в число которых включаются и представления в нашем уме. Парадокс в том, что семиотика никогда не могла удержать это необходимое условие знаковой теории: произвольность знака. Известный треугольник Фреге «знак-означаемое-означивание» (или значение) свидетельствует об этом: произвольно взятый знак должен быть связан с означаемым той связью, которую — за невозможностью её объяснить — назвали «значение».
Конечно, знак и означивание возможны — кто же с этим спорит. Они доступны животным, по меньшей мере высокоразвитым, но как рефлекс, т.е. низшая ступень знаковой функции, присутствуют едва ли не у всех живых существ. Да и у неживых при желании нетрудно разглядеть ту же знаковую функцию: разве покраснение или посинение лакмусовой бумажки — не знак кислоты и щёлочи? Человек многое унаследовал от животного, и в целом от природного мира: своё тело, свои рефлексы, свои инстинкты и свою способность использовать знаковую функцию. Но что есть в знаковой функции, за исключением рефлекса? Увидев знак «стоп», водитель нажимает на педаль тормоза — знаковая функция работает отлично. Но чем же оказывается это самое загадочное «значение», или связь «означивания», связывающая знак и означаемое в семантическом треугольнике, если не рефлексом, пусть и усложнённым? И вряд ли случайно Б. Рассел, создатель теории логического атомизма, обронил в своей «Философии логического атомизма» замечание о том, что значение всегда психологично и потому теория значения невозможна [Рассел 1999: 12]. Но это, конечно, не так; точнее, это не так потому, что мы, люди, кроме значений, доставляемых знаковой функцией, способны к смыслополаганию, обеспечиваемому разворачиванием целостности. Именно это делает возможным наш, человеческий, язык (а не просто систему знаков или сигналов, которыми обмениваются животные); именно это делает возможным теоретическое рассуждение и доказательство.
|
|
Теория |
47 |
На Рис. 2 «А» и «Б» — действительно значения, они произвольны, и мы не можем сказать, почему они именно таковы. Вместо «А» и «Б» могли бы быть — «В» и «Г», «Альфа» и «Омега», «Буки» и «Веди». И все они были бы случайны, и для каждого из них мы не смогли бы, вполне в согласии с замечанием Рассела, теоретически обосновать их связь с означаемым, т.е. их «значение».
Но что не случайно на Рис. 2? Не случайно то, что «А» и «не‑А» — это части целого, т.е. части «Б». Это не может быть по-другому, и это дано не чем-то внешним, что «задаёт» такое-то значение: подобное означивание и было бы, по слову Гуссерля, невозможным внешним причинным воздействием на абсолютную целостность сознания. Это дано самой целостностью. Как бы ни сворачивалась и ни разворачивалась целостность, представленная на Рис. 1, это — не изменится.
Смыслополагание — это разворачивание целостности как связности в виде субъект-предикатного конструирования после исходного выбора на развилке существование/действие. Выбор в пользу существования задаёт пространственную развёртку целостности (Рис. 1). Осмысленность задаётся разворачиванием целостности, которое всегда происходит как внутреннее, ничего не берущее снаружи и ничего не отдающее наружу. Часть и целое, утверждение и отрицание необходимым образом заданы на Рис. 1‒2, определены друг другом и поддерживают друг друга. Эти значения — не результат означивания. На совсем другом конце, на конце логического атомизма, находятся теории вроде теории «семантических примитивов» А. Вежбицкой, авторы которых исходят из того, что некое «смысловое целое» можно сложить, начиная с исходных «атомарных» значений, подобно тому, как кирпичная стена, какой бы большой она ни была и какую бы причудливую форму ни имела, всё равно складывается из исходных элементов-кирпичиков. Эти элементы, начальные атомы смысла, заданы у них как некие «значения»; и хотя остаётся навсегда непонятным, как именно и кем именно они «заданы» (или же возникли сами собой?), это не смущает авторов подобных теорий. С осмысленностью обращаются так же, как когда-то обращались с физическими телами, старясь раздробить их до степени мельчайшей частицы. Субстанциальный физический атомизм уступил место представлениям о полях, но субстанциализм, так сказать, методологический, требующий начать с простейшего и, как когда-то указывал Декарт в «Правилах для руководства ума», не переходить
|
48 |
Глава 1 |
|
ни к чему другому, пока не будут извлечены все следствия из этого наипростейшего, по-прежнему, похоже, правит бал. Во всяком случае, теории логического атомизма, в каком бы виде они ни были представлены, исходят из всё тех же картезианских предпосылок. Но мы видели, что значения «да» и «нет», «равно» и «противоположно», «делиться» и «складываться», «часть» и «целое» не заданы каким-то внешним образом, эти значения не обозначены чем-то или кем-то, не начертаны чьей-то рукой на чистом листе нашего сознания и не даны нашему уму изначально, как врождённые. Все эти значения, хотя и выражены словами, не взяты из некоего словаря; они развёрнуты, причём развёрнуты необходимым образом, как целостность. Следовательно, ответ на вопрос: что значит «противоположность», что значит «нет», — следует искать не в неких определениях, не в неких словарях и не в желании того, кто определяет эти слова; их значения, точнее, их смысловую подлинность следует искать как разворачивание целостности. В данном случае — как тот тип разворачивания, который задан основополагающим выбором в пользу существования на развилке существование/действие.
Пойдём дальше.

Рис. 3
Ещё один — условный! — шаг разворачивания целостности. «Условный» потому, что эти «шаги» не совершаются один вслед за другим: такое линейное разворачивание — сугубая условность. На деле, как мы видели, в естественной установке нашего сознания наша субъектность, или «я‑йность», всегда включена в наше cogito. Мы легко считываем с Рис. 3 именно это: всякая точка — некое «что», включённое либо в то «какое», которое обозначено как «А», либо в то, которое обозначено как «не‑А». И всякий, кто имеет хотя бы небольшой опыт европейских культурных практик, сразу же (или чуть погодя) узнает в Рис. 3 свёрнутую запись тех трёх законов логики, что известны со времён Аристотеля. «А есть А», закон тождества: точка, попавшая в область «А», попала в неё, и только в неё,
|
|
Теория |
49 |
она никуда не сдвигается и никуда не девается; «что», символизируемое этой точкой, имеет, сохраняет и не утрачивает «какое», символизируемое пространственной областью «А». Например, если на улице — дождь, то: «Дождь есть выпадающий»9. «А не есть не‑А», закон противоречия: оказавшись в пространственной области «А», наша точка-«что» никак не может вместе с тем оказаться в пространственной области «не‑А», сменив своё «какое» на противоположное; например, «выпадающий дождь не есть не-выпадающий дождь», что будет признано каждым, кто напрасно или не напрасно захватил сегодня на улицу зонтик. И в самом деле, зонтик взят либо попусту, либо по делу, одно из двух непременно имеет место и никогда и ни за что — оба сразу. Так уж ведёт себя мир, и этого не изменить: точка-«что», способная в принципе оказаться в одной из пространственных областей «А» или «не‑А», обязана непременно оказаться в одной из них и никак не может оказаться в обеих сразу: «Б есть либо А, либо не‑А» в обоих смыслах, вычитываемых из этой формулы закона исключённого третьего.
Три закона традиционной логики, которые можно считать включёнными в естественную установку сознания, сформированную европейскими культурными практиками (именно поэтому они легко «вычитываются» из Рис. 3), ничего не прибавляют к разворачиванию целостности. В том смысле, что ничего не прибавляют извне: мы по-прежнему в абсолютных границах (в силу абсолютности — и не границах) «чистого сознания», или естественной установки сознания, — такого сознания, которое дано самому себе, сознания как cogito. Не более
|
50 |
Глава 1 |
|
того. И мы скажем здесь то же, что и раньше: разворачивание этих трёх законов дано целостностью, и только ей, в том варианте её представленности, что задан изначальным выбором в пользу существования на развилке существование/действие и отражён на Рис. 1. Три закона — тождества, противоречия и исключённого третьего, — будучи разворачиванием целостности, оказываются «иными» сторонами друг друга (относятся друг к другу как то же иначе): они возможны только все вместе и поддерживают один другого.
Рис. 3 показывает разворачивание целостности как связности, т.е. в форме субъект-предикатных склеек. Субъект-предикатную форму имеет каждая из формулировок трёх логических законов, о которых мы говорили. Это значит, что на Рис. 3 мы получаем ещё один смысл — смысл «есть». Логическими атомистами и математическими логиками немало было сказано о том, что «есть» выполняет по меньшей мере две функции — «экзистенциальную» и «связочную», которые якобы различны. Это повлияло и на некоторых лингвистов, которые также придерживаются мнения о таком различии (более того, размывают и понятие связочной функции — но это другой вопрос). Однако смысловой исток обоих якобы различных значений — один и тот же. Для субъекта, т.е. для «что», существовать — значит непременно обладать неким «какое». Быть — значит быть таким-то: вот тот закон предикации, о котором мы упоминали выше. Нельзя просто «быть», можно только «быть таким-то». Чистое «быть» лингвистов, как и чистое «бытие» философов, — значение, отвлечённое от разворачивания целостности, вынутое из естественного хода смыслополагания. Потому с ним, таким значением, и происходят разного рода приключения, что оно лишилось естественного окружения, в котором только и проявляется его подлинность. Мы уж не говорим о том вполне экзотичном мнении, которое обрело такую популярность в прошлом веке и заключалось в том, что греческая метафизика субстанции и бытия определены особенностями греческого языка. Что здесь всё поставлено с ног на голову и пропущено главное, становится совершенно ясно, стоит только принять во внимание, что и метафизика (как и теоретическое мышление в целом), и язык служат дальнейшими шагами (при условности понятия «шаг», о которой сказано выше) смыслополагания, т.е. разворачивания целостности, тогда как «есть» появляется уже на этом, самом первом шаге разворачивания целостности как связности, когда следы целостности ещё столь явны. Дальше, по мере разворачивания связности и даже постепенного стирания памяти о целостности, «есть»
|
|
Теория |
51 |
может превратиться в одно из значений, с которыми играют, как с готовыми сущностями, и тогда придумывают несуществующие зависимости метафизики от языка или ещё чего-то от ещё чего-то.
Смыслополагание — разворачивание целостности в форме субъект-предикатных склеек, «что» и «какое». Это не задано ничем, кроме самого сознания, кроме его cogito. Целостность — то, что сознание открывает как самого себя, т.е. как собственное cogito; но и «что» и «какое» оно также открывает в самом себе как «Я» и «я». Однако обратим внимание вот на что: субъект-предикатное разворачивание, т.е. разворачивание целостности как субъект-предикатной связности, запускается самым первым выбором на развилке существование/действие. Этот выбор задаёт характер субъектности, её логику: как именно данное «что» оказывается «таким-то». Для того типа субъектности, который задан выбором в пользу существования, хорошо подходят известные описания: индивид; независимое, субстанциальное «я»; автономная личность и тому подобные. Все они отражают ту логику, что вычитывается из Рис. 3: атомарность, субстанциальность, точечность субъекта. Это верно для любого субъекта в субъект-предикатных склейках; но это верно прежде всего для «Я». Это значит, что понимание человека, его отношения с другими, способ обустройства социальности, а значит, системы этики, права, политики, — всё это тончайшим образом сопряжено с этой смысловой логикой субъектности, с логикой, которая определяет в самом первом основании, как именно склеиваются «что» и «какое». Это значит также, что другой выбор на развилке существование/действие задаст другой тип субъектности, другую логику склейки «что» и «какое», — а значит, не только другую логику языка и мышления, но и другую логику разворачивания этики, права, политики и других систем социальности. Как та, так и другая логика должны поддерживаться всем комплексом культурных практик.
Если верно, что мы говорим предложениями, а не словами, если верно, что наше говорение — это речь, а не язык (речь как выстраивание предложений, язык как формальная абстракция этой практики), то верно, что субъект-предикатная склейка — ядро и завязь этой нашей способности и этой практики. Слово, если это слово человеческого языка, а не простой звуковой сигнал-знак, всегда извлечено из предложения и отвлечено от него. А предложение — это «что» + «какое», или, выражаясь более формально, «S (связь) P». Именно поэтому предложение может оказаться высказыванием, о котором мы скажем, что оно истинно или ложно. Мы можем сказать: «Солнце висит у горизонта» и расценить
|
52 |
|
это высказывание как ложное, если солнце на самом деле стоит в зените. Высказывание удваивает мир, выстраивает параллель тому, что мы называем «мир», — но выстраивает эту параллель по той же логике смыслополагания, по которой выстроен и «мир». Мы строим предложение по той же логике смыслополагания, по которой видим мир как систему вещей: «что» и «какое» сопрягаются одинаково в нашей речи и в нашем восприятии мира. Если это — логика, заданная выбором в пользу существования, если этим выбором задаётся логика субъектности, то и видеть мир, и строить высказывания о нём мы будем по логике, отражённой на Рис. 3.
Это в совершенстве схвачено кругами Эйлера.

Рис. 4
Рис. 4 представляет собой «урезанный» вариант Рис. 3, как будто его левую или правую половинку. Если это так, то субъект-предикатная форма предложения — это утраченная, но утраченная не до конца, целостность. Рис. 4 и Рис. 3 показывают, что обыденная речь и логика — рядом, одно подле другого. Речь спешит выразить то, что хочет выразить; она нацелена на субъектность, на «что», и хочет сообщить, «какое» оно. Но целостность, конечно же, не может быть утрачена вовсе; целостность легко восстанавливается. Поэтому мы можем продолжить едва ли не любое предложение и восстановить целостность, которая в нём спрятана. «Идёт дождь»: мы понимаем, каков смысл этого предложения, поскольку способны соотносить эти слова с той целостностью, что отражена на Рис. 3. Идёт дождь — значит, на улице мокро, а не сухо, значит, потоки воды, а не пыль столбом, значит, надо брать зонт для защиты от дождя, а не от солнца. В двух словах сказано очень многое — потому, что эти слова — не знаки, эти слова — сама целостность, играющая в нашем сознании и разворачивающая себя. Мы пока не умеем видеть все повороты и все стороны, все ответвления этого разворачивания; но обязательно научимся это делать. Здесь, в этой книге, мы должны выявить основные закономерности разворачивания целостности, показать, что сознание в своей внутренней жизни и есть целостность, способная разворачиваться по собственным законам. Нас интересуют основные моменты смыслополагания, и прежде всего —
|
|
Теория |
53 |
возможность различных логик смыслополагания, или логик смысла, равно как выявление основных «остановок» на пути смыслополагания: наше видение мира как системы вещей, наша речь, наше теоретическое мышление, наша социальность и наши культурные практики. Всё это должно получить целостностное объяснение — и в смысле возведения к целостности и её разворачиванию, и в смысле неотрывности одного от другого, в смысле целостной картины жизни сознания.
Итак, круг Эйлера в самом простом его варианте идеально отображает простейшее предложение, состоящее из подлежащего и сказуемого. Сознание, сделавшее выбор на развилке существование/действие в пользу существования, воспринимает такое предложение, формируя субъект-предикатную склейку, склейку «что» и «какое», по схематике Рис. 4 как стороны, как чего-то, взятого как отдельный аспект целостности, отображённой на Рис. 3. Язык существенно богаче какой-либо одной логики смыслополагания; это и не удивительно, поскольку и наше сознание не сводится к единственной логике смыслополагания. Язык несёт в себе следы развития человеческого сознания, он отражает те «боковые» ходы смыслополагания, которые присутствуют, пусть и вытесненные на периферию господствующими культурными практиками, в нашем сознании, никогда не утрачивающем способность к целостности. Разница между лингвистом и логиком в том, что для лингвиста формы языка самоценны, он не стремится увидеть, как они возможны. Логик хочет выявить основу языковых форм, сведя их по возможности к господствующей в данной культуре логике смыслополагания. Своя правда есть и в той, и в другой позиции. Лингвист прав, настаивая на том, что формы языка свидетельствуют не только об одной логике, что они имеют и иную ценность — а именно, они служат мостиками к целостности и её разворачиванию в разных логиках смыслополагания. Но прав и логик, говоря, что в любом данном случае за формами языка могут быть увидены и формы логики, причём логик выберет именно ту, которая поддерживается господствующими культурными практиками. Поэтому «дождь идёт» будет переделано в «дождь есть идущий», причём именно и только потому, что господствующими культурными практиками сознание приучено осуществлять субъект-предикатную связность в соответствии с тем, как это отображено на Рис. 4. Неважно, привыкли мы так говорить по-русски или не привыкли; важно, что такая форма, во-первых, возможна и понятна, грамматически верна; и во-вторых, именно
|
54 |
Глава 1 |
|
эта форма стоит за субъект-предикатной склейкой, сформированной по схематике Рис. 4. Это первое. А второе — никто сегодня не может сказать, каким образом в предложении «дождь идёт» два слова склеиваются в единый смысл, а не остаются двумя отдельными значениями. Знаковая теория не способна объяснить самое главное в речи — факт того, что мы изъясняемся субъект-предикатными склейками, т.е. предложениями. Знаковая теория может объяснить, как в нашем сознании возникают два разных значения, соответствующие словам «дождь» и «идёт». Чтобы объяснить, как возникает единый смысл предложения, знаковая теория должна ввести понятие грамматического значения, в частности, синтаксической связи подлежащего и сказуемого. Но это — не объяснение, а переназывание вопроса: вопрос и заключается в том, как именно формируется синтаксическая связь подлежащего и сказуемого10. Рис. 4 показывает, как это возможно; но чтобы это стало возможным, языковая форма «дождь идёт» должна быть преобразована в «дождь есть идущий». Глагольная фраза «дождь идёт» может быть преобразована и другим способом, соответствующим другой логике смыслополагания, о которой мы будем говорить дальше; это значит, что глагольная фраза «дождь идёт» стоит как будто вне, или даже над, отдельными логиками смыслополагания. Что именно это означает и какие следствия из этого могут и должны быть извлечены
|
|
Теория |
55 |
в теории смыслополагания, — разговор об этом выходит за рамки данной книги. Но он обязательно состоится. Формы языка, видимо, всегда богаче господствующей логики смыслополагания; но они, возможно, богаче любой отдельной логики смыслополагания.
Круг Эйлера идеально отображает схематизм субъект-предикатной склейки, выражаемый формулой «S есть P». Если мы захотим отобразить высказывание «Все А суть Б», нам надо будет видоизменить Рис. 4:

Рис. 5
Мы можем поставить не одну, а сколько угодно точек, символизирующих субъекты, внутри круга А: «Все А суть Б» легко вычитывается из Рис. 5 нашим сознанием, в достаточной мере натренированным для этого. Из него также легко вычитывается «Некоторые Б суть А». Смыслы «все» и «не все» (=некоторые) получены нами при разворачивании целостности в виде субъект-предикатной связности как необходимые и как данные самой целостностью.
Связность (взятая как субъект-предикатная связность) делает возможным предложение типа «S есть P». Интересно, что связность можно нарастить, расширить:

Рис. 6
Ещё один круг «В» связан с кругами «А» и «Б» тем же типом связности, что связывает сами круги «А» и «Б». В этом смысле мы говорим, что связность расширена (не случайно А. Арно и К. Лансло назвали умозаключение «распространением» суждения [Арно,
|
56 |
Глава 1 |
|
Лансло 1991: 30]). Это расширение связности также ничего не прибавляет к целостности, которую та разворачивает.
Рис. 6 сообщает нашему сознанию, которое умеет прочитывать такую символизацию целостности и связности, не только ряд высказываний типа «Некоторые В суть Б и суть А» (и т.д.). Он сообщает и нечто принципиально другое — он показывает силлогизм, известный как модус Barbara: «Все А суть Б, все Б суть В, следовательно, все А суть В». Мы видим, что вывод «Все А суть В» легко вычитывается из Рис. 6 без всякого силлогизма. Именно поэтому Аристотель говорил о «проницательности», которая позволяет некоторым людям восстановить весь силлогизм по его части (например, по выводу и одной из посылок). На самом деле для аристотелевской «проницательности» требуется не более, чем способность наглядно представить ту связность, которой конституирован этот силлогизм: тогда в самом деле любое отдельное высказывание, включённое в целостность, позволяет за счёт связности развернуть целостность в виде дискурсивного рассуждения-силлогизма. Связность силлогизма, его «действие», т.е. производство вывода, на деле — не вывод чего-то нового, а лишь экспликация развёртки целостности.
На Рис. 1‒6 мы совершили путешествие от самого простого представления целостности, основанного на выборе в пользу существования на развилке существование/действие, через формы логических законов к форме предложения, и от неё — опять к логике, к силлогизму как наращиванию того типа связности, который конституирует предложение. Мы прошли весь этот путь, увидев, как возможны логика, т.е. теоретическое мышление, и речь, использующая обыденный язык. Они возможны как разворачивание целостности, заданное самим сознанием как его cogito. Не менее важно, что мы увидели и разворачивание смыслов как необходимых и заданных целостностью, а вовсе не как атомарных значений, данных неким «означиванием». Акцент на знаковой функции, который характерен для европейской, особенно англо-американской философии с конца XIX и в XX веке, знаменует неспособность видеть целостность и связность, работать с их разворачиванием. То же характерно и для получивших развитие в последние десятилетия когнитивных исследований (в том числе сопряжённых с культурной антропологией), интереснейших по размаху накопленных в их ходе наблюдений. Весь этот обширный материал нуждается в неспешном переосмыслении с точки зрения вопроса: как это возможно в качестве шага разворачивания целостности и какую именно из возможных логик смыслополагания следует принять в качестве стержневой в данном случае?
|
|
Теория |
57 |
Без этого многообещающие наблюдения останутся на уровне мало куда ведущих разъяснений на уровне теории знака. Классическая книга М. Джонсона [Джонсон 1987] заложила основы «отелесненного» понимания когнитивных процессов, будучи задумана как экспликация схематизма задания значений слов естественного языка. Автор опирается на кантовское понятие схематизма, делает попытки объяснить и очевидность логики, но, несмотря на это, остаётся на уровне объяснения прежде всего и по преимуществу значений слов. Так, для того, чтобы дать понять, какова схема, объясняющая включение и, следовательно, значение слова «в», Джонсон прибегает к такой иллюстрации [Там же: 23]:

При этом он подчёркивает (опять-таки вслед за Кантом), что данный рисунок (drawing) — это не сама схема, а лишь подсказка, помогающая описать схему. Но именно пространственные рисунки служат для М. Джонсона универсальной иллюстрацией того, как наш телесный опыт «общения с миром» формирует значения используемых слов и определяет понимание таких законов логики, как закон исключённого третьего или закон транзитивности [Там же: 39‒40]. Джонсон не видит самого главного: и значения слов, и законы логики возможны как разворачивание целостности, а вовсе не как «схематизация» нашего телесного опыта. Как и у Канта, у Джонсона само понятие схемы и схематизма (как понятие синтаксической связи у лингвистов) лишь переназывает трудность, подлежащую разрешению, а не решает проблему. Подлинное решение и ответ на вопрос: как возможна логика и как возможно значение, — лежит на пути понимания разворачивания целостности человеческого cogito.
Рассмотренный способ смыслополагания назовём «субстанциальный», или С-способ. Это название определено основополагающим выбором в пользу существования на развилке существование/действие.
|
58 |
Глава 1 |
|
Логику смыслополагания, т.е. логику разворачивания целостности на основе этого изначального выбора, назовём субстанциальной логикой, или С-логикой. Существование, сущность, субстанция — слова, связанные друг с другом непосредственно. Фактом выбора в пользу существования на развилке существование/действие определено и то, что европейская культура развивает в качестве стержневой метафизику субстанции, а не метафизику действия. Но, конечно, не С-логика определена С-метафизикой, а наоборот: метафизические теории возможны как один из шагов разворачивания целостности по С-логике.
 |

|
Если на развилке существование/действие выбор сделан в пользу действия, целостность cogito развернётся целиком по другой логике. Эту логику назовём процессуальной, или П-логикой. Ту роль, какую в контексте С-логики играют понятия существования, субстанции, сущности, для П-логики выполняет понятие действия, взятого как протекание. Удивительным свойством протекания является его принципиально вневременной характер. Протекание, процесс в П-логике — это вовсе не изменение чего-то во времени (чего-то субстанциального). От этого привычного для С-мышления понимания процесса нужно освободиться сразу, если только мы хотим понять, что такое П-логика и как она работает в качестве машины смыслополагания.
Протекание, взятое в качестве процесса как такового, или действия как такового, будет непременно мыслиться как временно́е изменение, если мышление находится под диктатом интуиции пространственности как способа презентации целостности (см. Рис. 1). Что С-мышление именно под этим диктатом и находится, мы говорили выше: от этого диктата невозможно освободиться, не освободившись от исходной интуиции пространственной презентации целостности; а эта интуиция, в свою очередь, прямо связана с выбором в пользу существования на развилке существование/действие. Этот выбор определяет, вместе со всем этим, и понимание субъекта как атомарной субстанции, как автономной личности, т.п.: «Я» — не просто «Я», оно начинено логикой, а именно — логикой смыслополагания. Субъектность в С-логике именно такова, что позволяет осуществить разворачивание целостности в форме связности, т.е. субъект-предикатных склеек, так, как это показано на Рис. 3‒6.
|
|
Теория |
59 |
Как видим, все эти вещи тесно увязаны одна с другой; и даже не то чтобы увязаны, но «одно» и «другое» здесь — не что-то отдельное, самостоятельное, что затем связывается, а и имеются они как взаимоподдерживающие стороны разворачивания целостности. Значит, если исходный выбор на развилке существование/действие будет сделан иначе, чем в С-логике, не в пользу существования, а в пользу действия, то и все эти вещи сразу и все вместе поменяются, будут другими. Другим будет и понимание «Я», задающее логику субъектности (в т.ч. логику понимания человека и его связи с другим человеком и миром, а значит, этику, политику, социальность в целом), т.е. логику «что» и его связи с «какое», значит, логику субъект-предикатной связности, что отражается и в языке, и в теоретическом мышлении, и в обыденном восприятии мира.
Нам нужно самое трудное — исходная интуиция, исходный выбор в пользу действия. Действия как изначального — не как атрибута субстанции. Нам нужно преодолеть ту инерцию культурных практик, которая не дала Декарту увидеть очевидное: что cogito означает существование настолько же, насколько и действие, и действие настолько же, насколько существование. Нам нужна интуиция действия — такого действия, которое изначально, которое не помещается ни в пространство, ни во время. Действия, которое играет основополагающую роль — задаёт мир.
Послушаем, что говорит А. Бергсон:
Чистая длительность… исключает всякое представление о рядоположенности, взаимной внешности и протяжённости.
Представим себе… бесконечно малую резину, сжатую, если бы это было возможно, в математическую точку. Будем вытягивать её постепенно таким образом, чтобы из точки заставить выходить линию, которая будет всё удлиняться. Сосредоточим наше внимание не на линии, как линии, но на действии, которое её чертит. Будем считать, что действие, вопреки его длительности, неделимо, если предположить, что оно выполняется безостановочно; что если в него входит остановка, то из него делается два действия вместо одного, и каждое из этих действий будет таким неделимым, о котором мы говорим; что делимым является не само движущееся действие, но неподвижная линия, которую оно отлагает под собою, как след в пространстве. Освободимся наконец от пространства, стягивающего движение, чтобы считаться только с самим движением, с актом напряжения или протяжения, словом, с чистой подвижностью [Бергсон 1914: 9].
|
60 |
Глава 1 |
|
Бергсон говорит о понимании «Я». Удивительно, насколько точно он описывает нужную нам интуицию — считая, что описывает вообще-понимание «Я». Но он говорит не об универсальном «Я»; он говорит о том понимании субъектности, которое возникает, если основополагающий выбор сделан в пользу действия.
Действие — столь же первичная и необъяснимая ни через что иное действительность (показательная игра слов в русском языке), как и существование. Мы не можем объяснить, что значит «существовать» и что значит «есть», пока не отошлём к той презентации субъект-предикатной связности, что дана на Рис. 3‒6. То же самое — с действием: мы не объясним, что значит выбор в пользу действия на развилке существование/действие, что значит действие в качестве основы смыслополагания, а не свойства, атрибута, эманации субстанции, помещаемых в уже готовую презентацию целостности (Рис. 1‒6) как её «какое», — мы не объясним всего этого, пока не отошлём к той презентации целостности, что задана действием, выбранным в качестве основы смыслополагания. Однако принципиальная трудность, с котором мы столкнёмся с самого начала, заключается в том, что мы не можем прибегать ни к каким пространственным способам презентации. В каком-то смысле, в смысле очень неадекватной аналогии, можно сказать, что мы должны иметь дело не с геометрией, а с алгеброй, где пространственное мышление нерелевантно. Аналогия неадекватна постольку, поскольку геометрию можно представить алгебраически, а П-логику представить через С-логику (или наоборот) нельзя: они берут начало каждая как альтернативный выбор развёртки целостности на развилке существование/действие. Поскольку столь привычная нашему сознанию с его археологией европейских культурных практик пространственная презентация целостности («путь геометрии») невозможна в данном случае, нам придётся идти другим путём, «путём алгебры».
Сперва извлечём все очевидные следствия из того понимания действия, которое предлагает нам Бергсон. Самый яркий контраст с нашими герменевтическими ожиданиями представляет собой то, о чём только что было сказано: необходимость отказа от пространственной презентации действия. Мы должны отвлечься, говорит Бергсон, от линии, которую чертит действие «растягивание» в пространстве. Требование коренное, иначе не скажешь: как же отвлечься от пространственности, если мы только и умеем представлять себе время пространственно, как именно что некую протяжённость, а действие
|
|
Теория |
61 |
ведь должно — так мы привыкли считать — совершаться как раз во времени, поскольку действие и есть временно́е изменение, «движение», как считал ещё Аристотель? Как же отвлечься от этих априорных форм нашего сознания; куда тогда мы будем помещать наш чувственный опыт, наше — пусть и воображаемое, но вполне себе чувственно ощущаемое, — действие растягивания резины? Мы сразу же оказываемся в глухом тупике, из которого нет выхода. Если действие совершается во времени и без времени не может быть представлено, а время мы не можем не представлять пространственно, как некую протяжённость, которая всегда может быть отображена в виде линии — геометрически, — то как же можно отвлечься от пространственности? Не говоря уж о том, что Бергсон как будто дразнит нас, предлагая представить не какое-нибудь абстрактное действие вроде мышления, например, а самое что ни на есть телесное и напрямую увязанное с пространством: как ещё можно растягивать бесконечную резину, если не пространственно?
Что же предлагает нам Бергсон? Ни много ни мало — отказаться от пространственной презентации целостности (Рис. 1), исключить пространственность как базу всех когнитивных операций; перестать считать её — вместе со временем — априорной формой сознания. Он предлагает сделать иной выбор, нежели тот, который всегда делала европейская философия, независимо от многообразия её школ и направлений. На самом деле всё это довольно просто, если выразить это одним словом: мы должны начать с действия, с чистого действия, и полагать его основой всего, не «помещая» никуда, ни в какие «априорные формы». Действие — не данность чувственного опыта, не изменение, которое может, как у Парменида и Зенона Элейского, оказаться чистой кажимостью и быть лишено действительности. Действие и есть первая и последняя действительность, и всё, что мы сможем сказать после этого, мы должны говорить на основе этого. Да, выбор Бергсона — коренным образом иной, нежели выбор Парменида, Платона или Аристотеля, выбор Декарта или Канта, выбор Деррида или Делёза. Это — другой основополагающий выбор, т.е. выбор, полагающий иные основы, нежели те, что полагались в истории всей европейской философии.
Но откуда же нам взять «действие», если не из чувственного опыта? Вся европейская философия, вся её история, подтверждённая системой её культурных практик, — это история недоверия к действию, т.е. к изменению, это история устранения действия как изменения
|
62 |
Глава 1 |
|
в пользу бытия как неизменности. Эмпиризм, в новое и новейшее время — прежде всего англо-американский, ничего не меняет по существу в этой расстановке, лишь делая акцент на единичности и временно обедняя философию. Декарт потому и не может выбрать действие как следствие cogito, что такой выбор заблокирован всей историей европейского мышления.
Логика смысла — это логика cogito, логика чистого, абсолютного сознания, логика разворачивания целостности как то же иначе в формах субъект-предикатной связности. Логика смысла — чистая логика, без догматически предпосланных положений, логика, разворачивающая сама себя. Действие, о котором говорит Бергсон, будет нами увидено и принято как основополагающее, если мы вернёмся к истоку сознания, к сознанию как cogito, и выберем действие в качестве основы для разворачивания целостности.
Тогда то, что говорит о действии Бергсон, станет как будто само собой ясным. Действие, конечно же, не может быть «помещено» в пространство или во время. Это означает: действие не происходит в пространстве и во времени, в пространстве и во времени имеет место изменение субстанции. «Действие» — одно и то же слово, когда мы произносим его на разных языках или даже заменяем каким-нибудь знаком. Но осмысленным оно становится тогда, когда включено в целостность, и наше сознание, способное чувствовать целостность, разворачивать её и восстанавливать по имеющимся фрагментам, способно ко всему этому потому, что может работать с целостностью. Но целостность, оставаясь всегда той же целостностью, разворачивается целиком иначе в С- и П-логиках. Одно и то же слово «действие» будет иметь разный смысл в двух логиках. То, что называют действием в системе С-мышления, приписывая действие некоему носителю (как атрибут приписывается субстанции), разворачивает целостность по схематике Рис. 1, а вовсе не по той схематике, что предполагается выбором действия на развилке существование/действие, не «по-бергсоновски». От привычки считать слова знаками, имеющими некое «значение», которое можно подсмотреть в словарях или почерпнуть из учёных определений, следует избавиться, если мы хотим удержать cogito нашего сознания в его целостности. Стоит научиться прослеживать весь целостностный путь, весь путь получения как будто бы готового значения из целостности, где оно на самом деле укоренено.
Итак, действие никуда не «помещается», потому что ничего, «куда» можно было бы «поместить» действие, нет: действие первично.
|
|
Теория |
63 |
(Точно так же первично существование в С-логике: оно никуда не «помещается», и только поэтому у Канта, заключающего весь чувственный опыт в априорные формы сознания, «вещь в себе» вынесена за эти пределы.) Блестящие подтверждения этого даны в опыте одной из «больших культур», арабо-мусульманской, развернувшей П-метафизику именно в этом ключе. Если не обращать внимания на то, что названный опыт арабо-мусульманской культуры и текст Бергсона разделяют десять веков, можно было бы сказать, что П-метафизика мутазилитов и суфиев стала экспериментальным подтверждением П-логики, открытой на кончике пера Анри Бергсоном.
Это первое. Второе: неметрический характер интуиции действия. Ведь растягивание действия не удлиняет и не умножает его; сколько бы ни тянулось действие, это — одно и то же действие. Собственно, это можно считать следствием первого: ведь если действие никуда не помещено, для него и не может быть меры. Его нечем измерить, поскольку нет ничего, что было бы более первичным, нежели оно. Наоборот, мы можем ожидать, что всё будет измеряться действием, но само оно ничем измеряться не будет.
В самом деле: действие нельзя измерить, увеличить или сократить, но его можно прервать, говорит Бергсон. «Остановка», если она «входит» в действие, делает из одного действия — два. Действие умножается арифметически. Натуральный счёт: один, два, три, — это умножение действий, вызываемое их остановкой. Действия умножаются (множатся), но при этом не подпадают под какое-то понятие, не оказываются частью какого-то объёма.
Когда Бергсон говорит: в действие входит остановка, — он, конечно же, использует неадекватный язык. В действие не может ничто «входить», потому что действие — не субстанция, а остановка — не акциденция, которая привходила бы в неё. Вот почему мы говорим, что действие может прерваться — но как? Ведь в самом по себе действии нет ничего, что можно было бы представить как прерывающее его. Более того, действие, как нам его представляет Бергсон, абсолютно: оно никуда не помещается, не происходит где-то и когда-то, над ним не властно ни пространство, ни время. Действие — это абсолютное протекание вне времени и пространства; откуда же взяться перерыву, остановке этого абсолютного действия? Вопрос — того же типа и того же порядка, что вопрос о принципе индивидуации субстанции: если отправляться от чистой абсолютной субстанции, невозможно рационально объяснить, как и почему она множится,
|
64 |
Глава 1 |
|
производя единичные субстанции, теряя свою абсолютность и совершенство. Рационально объяснить это не удалось ни неоплатоникам, ни Спинозе, ни кому-либо ещё. Не случайно Бергсон даже не ставит этого вопроса, обходясь неадекватным замечанием о «вхождении» остановки.
До этого бергсоновского понимания действия не дотягивается Гуссерль, хотя и говорит также о «протекании»:
О феномене протекания мы знаем, что это есть непрерывность постоянных изменений, образующая неразрывное единство, которое нельзя разделить на участки, которые могли бы существовать сами по себе, на точки в непрерывности [Гуссерль 1994: 30].
В этом пассаже из «Лекций по феноменологии внутреннего сознания времени» всё по-другому, всё не так, как у Бергсона. Пытаясь выразить протекание, Гуссерль говорит не о действии, а о времени; правильно приписывая протеканию неразрывность, он, тем не менее, говорит о выделении участков в протекании, пусть и абстрактном; даёт пространственную презентацию протекания и строит на этом свои диаграммы времени, получая одно из центральных понятий феноменологии «горизонт» [Там же: 31]. Можно было бы сказать и так: Гуссерль говорит об обыденном понимании протекания (или же понимании действия, процесса) в С-логике как изменения во времени, тогда как Бергсон поднимает действие (возможно, впервые в европейской мысли) до уровня метафизики и фактически задаёт пространство П-логики. Разница между гуссерлевским и бергсоновским пониманием протекания примерно та же, что между обыденным пониманием субстанции как вещества и метафизической трактовкой этой категории.
Растягивание бесконечной резины: что здесь, кроме самого действия, кроме растягивания? Нам не надо покидать пределы собственного сознания, покидать пределы cogito, чтобы ответить: кроме самого растягивания, непременно имеется тот, кто растягивает, и растягиваемая резина. Чистое действие не может мыслиться иначе, нежели как протекание между действующим и претерпевающим, между исходным концом и концом завершающим. Протекание непременно оконечено, иначе говоря, причём оконечено всегда и непременно с двух концов. Протекание — между ними; оно бесконечно не потому, что удлиняется; нет, никакого удлинения нет, хотя это удлинение и подсказывается нам так настойчиво образом растягиваемой, а значит, будто бы удлиняемой (чертящей линию в пространстве, говорит Бергсон) резины.
|
|
Теория |
65 |
Какая же остановка может прийти в протекание, совершающееся между началом и концом, в протекание, которое всегда оконечено? Будет ли это такая остановка, такое прерывание протекания, которое как будто остановит его в какой-то условной точке, где-нибудь «посередине» или ещё как-то, между двумя пределами, замыкающими протекание? Нет, этого невозможно представить. Невозможно потому, что у нас нет никакой метрики, вообще никакой меры, чтобы наметить нечто «посередине» или ещё где-то между двумя концами протекания. Протекание, наше абсолютное действие, или имеется, или не имеется; оно не может быть остановлено так, чтобы потом продолжиться с этой же точки. Вот что важно; потому Бергсон и говорит, что прерывание действия делает из него два действия, а не одно. Прерванное действие, иначе говоря, нельзя продолжить. Можно начать другое действие, но прерванное прервано навсегда. Принципиальная дискретность; натуральный счёт.
Действие либо прервано, либо ещё не прервано. Бинарная система, только два состояния; и оба они не требуют понятия времени. В арабском языке есть две формы глагола; как пишут в учебниках, одна обозначает настоящее и будущее время, другая — прошедшее. Выглядит странно, не правда ли? Ведь всем известно, что есть три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Как минимум. Можно усложнять картину времён, и есть языки, представляющие её куда более сложной; но допустимо ли упрощать? Вряд ли; но всё дело в том, что арабский язык и не упрощает систему времён. Он её вообще не отражает. Сӣбавайхи (ум. 796), один из двух основателей арабской языковедческой традиции, даёт адекватное объяснение, говоря, что глагол имеет две формы: одна — для действия, которое закончилось, другая — для действия, которое ещё не закончилось. Вот в чём дело: арабский глагол отражает не время, а только факт законченности или незаконченности действия. Бинарная оценка, точно соответствующая природе действия. Это значит, что арабский язык отражает интуицию действия как основополагающего, как исходной действительности, как выбора в пользу действия на развилке существование/действие. И только позже, после знакомства с греками, арабские грамматики начинают употреблять понятие времени при характеристике глагола: не адекватная в принципе система времён была частично воспринята арабской языковедческой традицией, хотя в целом та осталась вне влияния греческой грамматической теории.
|
66 |
Глава 1 |
|
Мы получили искомую презентацию целостности для основополагающего выбора действия на развилке существование/действие. Это — протекание между началом и концом, инициатором и завершителем. Протекание как действие принципиально неметрично, неизмеримо, — напротив, прерывание действия и его умножение даёт нам смыслы счёта и чисел. Кроме этого, мы используем смыслы действователя, действия и претерпевающего как необходимые, неизбежно открываемые и друг друга поддерживающие в этой процессуальной развёртке целостности. Неметричность протекания, которое — вне пространства и времени и само составляет первичную действительность, делает в принципе невозможным его пространственное отображение. Любое такое отображение, если его предпринять, окажется противоречивым.
Закон тождества, «А есть А», диалектики критиковали как пустую абстракцию. Отчасти это так: о чём сообщает нам эта тавтология? Если она и сообщает о чём-то, то лишь о том, от чего современная логическая мысль, следующая в русле математизации логики и логического атомизма, пытается поелику возможно отдалиться11: о той целостности, сколом которой (той самой «пустой абстракцией») служит эта формула, о том способе смыслополагания, который делает эту формулу возможной, о том типе связности, который ею предполагается. Да, как абстракция — эта формула пуста; но она не пуста потому, что осмысленна, а значит, встроена в разворачивание целостности. А кроме того, эта формула отражает (или, наоборот, в ней отражается) понимание «Я» в С-логике. Я есть Я: Я неизменно, Я таково, каково оно; оно — всегда тождественно себе и ничему не подвластно. Конечно, и такое Я — абстракция, но всё же — не пустая. «Я есть Я» сообщает нечто очень важное о факте моего самосознания: я всегда считаю себя тождественным себе, и эта самотождественность — важнейший
|
|
Теория |
67 |
стержень моей жизни, жизни моего сознания, и в качестве такового входит в естественную установку моего сознания.
Это утверждение будем считать универсально верным, пока не будет доказано обратное. Как представляется, эта черта вполне может оказаться общей для всех людей: самотождественность Я, постоянство самосознания как стержень нашей жизни.
А дальше? Дальше мы должны решить, как именно моё Я соотносится с другими Я и как самотождественность Я сочетается с не менее убедительным для меня разнообразием «меня» в моём повседневном общении и на протяжении моей жизни.
Если ведущим для меня способом осмысления мира и себя в нём стала С-логика, то тожество «А есть А» я буду стремиться распространить не только на «чистое» Я — ведь чистое Я невозможно, как мы говорили, — но и на любую представленность моего Я в некоем феноменальном «я». Другие люди для меня будут прежде всего осмысливаться как не‑Я; а поскольку (в соответствии с законом противоречия) «Я не есть не‑Я», другие не должны иметь касательства к автономии, самодостаточности, независимости не только моего Я как стержня самосознания, но и моего феноменального «я» — «я» как одной из бесчисленных, синхронных и диахронных, представленностей меня.
Например, я — врач. Я как врач есть врач: я сохраняю свою автономию и самотождественность. Благодаря чему? Только благодаря тому, что сохраняю все необходимые атрибуты врача (то, что Аристотель назвал бы субстанциальной формой врача: неотъемлемые свойства; Платон — идеей врача, а Гуссерль говорил бы о ноэме): знание медицины, нейтральное отношение к пациенту как к носителю болезни, максимизация положительного эффекта от врачебного вмешательства (или невмешательства), т.д. А пациент — также «есть пациент», сохраняет свою автономию. Пациент не есть врач, поскольку А не есть не‑А; это значит, что пациент не имеет права вмешиваться в те атрибуты, которые составляют субстанциальную форму врача и сохраняют его самотождественность: он не может претендовать на компетентность медика, участвовать в лечении и т.д. Врач действует (лечит) в отношении пациента, и это также осмысливается в стандартной С-логике: врач есть действующий, пациент есть подвергающийся воздействию, и эти их атрибуты (атрибуты «действовать» и «претерпевать воздействие» — классические аристотелевские) никак не меняют того, с чего мы начали: врач есть врач, пациент есть пациент, врач
|
68 |
Глава 1 |
|
не есть пациент. Только после этого, после такого самоутверждения того и другого в их субстанциальности и автономии они и могут начать: один — лечить, другой — быть излечиваемым (один — действовать, другой — подвергаться воздействию), всегда сохраняя верность закону противоречия «А не есть не-А», врач не есть пациент, субстанциально разделяющему их.
Но что же здесь неверного? Конечно, здесь нет ничего неверного; всё так и есть. Но только с одним добавлением: так данная (и любая другая) ситуация-в-мире осмысливается, только если мы следуем С-логике, если наше мышление натренировано культурными практиками на применение этого способа смыслополагания. Если мы привыкли сворачивать на путь существования на развилке существование/действие: тогда наше Я для нас — безусловно существующее, а значит — субстанциальное, а значит… и далее мы развернём всё то, что сказано выше.
А если на этой развилке мы свернём на путь действия? Если основополагающим для нас будет действие, а не существование? Если наше Я — всегда действующее, а не существующее? Если оно таково, каким его описывал Бергсон?
И в этом нет ничего, что противоречило бы естественной установке сознания, здравому смыслу и ежедневному опыту любого из нас. Ведь все мы ежедневно действуем и взаимодействуем с другими людьми и с миром, и в этих взаимодействиях мы всё время поворачиваемся то одной, то другой стороной, представая то врачом, то — пациентом, то — ведущим, то — ведомым. Что если эти действия и составляют основу действительности, самый её, так сказать, субстрат, — а вовсе не моя субстанциальность, замкнутость в рамках самотождественности, существование по принципу «А есть А»?
Тогда я уже не смогу сказать, что высказывания «Я не есть не-Я», врач не есть пациент, выражают истину действительности. Вот в чём дело: это, может быть, и так, и даже более того: конечно, врач — не то же самое, что пациент. Кто же с этим спорит? Но всё дело в том, что этим ничего не сказано о том, как на самом деле устроен мир, как устроено моё Я и почему возможны мои многочисленные феноменальные «я». Вот главное: этим высказыванием, при всей его неоспоримости, мы ничего не сказали!
Почему? Потому что действительность — это протекание действия между двумя, а об этом ничего не сказано. Действительность — действие облегчение от врача, зеркально противоположное
|
|
Теория |
69 |
страданию пациента от болезни, и параллельное (не одновременное, процесс не «во времени») действие прекращение от врача. Прекращение зеркально противоположно направленному на врача течению болезни, которая параллельно действует на пациента страданием.
Эмпирически фиксируется процесс — страдание. Человек — претерпевающее. А кто действующее? Когда человек предполагает, что действующее — болезнь, он обращается к врачу. Но врач ведь сам не страдает. Как врач может установить связь со страданием больного? Врач, обследуя больного, ищет течение. Течение — процесс, которым болезнь показывает себя врачу. Можно сказать, что врач и пациент связаны через «одну и ту же» болезнь разными процессами. Не совсем точно, что здесь «одна и та же» болезнь, поскольку она выводится из разных процессов. Но эмпирически это не очень важно. Врач видит течение, больной ощущает страдание. При самом благоприятном ходе процессов запускаются зеркальные процессы прекращения (течения болезни) и облегчения (страдания пациента), в которых врач — действующее.
При менее благоприятном ходе процессов врач может увидеть течение, действующим которого окажется не то действующее, от которого страдает пациент. Тогда зеркальное прекращение, направленное от врача к болезни, течение которой увидел врач, не поможет — не запустится облегчение (страдания). И врач начнёт смотреть заново. Других способов проверить себя у врача нет. Только прекращение болезни может подтвердить усмотрение врачом её течения.
При неблагоприятном ходе процессов врач может не увидеть течения. Тогда ему остаётся противодействовать страданию. Останется неизвестным — ни врачу, ни пациенту, — от чего страдает пациент. Говоря языком современной медицины, болезнь диагностировать не удалось. Но само страдание как процесс для пациента несомненно. И врач может облегчать страдание пациента напрямую. Так действуют анестезиологи-реаниматологи. Для них не так важно, чем вызвано, как возникло и протекало страдание (например, боль). Причиной боли может быть и травма, и хроническое заболевание, и хирургическая операция. Но шок — возможный результат острой боли — опасен сам по себе, вне зависимости от источника боли как страдания. Анестезиологу-реаниматологу достаточно облегчить страдание (провести обезболивание). Поиском причин и выяснением механизмов боли также будет необходимо заняться, но позже. Другой
|
70 |
Глава 1 |
|
возможный неблагоприятный ход процессов: со стороны врача не запускается процесс прекращения (течения болезни). Тактика ведения пациента может быть формально правильной (рекомендуемой) или даже обязательной с точки зрения медицинской науки, но медицинская наука, к сожалению, не гарантирует того, что тактика сработает во всех случаях.
Врач может облегчать страдание пациента параллельно прекращению течения болезни; врач может облегчать страдание пациента, не прекращая течения болезни; врач может даже прекращать течение болезни, не облегчая страдания пациента… Картина несколько усложняется, открывая новые возможности, как будет показано далее. Болезнь — уже не предикат пациента («этот человек — больной» = «это пациент»), а действователь не менее чем двух процессов: течение (направлен на врача) и страдание (направлен на пациента). Широко известная рекомендация «лечить не болезнь, а больного» при П-осмыслении не верна. Врачу следует попытаться «лечить и болезнь, и больного»: параллельно прекращать течение болезни и облегчать страдание больного. Пациент — «не вполне пациент» (лат. patiens, от pati — страдать, терпеть), он действует: принимает или отвергает облегчение страдания, сопротивляется или поддаётся страданию. И врач — «не вполне врач», он характеризуется не профессиональной компетентностью (которая «никуда не исчезает» для С-логики), а совершаемыми действиями. Врач может не увидеть течения болезни («сложности диагностики» в С-логике). Тогда врач не сможет лечить и болезнь, и больного («патогенетическое и симптоматическое лечение» в С-логике), но лечить больного врач всё-таки сможет («симптоматическое лечение» в С-логике). Конечно, должны быть врач и пациент, конечно, врач — не пациент; все эти великие истины С-логики здесь тривиальны, составляют лишь условие истины. А истина — в том, что любые двое в треугольнике врач-пациент-болезнь должны быть связаны протеканием действия.
 |

|
Что сообщает нам логика? В чём смысл логики? Когда-то, до математизации и превращения логики в искусство логического исчисления, на этот вопрос отвечали так: смысл логики в том, чтобы отделить истинные высказывания от ложных, чтобы показать, как именно
|
|
Теория |
71 |
из одних истинных высказываний можно получить другие истинные высказывания, не ошибаясь и не выдавая ложное за истинное. Это общее средневековое, а затем и нововременное понимание логики постепенно размывалось её пониманием как искусства всеобщего исчисления. Попытки создания математической логики обычно возводятся к Лейбницу, а в XX веке логику стали понимать как сугубо формальное искусство.
Конечно, Аристотель говорит об истинных и ложных высказываниях. Но ведь не только. Когда мне доказывают, что телега выходит из моего рта потому, что я произношу слово «телега», а всё, что я произношу, выходит из моего рта, то этот совершенный силлогизм, несмотря на его формальное совершенство, должен быть признан ложным. Почему? Любой логик ответит: потому что он нарушает закон тождества «А есть А». «Телега», о которой говорится в выводе — это не та же самая «телега», которая фигурирует в посылке. В выводе говорится о настоящей телеге, а в посылке — о слове «телега». Если бы и в выводе мы говорили о слове «телега», он был бы правильным.
Это так. Но значит ли это, что любой «человек с улицы», не слышавший об Аристотеле и законе тождества, не сможет опознать этот вывод как неправильный, как такой, который нужно отвергнуть? Должен ли «человек с улицы» сесть за парту и узнать, что такое закон тождества, чтобы отвергнуть этот софизм? Нет, конечно; думать так — совершенная нелепица. Но почему и как любой из нас узнаёт, что вывод неправильный, что в этом рассуждении что-то не так? Конечно, любой почувствует, что с выводом что-то не в порядке, представив, как изо рта выезжает телега. Так просто не может быть; значит, что-то неверно в этом доказательстве. Но только ли в этом дело? Не присоединяется ли к явному, так сказать, телесному ощущению нелепости выезжающей из моего рта телеги ещё и другое ощущение — ощущение разорванности, нарушенной связности? Ощущение того, что «не строится» силлогизм, «не связывается» одно с другим в этом рассуждении? Нарушенная связность — не ощущается ли и она нами, когда мы говорим, что такой вывод невозможен? Не ощущаем ли мы, что не можем положить это рассуждение на схематику Рис. 6 — ведь именно этот рисунок отражает связность правильного силлогизма данного модуса?
Возьмём другой известный пример: всё, что ты не терял, ты имеешь; ты не терял рога, значит, у тебя на голове растут рога. Здесь то
|
72 |
Глава 1 |
|
же ощущение фактической нелепицы: любой знает, что на голове у него никакие рога не растут. Почему же этот вывод выглядит правильным, несмотря на его фактическую невозможность? Только потому, что он скроен по схематике Рис. 3, а эта схематика опознаётся нами как подлинная, правильная, связная. «Терять» и «иметь» представляются как два дихотомических вида одного рода «всё» или «все вещи». Если это так, то и вывод будет правильным. Чтобы понять, что вывод неверный, надо осознать, что неверна презумпция того, что «терять» и «иметь» — дихотомические виды рода «всё». Это действительно не так, поскольку среди множества «всего» есть и такие вещи, которых я никогда не имел, а значит, и не терял. На самом деле род «всё» делится на вид «все вещи, которые я имел» и «все вещи, которых я не имел», и уже первый из видов должен быть разделён, в свою очередь, на два: «все вещи, которые я имел и потерял» и «все вещи, которые я имел и не потерял (т.е. имею до сих пор)». Вот теперь всё правильно: рога относятся к виду «все вещи, которых я не имел», а значит, и не мог потерять. Софизм разъяснён; но как разъяснение его ошибочности, так и софистическая сила убеждения в правильности вывода стоят исключительно на том типе связности, который отображен на Рис. 3. Только потому мы находимся под столь сильным впечатлением неотразимой истинности явно нелепого вывода, что посылки этого силлогизма составлены так, что запускают, помимо нашего желания, в нашем сознании схематику Рис. 3, которая заставляет считать вывод истинным.
Кроме всего прочего, это означает, что софизм будет работать только в той среде, которая приучена господствующими культурными практиками к когнитивным операциям, основанным на соотнесении объемов понятий, причём навык этот натренирован до автоматизма, так что С-логика применяется сама собою при осмыслении высказываний и рассуждений. Это утверждение может быть проверено экспериментально, если ещё остались анклавы, не затронутые глобальным европейским образованием. Близкими к этому следует считать наблюдения А.Р. Лурии в среде, полностью выключенной из ареала европейского образования и в целом — европейских культурных практик (см.: [Лурия 1974: 41‒44]). Женщины ичкари не могли провести ожидаемые от них операции классификации цветов. Экспериментатор естественно ожидал, что цвета будут классифицированы по схематике Рис. 3, с подведением под некие общие понятия того или иного цвета, как если бы мотки ниток помещались в соответствующие ящички или
|
|
Теория |
73 |
коробки. Однако опрашиваемые не только не собирались так поступать, но и когда им объяснили, чего от них ждут, однозначно признали такую классификацию нелепой. К сожалению, Лурия исходил из сугубо европоцентристской установки, считая С-логику единственно возможной и правильной12. Мы не знаем, как именно эти женщины объясняли свою классификацию цветов, какой была для них цветовая палитра и почему они группировали мотки ниток именно так, как им казалось правильным. Но мы знаем, во-первых, что в отношении них герменевтические ожидания экспериментаторов никак не оправдались, и, во-вторых, что даже небольшая «доза» европейских культурных практик в виде года-двух школьного обучения уже запускала схематику Рис. 3 в сознании испытуемых.
Итак, дело в связности: благодаря тому, что мы способны опознавать («ощущать») связность, поскольку наше сознание способно разворачивать целостность по схематике Рис. 1‒6, мы считаем очевидной истинность правильного силлогизма (который потому и правилен, что воплощает связность) и опознаём бессмысленность как нарушение связности.
Если это установлено, то ключевой вопрос, который мы должны теперь поставить, звучит так: возможна ли другая связность? — связность иного типа, нежели тот, схематизм которого отображён на Рис. 1‒6?
|
74 |
Глава 1 |
|
Петя дружит с Машей только потому, что Маша рассказывает интересные истории. Коля рассказывает интересные истории, значит, Петя подружится с Колей. Являются ли это умозаключение доказательством?
С одной стороны, его нельзя осмыслить по схематике Рис. 1‒6. Это очевидно, поскольку здесь нет общих утверждений, под которые подводились бы единичные случаи. Субъект-предикатные склейки устроены здесь иначе — вот в чём дело. «Что» и «какое», о которых идёт речь в этих рассуждениях, — это не субстанции, не сущности, обладающие атрибутами. Кто такой Петя, который дружит с Машей? Если мы скажем: высказывание «Петя дружит с Машей» означает «Петя есть дружащий с Машей», мы осмыслим эти слова по схематике Рис. 3. Но тогда рассуждение не свяжется, оно не будет доказательным. Ведь С-логика требует доказательности как связности по схематике Рис. 6, а наше рассуждение о дружбе трёх людей и интересных рассказах не позволяет так выстроить связное рассуждение. Чтобы соблюсти требования схематики Рис. 6, нам придётся ввести общее утверждение, например, такое: «Петя дружит со всеми, кто рассказывает интересные истории, Коля рассказывает интересные истории, значит, Петя подружится с Колей». Только такое общее утверждение даёт возможность запустить схематику связности по требованиям С-логики. Однако в нашем распоряжении в данном случае нет никакого общего утверждения. В этом всё дело: рассуждение построено связно и доказательно, но эта связность обеспечена не соотнесением объёмов. Тогда чем же?
Петя дружит с Машей. Между Петей и Машей протекает действие «дружба», связывающее их. Если мы так осмысливаем это предложение (предложение «Петя дружит с Машей»), то нам нет нужды в схематике Рис. 4. Петя и Маша связаны постольку, поскольку между ними протекает действие «дружить». Петя таков, что он связан действием «дружить» с Машей; Маша такова, что она связана действием «дружить» с Петей. «Что» и «какое» в нашем случае — это не атомарный субъект (индивид), конституированный своими, и только своими, свойствами. Так обычно понимается человек в пространстве С-логики; но достигается ли этим подлинная личность? Именно европейская культура гордится тем, что достигла — по её мнению, только и исключительно она — подлинного понимания личности как автономной, ни от кого и ни от чего не зависящей, самодовлеющей и раскрывающей себя в свободном творчестве. При всей
|
|
Теория |
75 |
понятной утопичности и идеологичности подобных притязаний — так ли это сугубо логически? Если «Петя есть дружащий с Машей», то в чём тут индивидуальность Пети? Таких «дружащих с Машей» может быть сколько угодно, и этот атрибут никак не составляет особости и неповторимости Пети. Но то же самое будет сказано о любом атрибуте, который приписывается Пете в С-логике! И уж тем более — о субстанциальной форме: атрибуты «разумный» и «живой» и вовсе приписываются каждому человеку, именно потому, что он — человек.
Где же в С-логике возможность подлинного самодовления, самоопределения, собственного пространства личности? Похоже, что логически — его нет: любое пространство любого атрибута непременно будет разделяемо мною с другими субъектами, за исключением разве что положения в пространстве, занимаемого моим телом; но так ли достигается самодовление? Неповторимость и особость личности в С-культуре — идеологический штамп, нечто вроде речёвки, никак не подкреплённой логикой.
А если Петю связывает с Машей процесс дружбы? Тогда, похоже, Петя и Маша действительно — только эти Петя и Маша, они действительно неповторимы. Процесс дружбы — повтори́м, и он может связывать и других действователей и претерпевающих. Но каждый конкретный случай такой связанности — только этот и только особый случай, он никогда не типизируется по действователям и претерпевающим. Каждый действователь — этот, и только этот действователь; и каждый, кто претерпевает воздействие, — это, и только это конкретное лицо. П-логика не требует типизации индивидов — в этом её принципиальное отличие от С-логики, которая исключительно на этой операции типизации и основывается.
Типизируются ли процессы? Есть соблазн ответить положительно, исходя из того, что называемое одним словом принадлежит одному классу, поскольку иначе невозможно оправдать общность слова. Но так ли это; действительно ли разные «штуки», разные экземпляры процессов (мы помним, что процессы не измеряются, а считаются штуками — см. с. 63) называются одинаково? Имеем ли мы много одинаковых экземпляров процесса «дружба» — или же каждый такой экземпляр уникален, поскольку связывает этих, и только этих, двух дружащих? Скорее всего, верно второе, и мы имеем дело с «дружбой Пети с Машей», так что «дружба Артура с Региной» будет «слегка другой» дружбой. И именно поэтому процессы
|
76 |
Глава 1 |
|
различаются арифметически. Безусловно важным следствием этого является то, что аподиктичность П-силлогизма (мы вскоре об этом поговорим) задаётся как установление одно-штучности процесса, когда мы можем сказать, что процесс — арифметически один и тот же, а не подпаданием данного процесса под класс носителей неких общих свойств (см. ниже, с. 79). Вероятно, это имеет значение для понимания тех трудностей, с которыми сталкивается попытка прогнозировать процессы на основе общих свойств, или же трудности С-этики, исходящей из императива типизации действий и универсализации субъекта. П-логика предполагает и предлагает в принципе другой подход, который может решить проблемы, остающиеся неразрешимыми в перспективе С-логики.
Мы получили крайне интересный результат. Логически индивид в С-логике — всегда «винтик», всегда «пешка», всегда — представитель класса. И разве не несут на себе любые европейские социальные теории, будь то марксизм, веберианство или что-то ещё, неизгладимый отпечаток С-логики, рассматривая индивида как представителя класса (социальной группы, страты, т.д.)? Как ни старайся, этот отпечаток не исчезнет. Не исчезнет просто потому, что он — не следствие, а основание любых шагов смыслополагания. Разве политические теории, вплоть до идеологически развёрнутых теорий представительной демократии, не несут на себе всё тот же неизгладимый отпечаток человека-винтика? А как же иначе, если мнением меньшинства не только можно, но и нужно пренебречь, не принять его во внимание, списать со счетов в общем балансе интересов? А вот в П-логике действователь не типизируем, действователь — всегда этот, и только этот, действователь. Так же, как и вторая сторона процесса — претерпевающее (сторона, принимающая воздействие). В культуре, которая разворачивает себя на основе П-логики, устройство общества, политика, этика будут следовать этому логико-смысловому императиву нестираемой уникальности любого действователя. Крайне интересно будет рассмотреть с этой точки зрения и исламскую этику, и устройство фикха (мышление цепочками действий, а не классами ситуаций), и политические теории (ал‑Ма̄вардӣ и др.), и социальную теорию Ибн Х̱алдӯна.
Мы видели на примере С-логики, что доказательство можно рассматривать как расширение связности: Рис. 6 — это как будто ещё один шаг наращивания связности, отражённой на Рис. 4, ещё один условный шаг разворачивания целостности. Если то же самое имеет
|
|
Теория |
77 |
место в П-логике, то и здесь доказательство — это наращивание, расширение того типа связности, который характерен для этой логики. П-связность — это связность действователя и претерпевающего. Этот тип связности зафиксирован в посылках: Петя связан с Машей действием «дружить», Маша связана с историями действием «рассказывать». Маша играет роль второй, претерпевающей стороны процесса в первой посылке (процесса «дружить») и роль активной, действующей стороны процесса во второй посылке (процесса «рассказывать»). Представим, что эти два процесса, дружить и рассказывать, благодаря этому общему звену (претерпевающее первого — то же, что действующее второго) превращаются как будто в один процесс. Тогда получается так: Петя дружит-с-рассказыванием историй. Если процессы «Петя дружит с Машей» и «Маша рассказывает интересные истории» каждый представить как условное протекание от одной точки к другой (притом что мы не имеем в виду метрические свойства такого представления), то совпадение конечной точки первого процесса и начальной точки второго позволяет протеканию безболезненно продолжиться: два процесса как будто сливаются в один. Происходит нечто противоположное тому, что Бергсон назвал вхождением остановки в действие. Мы говорили, что речь на самом деле — о прерывании одного действия и о запуске другого. Как именно это возможно, Бергсон не говорит. В данном же случае мы имеем дело с чем-то противоположным — с ликвидацией прерывания действия. Два протекания сливаются в одно.
Однако условная точка завершения первого процесса и инициации второго, точка, в которой два протекания склеиваются в одно, может стать другой. Если интересные истории рассказывает не Маша, а Коля, то наш «продолженный», как будто слившийся в одну линию процесс «дружить-с-рассказыванием» будет тем же самым, одним процессом — он не изменится.
Теперь, если нам понятна суть дела: понятно, почему и как П-доказательство оказывается строгим, не опираясь на подведение под общие свойства (т.е. избегая схематики Рис. 1‒6), поскольку строится на П-типе субъект-предикатной связности и выступает как расширение этой связности, — после этого можно сделать шаг в сторону, по направлению к знаковой теории, и обозначить произвольными значками отдельные шаги нашего П-доказательства. Теперь это не повредит нам, поскольку мы можем проследить шаги смыслополагания до их истока — до целостности и её разворачивания в форме П-логики
|
78 |
Глава 1 |
|
и так наполнить смыслом произвольные (и потому бессмысленные) значки.
Вот запись сказанного в знаковой форме. Пусть действователь А связан процессом П1 с претерпевающим Б в силу того, что Б, выступая как действователь, связан процессом П2 с претерпевающим В, и при этом действователь Г связан процессом П2 с претерпевающим В. Тогда действователь А будет связан процессом П1 с претерпевающим Г. В ещё более формальной записи:
|
|
А =(П1)=> Б |
|
|
в силу того, что |
Б =(П2)=> В |
|
|
и |
Г =(П2)=> В |
|
|
следовательно |
А =(П1)=> Г |
|
Можно попробовать подставить любые значения действующего, претерпевающего и процесса в эту формальную запись: мы будем всегда получать истинное следование. Это означает, что процессуальная логика является логикой в полном смысле этого слова: разрабатывая исходную интуицию протекания, она даёт истинное знание о мире — но не знание о том, «что есть» (задача субстанциально-атрибутивной логики Аристотеля), а знание о том, «какие процессы протекают»13.
Расширение П-связности можно отразить в этой знаковой записи таким образом:
А =(П1)=> Б/Б =(П2)=> В
Запись Б/Б означает совпадение претерпевающего первого процесса и действователя второго. Мы должны ясно понимать, что это — не то совпадение, которое фиксируется законом тождества «А есть А». Как раз этот-то закон тождества здесь не выполняется, и если бы мы были скованы правилами С-логики, то не смогли бы построить П-доказательство, поскольку «сочленение» Б/Б оказалось бы невозможным.
|
|
Теория |
79 |
Мы можем записать так:
А =(П1)=> [Б/Б] =(П2)=> В
Если запись [Б/Б] обозначает условное взятие в скобки сочленения завершения первого процесса и начала второго, то процессы П1 и П2 текут как один процесс:
А =(П1=[Б/Б]=П2)=> В,
или, более наглядно:
А =(П1П2)=> В
В записи А =(П1=[Б/Б]=П2)=> В вместо [Б/Б] может стоять [Г/Г], это не меняет дела, поскольку протекание А =(П1П2)=> В будет правильным. Оно будет правильным в том смысле, что это будет один процесс — одна «штука» (см. с. 63) процесса, один и тот же экземпляр процесса: процессы не типизируются (см. с. 75), поэтому П-доказательство зиждется не на подведении под некие «общие свойства» процесса, а на установлении того, что обсуждаемый процесс — ровно тот же, что исходный, о котором мы знаем. А это устанавливается одинаковостью действователя и претерпевающего, на что и направлен П-силлогизм. Иначе говоря, процесс А =(П1П2)=> В всегда будет одним и тем же процессом в силу того, что он протекает между теми же самыми действователем и претерпевающим. На этом сугубо арифметическом единстве-единичности процесса и основана доказательная сила П-силлогизма. Его суть сводится к тому, что две (или более — сколько угодно) цепочки пар процессов оказываются одним и тем же процессом. Здесь нет и не может быть подведения под класс, здесь не нужны общие высказывания. Именно в силу этих целостных различий С- и П-логик факихи, открывшие П-силлогизм, работали над его изобретением, отказавшись от использования готового С-силлогизма (подробнее см.: [ВФ 2019]).
Таково знаковое отображение доказательства в П-логике. Это доказательство построено аналогично тому С-силлогизму, который принято обозначать как модус Barbara. «Аналогично» значит — как прохождение тех же шагов расширения связности, но в П-логике. Ведь и С-, и П-логика, притом что они несовместимы как таковые и их нельзя описать средствами друг друга, обе представляют собой не что иное, как разворачивание целостности в формах субъект-предикатной связности, а значит, могут быть через это «запараллелены».
 |

|
|
80 |
Глава 1 |
|
С- и П-логики, взятые как таковые, чисто теоретически, равно обоснованы и равно понятны для любого человека, поскольку и та, и другая — разворачивание cogito, составляющего жизнь человеческого сознания. Однако наше сознание никогда не пребывает в таком «чистом», сугубо теоретически моделируемом состоянии. Мы всегда включены во всю систему культурных практик, без которых нет общества и нет человека. Наше индивидуальное сознание, поскольку оно всегда — cogito, а значит, всегда «подключено» к целостности, способно признать верность П-доказательства и применить его в собственных рассуждениях. Но поскольку та система культурных практик, в которую любое индивидуальное сознание всегда включено, отбирает лишь одну из возможных логик смысла в качестве стержневой, мы всегда более или менее склонны без раздумий, как будто автоматически применять господствующую логику в качестве «очевидной». Та «очевидность», на которой столь долго строили европейскую философию, является на деле лишь очевидностью С-логики, очевидностью в рамках её презумпций. Европейская философия всегда притязала на антидогматичность, свободу разума и рефлективность. Если она готова остаться на высоте собственных притязаний, ей предстоит сделать самое трудное: осознать свою обусловленность, а значит, и ограниченность презумпциями С-логики — всей системой «очевидностей», вытекающих из основополагающего выбора в пользу существования на развилке существование/действие. Случится ли это? Посмотрим.
П-логика — это логика смыслополагания, разворачивающая себя при выборе в пользу действия на развилке существование/действие. Это значит, если говорить просто, что осмысленно то, что включено в процессуальность. Стремление увидеть всё как действие, или, скорее, как систему действий, характерно для умонастроения культуры, которая разворачивает П-логику в качестве стержневой. Конечно, мы здесь не собираемся предпринимать сколько-нибудь полное или системное описание арабской культуры как разворачивающей П-логику, оставляя это для другого, более подходящего момента. Мы остановимся только на двух моментах, которые можно считать имеющими более тесное, нежели прочие, отношение к вопросам, которые обсуждаются в этой книге. Это — логика понимания справедливости и логика оценки человеческих поступков. Эти два момента отсылают нас к сферам права и этики.
|
|
Теория |
81 |
При всём разнообразии теорий справедливости, развитых европейской и североамериканской мыслью, их объединяет то, что все они стремятся обосновать равенство людей. Понятно, что всегда приходится брать в скобки необходимое и неустранимое неравенство, что средневековое религиозное понимание справедливости и нововременное эгалитарное будут существенно различаться с точки зрения того, что именно берётся в скобки. Понятно, что понимание справедливости как распределительного равенства и как равенства возможностей существенно различается. И так далее. Что не различается в пространстве С-культуры, так это логико-смысловое основание всех различных толкований справедливости. Оно оказывается настолько глубоким, что обычно и не проговаривается, однако легко опознаётся: речь идёт о равенстве субъектов-индивидов по тому или иному атрибуту, который в данной теории справедливости считается значимым. Иначе говоря, в любом случае речь идёт о справедливости как равном попадании субъектов в тот или иной «отсек», как это предполагается схематикой Рис. 3‒6.
Если право — это система, обеспечивающая справедливость общественного порядка, то понятно, что право в С-культуре будет основано именно на таком понимании человека как индивида, как автономной личности, и будет так регулировать отношения любого человека с обществом, его подсистемами и другими людьми, чтобы принцип равенства в его конкретном С-толковании соблюдался максимально эффективно. В самой общей формулировке этот принцип можно считать выраженным в известном требовании решать одни и те же случаи одинаковым образом. Разнообразие систем европейского права связано не в последнюю очередь с тем, что именно трактуется как «одни и те же» случаи и что означает «решать одинаково», однако сам принцип правопорядка не ставится под сомнение, скорее, наоборот, считается основополагающим.
Мы не можем не испытать некоторой растерянности, когда обнаруживаем, что именно это основополагающее требование не является таковым в системе исламского права. Это вытекает из того, что множественность школ права на протяжении всей истории арабо-мусульманской цивилизации не считалась чем-то неправильным или подлежащим устранению. Множественность школ — исторический факт; но если в классический период они всё же спорили друг с другом, отстаивая каждая собственные позиции как истинные, то в постклассический период, с так называемым закрытием врат иджтихада,
|
82 |
Глава 1 |
|
господствующие четыре суннитские школы права были сочтены равноправными, они признали правильность решений, выносимых представителями друг друга, и должны были прекратить споры между собой. О том, что ничего не изменилось с тех пор, свидетельствует, пусть и с несколько неожиданной стороны, тот факт, что «Движение за сближение мазхабов», т.е. школ исламского права, существует и сегодня, а значит, вопрос о «сближении» по-прежнему актуален. (Особый же аспект этого вопроса состоит в том, что движение это развёрнуто не суннитами, а шиитами; но мы не будем на этом останавливаться здесь.) Точно так же историческим фактом является то, что кодификация исламского права не только не была проведена на всём протяжении исламской истории, но и сама эта идея была отвергнута тогда, когда была предложена.
Всё это означает не просто то, что один и тот же случай может решаться, и действительно решается, по-разному в разных школах исламского права, но и то, что исламское право никогда не считало это недостатком или изъяном, причём не потому, что не замечало этого, а потому, что сознательно противилось попытке устроить себя именно на этом основании.
Значит ли это, что исламское право не является правом в полном смысле слова, поскольку не обеспечивает правопорядок в обществе, ибо не выполняет требование равенства перед законом? Нет, конечно. Это означает, что исламское право устроено по другой логике, и правопорядок понимается здесь иначе, нежели в пространстве С-культуры.
Как же именно? Если П-логика предполагает обеспечение связности как протекания между истоком и результатом, то мы можем ожидать, что в П-культуре право должно обеспечивать правильность соблюдения именно этого, а не какого-то иного, требования. Тогда право должно обеспечивать протекание от истока к результату, но это совершенно не означает, что результаты должны быть между собой согласованы. Это метафизически сформулированное требование звучит на языке права примерно так: конкретная норма права, если она не является «основой» (’ас̣л), должна правильно соотноситься с основой как «ветвь» (фар‘), и тогда применение такой «ответвлённой» нормы будет столь же правильным, как применение «основной» (входящей в число «основ») нормы. Ещё проще: это будет означать, что суждение выносит как будто сам Законодатель. От этого «как будто», правда, никогда нельзя избавиться, и именно это объясняет,
|
|
Теория |
83 |
почему решения факихов имеют статус мнения (з̣анн), а не уверенности (йак̣ӣн): даже если «ветвление» произведено логически безупречно, всегда остаётся вероятность того, что «Бог решил бы иначе» в силу неограниченности его могущества и абсолютности его воли. Но как бы то ни было, исламское право стремится выстроить правопорядок так, как если бы поступки человека всякий раз оценивал сам Законодатель. Школы исламского права различаются по тому, как именно они достигают этой цели, как именно «ветвят» основы и как получают из них нормы-ветви. Различие и даже противоречие «ветвей» в разных школах права (но не внутри одной школы) не является дефектом постольку, поскольку для каждой из ветвей доказана правильность её возведения к основе.
Если правопорядок в С-логике можно уподобить чему-то вроде стены, сложенной из блоков или кирпичей, где границы каждого блока чётко определены, то правопорядок в П-логике скорее следует уподобить кусту, растущему из одного корня, или же дереву с раскидистой кроной, или же фейерверку, искры которого разлетаются в разные стороны. Было бы нелепо требовать, чтобы каждая искорка фейерверка укладывалась в некое чётко отведённое для неё пространство: зелёные — здесь, синие — там, а жёлтые — только тут. Ветви дерева совершенно не должны быть скоординированы друг с другом, они могут расти куда угодно, вплоть до противоположности. Однако непременным требованием и для искр каждой петарды фейерверка, и для каждой ветви дерева будет сохранять связанность со своим истоком. Но ведь именно это требование и выполняется в исламском праве, именно оно и обеспечено в каждой из его школ, именно на его соблюдение и направлены усилия факихов (исламских юристов)! Европейские востоковеды отмечали «удручающую казуистичность» исламского права, имея в виду, что оно не подводит единичные случаи под иерархию общих норм и требований. Однако такое подведение означало бы соблюдение правил и требований С-логики, тогда как исламское право связано правилами и требованиями П-логики. А их-то оно как раз скрупулёзно соблюдает, всякий раз отслеживая, самым внимательным образом, как «ветвь» (фар‘) связана с основой (’ас̣л). Вся техника фикха (исламской юриспруденции) нацелена именно на это. И именно забвение этой необходимой и единственно животворной связи стало, по мнению известного исламского реформатора Мухаммада Абдо, причиной застоя в исламском праве, именно в этом заключалась суть т.н. традиционализма
|
84 |
Глава 1 |
|
(так̣лӣд), и именно на преодоление этого недостатка были направлены усилия Абдо по реанимации исламского права и возвращению его способности обустраивать жизнь исламского общества в современных условиях.
Скажем в завершение несколько слов о системе оценок поступка в исламском праве и этике. В общем и целом, право и этика пользуются общей системой оценок поступка, хотя и в том, и в другом случае есть свои особенности. Но сейчас речь об основополагающей пятичленной системе оценок поступка, которая в равной степени используется и в нравственных, и в юридических рассуждениях. Она состоит из пяти разделов: «обязательное» (ва̄джиб, фард̣), «рекомендуемое» (мандӯб, сунна), «свободно исполняемое» (муба̄х̣), «нерекомендуемое» (макрӯх), «запретное» (мах̣з̣ӯр, х̣ара̄м). Эта система оценок универсальна: любой поступок непременно получает одну из пяти оценок; в этом смысле правильно замечание тех, кто отмечает тоталитарный характер исламского права, хотя такие авторы обычно упускают из виду, что в системе оценок есть «свободно исполняемые», т.е. никак не регулируемые правом, поступки, которые человек может совершать так или сяк или вовсе не совершать; такие поступки европейская мысль назвала бы, скорее всего, областью свободы.
Но дело не в этом. Вопрос в другом: что значит оценить поступок? Что значит присвоить поступку ту или иную квалификацию? Исламская мысль оценивает именно поступки, а не предметы как таковые. Это — хорошо известное и много раз повторенное положение исламского права. Например, если чеснок относится к нерекомендуемому, то — не он как таковой, не растение «чеснок», а запах чеснока, исходящий от человека, т.е. некое его воздействие на окружающих. Если запретна женщина, с которой нет и не может быть правильных брачных отношений, то не она как таковая, а половые отношения с ней, т.е. опять-таки определённые действия. Если молитва обязательна, то — не она как таковая, не слова и движения тела сакральны и обязательны, а поступок молящегося человека, приближающий его к Богу. Таким образом, исламское право оценивает всегда не сами предметы и не самого человека, а только и именно поступки человека в отношении предметов, других людей или Бога. Что такая установка точно соответствует требованиям П-логики, доказывать не приходится.
Но есть и ещё одна сторона. Что значит «дать оценку поступку»? Окажется ли в таком случае поступок чем-то вроде субъекта — носителя предиката «запретный», «обязательный», т.д.? Будет ли
|
|
Теория |
85 |
оценивание совершаться как предицирование по правилам С-логики, с образованием соответствующих субъект-предикатных склеек?
Предположим, что это так. В таком случае мы должны применить схематику Рис. 3 для того, чтобы построить правильное древо оценок, нечто вроде Боэциева древа, которое бы правильно ветвилось и которое могло бы быть представлено в виде иерархического графа.
Чтобы охватить все пять типов оценки, сохраняя принцип деления без остатка, мы должны сперва разделить все поступки на оцениваемые (4 категории) и неоцениваемые, т.е. «свободно исполняемые» (муба̄х̣). Далее, оцениваемые Законом поступки мы должны будем разделить прежде всего на «положительные» и «отрицательные». Можно даже считать, что термины х̣асана «хороший поступок» и саййи’а «плохой поступок», которые были в широком ходу, отражают именно такое деление. Далее, хорошие поступки мы разделим на обязательные и поощряемые, а плохие — на строго запретные и нерекомендуемые. Теперь деление без остатка исходного объёма «поступок» завершено и предикация по С-схематике должна быть правильной: любой поступок попадёт в один, и только один, из сформированных нами отсеков исходного объёма.
Однако у нашего деления есть ещё одна сторона, которую невозможно упускать из виду. Оценивание поступков — не самоцель, оно нужно только для того, чтобы определить, что ждёт человека на последнем Суде и какой будет его участь. Хорошие поступки поощряются, плохие — наказываются. Хороший поступок, который не получает поощрения, и плохой поступок, за которым не следует наказания, — это противоречие в определении, тем более что Бог, как хорошо известно, знает все поступки человека и ни один из них не останется без внимания.
Но если это так, то предикаты «хороший» и «поощряемый», «плохой» и «наказываемый» должны быть эквиваленты по объёму поступков. Иначе говоря, если мы приписываем поступку предикат «запрещённый» или «нерекомендуемый», это должно автоматически означать, что данный поступок получает предикат «наказываемый». Однако это не так! Ведь нерекомендуемый поступок тем и отличается от запрещённого, что его совершение не влечёт наказания, иначе разницы между ними просто не было бы. Смысл нерекомендумого поступка в том, что воздержание от него поощряется, тогда как совершение не наказывается. Но если это так, то вся
|
86 |
Глава 1 |
|
выстроенная система квалификации поступков рушится, она оказывается просто бессмысленной.
На это было сразу же, в самом начале развития исламского права, указано мутазилитами, некоторые из которых отказывались признавать категорию нерекомендуемых поступков именно на том основании, что плохой поступок, остающийся без наказания, — это бессмыслица. Фактически последовательными европоцентристами, проводящими принцип дихотомической оценки по правилам С-логики, оказываются те представители исламского мира, которые заменяют четырёхзвенную (за вычетом свободно исполняемых) систему оценок поступков двухзвенной по принципу «всё плохое наказывается, всё хорошее поощряется»: в результате статуи Будды уничтожены, а исламский вид одежды вменён в обязанность, хотя создание изображений и соблюдение исламского вида одежды относятся традиционно к нерекомендуемому и поощряемому, а не к запретному и обязательному. Так сугубо, казалось бы, теоретический вопрос имеет, как выясняется, прямое отношение к реалиям современной жизни.
Оценки поступков, о которых мы говорим, называются по-арабски ах̣ка̄м, ед.ч. х̣укм. Слово х̣укм является именем действия для глагола х̣акама «он судил». Х̣укм — суждение, причём суждение как действие. Что-то близкое в русском слышится в слове «осуждение»: это именно действие. Но х̣укм не имеет отрицательного оттенка русского слова «осуждение»: х̣укм — это суждение как вынесение суждения, неважно, каким именно оно оказывается.
Это задаёт совсем другую перспективу разговора. Кто же выносит суждение-х̣укм относительно поступков человека? Ответ известен: Законодатель, т.е., собственно, Бог. Значит, суждение-х̣укм — это действие Бога в отношении поступка человека. Но если так, то для осмысления того, что такое суждение-х̣укм Бога в отношении поступка человека, релевантна П-схематика, а не С-схематика. Тогда логическим требованием правильности (осмысленности) в отношении суждения-х̣укм будет его постоянство: Бог, взятый как действователь, всегда выносит суждение-х̣укм относительно поступка человека, как только тот оказывается совершён. (Совершён не обязательно в «текущем», человеческом времени, но даже и в предвечности; однако это уже — совсем другой вопрос, касающийся тонкостей метафизики вечности и времени.) Но ведь именно об этом без устали твердит Коран, именно это без устали подчёркивает сунна, именно на это указывают вероучители! Европейская и европейски-ориентированная мысль
|
|
Теория |
87 |
видит в этом «фатализм», отсутствие свободы человека, тотальный контроль со стороны Бога (и его представителей на земле) за всеми поступками человека. Такие квалификации можно выносить, только оценивая всю систему исламских установлений в С-перспективе. Поставленные в адекватную П-перспективу, эти установления являют свой подлинный смысл: речь идёт о постоянстве действий Действователя, а это — столь же логически необходимое условие для осмысленности положений о суждениях-ах̣ка̄м Бога о поступках человека в П-схематике, каким в С-схематике будет задание объёма поступков и его правильное внутреннее деление.
В П-перспективе суждения-ах̣ка̄м Бога о поступках человека не подчиняются требованиям С-логики, а значит, и представление о несогласованности дихотомии «хороший-плохой» поступок с пятичленной системой суждений-ах̣ка̄м должно быть отброшено. Но с чем тогда согласовываются суждения-ах̣ка̄м Бога? Почему они образовывают систему, причём именно такую; могли ли бы они быть другими?
Обсуждение этих и близких вопросов составило обширное поле полемики в исламской мысли, начиная с мутазилитов. Конечно же, мы не можем сколько-нибудь подробно проследить здесь повороты этих дискуссий. Однако можно обозначить принципиальные позиции, которые были высказаны. Во-первых, суждение-х̣укм — это действие Бога, а никакое действие Бога не определено ничем, кроме его воли. Это — позиция тех, кто стремился максимально сохранить положение о неограниченной действенности Бога. Во-вторых, суждения-ах̣ка̄м не произвольны, а определены тем, каковы поступки сами по себе. Так, убийство плохо само по себе, и Бог не мог бы судить о нём иначе, чем судил. Это представление распространялось на все либо только на часть поступков; его следствием стало положение о том, что человек способен сам, без посланника, открыть суждения-ах̣ка̄м Закона, исходя из природы поступков. И, наконец, наиболее распространённая, можно сказать, основная позиция, заключающаяся в том, что, хотя действие Бога в самом деле не может ничем быть ограничено, тем не менее общий смысл Закона (а значит, и действий Законодателя) — вести человека к благу в этой и будущей жизни. Значит, суждения-ах̣ка̄м направлены к этой цели: показать человеку, что следует делать, чего не следует, от чего лучше воздержаться и что лучше стремиться делать. Именно этому и служит наилучшим образом система суждений-ах̣ка̄м.
 |

|
|
88 |
Глава 1 |
|
Теория сознания должна объяснять, как возможна естественная установка сознания. Мы начали с этого, и в завершение данной главы стоит подвести итог.
Гуссерль хочет взять в скобки естественную установку сознания. Изощрённая техника феноменологического анализа обескураживает тем более, что применяется она — к сознанию. Сознание выступает у Гуссерля сразу и как объект исследования, и как инструмент. Он берёт сознание как абсолютное — как такое, на что ничто не может влиять; и вместе с тем сразу же пытается так повлиять на наше сознание, так расшелушить его, чтобы открыть его подлинность вне естественной установки. Это как если бы естествоиспытатель, исходя из объективной данности мира, сразу же заявил, что в этой данности нет ничего подлинного и что при этом в самом мире есть некий волшебный ключ, некий философский камень, который способен эту золотую сущность мира, скрытую от наших естественных глаз, открыть. Феноменологическая установка в чём-то сродни алхимии, поскольку верит в волшебство данного ей инструмента, в трансмутацию природы сознания под влиянием этого инструмента.
Когда Рассел говорит, что монизм Гегеля ему не по нраву и что мир — собрание фактов, обозначаемых пропозициями, причём пропозиции собираются из логических атомов, так что подлинность мира требует изучать его как данный нам вовне, а не изрекать истины о мире, исследуя не его, а некое единое начало, которого он, мир, якобы служит лишь неким аспектом, — когда он говорит это, то как будто возражает Гуссерлю, с той лишь разницей, что Гуссерль хочет найти начало сознания, а не мира. Установка эмпиризма, от Бэкона до аналитической философии, заключается в том, чтобы работать напрямую с данностью. В этом есть завораживающая простота. В самом деле, «Новая Атлантида» подкупает доступностью, открывая мир науки для каждого как мир эмпирического исследования после того, как он был закрыт для всех, кроме умудрённых метафизиков-схоластов. Беда лишь в том, что данность мира оказывается кажимостью, и если классифицировать свойства камней или иных предметов вокруг нас, без сомнения, полезно, чтобы устроить удобнее свою жизнь, то всё же технологии, какими бы утончёнными они ни были, ничего не сообщают о том, каков мир на самом деле. Декарт находит совсем другой путь, можно сказать, противоположный: несомненное
|
|
Теория |
89 |
основание, на котором можно строить знание, открывается только как cogito, и ничто иное, поскольку всё прочее может быть предметом сомнения, а cogito — не может, ибо сомнение уже включено в cogito. Сегодня эмпирические исследования замыкают круг, и нейронаука пытается решить проблему сознания научными, эмпирическими методами, как если бы по-прежнему был возможен этот волшебный ход извне вовнутрь: наука, будучи формой сознания, хочет отнестись к сознанию как инструмент, вскрыть сознание. Но вскрывает она его — им же самим, поскольку и сама является формой сознания, а потому найдёт в сознании только то, что сама же и заложит в него. Если Гуссерль использовал умозрительный инструмент, но поступал как эмпирик, направляя этот инструмент на сознание, то нейронаука использует не умозрительный, а вполне грубый, материальный инструмент, думая, что может как-то воздействовать на сознание.
Всё это пока что ни на шаг не приблизило нас к разгадке сознания. Мы, похоже, по-прежнему там же, где Декарт, мы не имеем ничего, кроме cogito. — И всё же у нас теперь есть кое-что ещё — то, чего не было у Декарта. У нас есть тот опыт, который позволил заметить оставшееся незамеченным как Декартом, так и всей европейской традицией, вплоть до Гуссерля, не нашедшего возможности отказаться от бытия и сохранившего его хотя бы и в форме интенциональности. Да, у нас есть именно опыт, а не умозрение; и, однако же, такой опыт, который только и способен помочь умозрению. Опыт умозрения. Мы смогли заметить коренной важности обстоятельство: ergo Декарта не является несомненным. Декарт, разыскивающий в cogito основание любой несомненности, делает вывод вовсе не однозначный. Мы увидели, что возможно как минимум двоякое ergo: несомненным следствием моего cogito является существование «Я», и столь же несомненным следствием cogito является действие «Я».
Так несомненность cogito открылась нам как несомненность целостности. Существовать и действовать для нашего «Я», для нашего сознания, не выступают как нечто рядоположенное, как одно после другого или одно благодаря другому. Между существовать и действовать нет причинной связи, нет и какой-либо иной зависимости одного от другого. Целостность нашего сознания, о которой так хорошо сказал Гуссерль, приоткрывается нам прежде всего в этой игре существования и действия: одно действует как другое, одно есть другое. Мы не можем отделить одно от другого; это, собственно,
|
90 |
Глава 1 |
|
даже и не «одно» и «другое». И для нашего «Я» быть — значит действовать, а действовать — значит быть.
Задержимся на минуту, прежде чем идти дальше. Надо осознать значение этого вывода во всей его полноте. Нельзя действовать, если не быть; но нельзя и быть, если не действовать. Непременность целостности. Дело не обстоит так, что мы начинаем с некоего абсолютного, единого начала и только затем приходим к целостности. Нет. Начать с единого нельзя, монизм, о котором говорил Рассел, действительно ошибочен, хотя и составлял всегда идеал европейской философии. Сознание возможно только как целостность, и только как целостность оно и раскрывает себя.
В картезианской формуле cogito ergo sum спрятано ещё одно неочевидное допущение, выскакивающее в его ergo. А именно: cogito — не что иное, как «Я». Я, чистая и бессодержательная субъектность, — не что иное, как всё сознание, всё его содержание. Это — такой же несомненный факт нашего сознания, как и само сознание. Нам не нужно ничто внешнее, нам не нужен никакой волшебный инструмент, чтобы «открыть» сознание. Сознание открывается само: оно раскрывается как целостность. Чистая бессодержательность и всё содержание сознания — одно и то же, одно и есть другое, одно действует как другое. «Я» и cogito — такая же целостность, как «действовать» и «существовать». Субъект-предикатная склеенность, в которой одно раскрывается как другое. Целостность «Я» и cogito разворачивает себя в форме субъект-предикатной связности. Наше сознание разворачивается как мир вещей. Благодаря нейронауке мы сегодня яснее, чем когда-либо, понимаем — понимаем, можно сказать, со всей пронзительностью, — что мир не «дан» нам, мир сделан нашим сознанием.
Мы сказали, что наше сознание не способно удержать самого себя. Это значит, что мы не можем остаться на уровне своего cogito, на уровне целостности сознания. Целостность — до развилки, связность — после неё. Развилка — выбор между существованием и действием. Выбор, которого не должно быть; и которого по истине — нет.
Наша субъектность, наше «Я», целостно вплавленное в cogito, «Я», для которого существовать и быть — не два разных, но одно как другое и через другое, наша субъектность должна была бы оказаться целостной, должна была бы оказаться все‑субъектностью. Она такой и остаётся, поскольку наше сознание никогда не утрачивает себя,
|
|
Теория |
91 |
не утрачивает свою целостность. Не обладает ею, но и не утрачивает её. «Действовать» и «существовать» для нашего «Я» включены в естественную установку нашего сознания.
В самом деле, «Я» остаётся самим собою, никогда не утрачивая своей субстанциальности, своей, так сказать, точечности, своей способности вступить в тот тип субъект-предикатной связности, что отображен на Рис. 3‒6. Но точно так же «Я» — всегда действует, оно всегда оказывается во взаимо-действии. Развилка пройдена, когда мы строим доказательства вроде С-силлогизма или П-силлогизма: мы не можем (по крайней мере, пока не можем) реализовать оба типа связности в одном доказательстве. Развилка пройдена, когда культурные практики закрепляют тот или иной тип смыслополагания как стержневой для выстраивания всех форм общественного сознания. Но развилка никогда не пройдена в индивидуальном сознании, потому что наше «Я» всегда сохраняет и свою фиксированность, и свою многоликость. Если «Я» — это cogito и cogito — это «Я», то действовать для «Я» — то же, что существовать, и существовать — то же, что действовать. «Точечная» субъектность, индивидуальность, личностная, сущностная замкнутость, хорошо знакомые нам по опыту европейской культуры, неотъемлемы от субъектности как чистого действия, субъектности как чистого протекания. Картезианская субъектность, субъектность субстанциального существования, неотъемлема от бергсоновской субъектности, субъектности действия.
Действие как протекание — всегда между, всегда «от» и «к». Иным оно не может быть постольку, поскольку действие, как и существование, — способ развернуть целостность в форме субъект-предикатной склеенности. Действующая, бергсоновская субъектность логически требует «другого» — того, на что или на кого направлено действие. Если субъектность и есть действие, тогда другой — не не‑Я, не монада, не другой индивид, а условие меня.
Естественная установка нашего сознания — не что иное, как cogito. Сознание и есть оно само, этим не сказано ничего — и сказано всё. Cogito — это «Я» существующее и «Я» действующее: существующее постольку, поскольку действующее, и действующее постольку, поскольку существующее. «Я», взятое как целостность cogito, разворачивается как мир — разворачивается как система вещей, система субъект-предикатных склеек. Мир един и единственен, потому что целостность всегда единственна, как бы она ни разворачивалась. «Я» единственно и неизменно как субстанциальное, и «Я» — всегда
|
92 |
Глава 1 |
|
другое «Я» как действующее. Мир и другой человек — «не‑Я» для моего «Я» как субстанциального, но мир и другой человек — условие меня для моего «Я» как действующего. Естественная установка сознания — это лишь выраженная простыми словами целостность cogito.
 |

|
Имеет ли всё сказанное какое-либо значение для понимания методологии и интерпретации результатов психологических исследований? Мы уже частично затрагивали этот вопрос во Введении. Вернёмся к нему и приведём развёрнутую цитату классика когнитивной психологии Дж. Брунера:
Восприятие предполагает акт категоризации. Фактически в эксперименте происходит следующее: мы предъявляем субъекту соответствующий объект, а он отвечает путём отнесения воспринятого раздражителя к тому или иному классу вещей или событий… Испытуемый говорит, например, «это апельсин» или нажимает на рычаг, на который он должен по инструкции нажимать при виде апельсина… Этот вывод на основании признака объекта о принадлежности его к определённому классу, осуществляемый при восприятии, интересен тем, что он ничем не отличается по существу от любого другого вида категориальных выводов, источником которых служат признаки предметов. «Этот предмет круглый, шероховатый на ощупь, оранжевого цвета и такой-то величины — следовательно, это апельсин; дайте-ка я проверю остальные свойства для большей уверенности».
…Одна из главных характеристик восприятия является свойством познания вообще. У нас нет никаких оснований считать, что законы, управляющие такого рода выводом, резко отличаются от законов понятийной деятельности. Соответствующие процессы вовсе не обязательно должны быть сознательными или произвольными. Мы полагаем, что теория восприятия должна включать, подобно теории познания, какие-то механизмы, лежащие в основе вывода и категоризации.
Ни язык, ни предварительное обучение, которое можно дать организму для управления любой другой формой внешней реакции, не позволяют ничего сообщить иначе, как в терминах рода или категории. Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включённым в систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо
|
|
Теория |
93 |
категории, оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей, погребённой в безмолвии индивидуального опыта [Брунер 1977: 14‒16].
Цитированный фрагмент иллюстрирует логическую неоднозначность научной эмпирики. Эмпирико-психологическое исследование начинается с того, что исследователь договаривается с испытуемым о том, что испытуемый будет смотреть на предъявляемые стимулы и отвечать определённым образом на определённый стимул или группу стимулов. Далее в цитированном отрывке уже исследователь интерпретирует ответы испытуемого — в логике своей культуры — как категоризацию. А в описании результатов и в интерпретации эмпирических данных исследователем ответы любого отдельного испытуемого выносятся за скобки, предметом исследования является «восприятие как таковое». Но такое восприятие — уже не эмпирика, а теоретический конструкт, создаваемый исследователем по правилам логики, нормативной для культуры, к которой принадлежит исследователь. Для научного исследователя не испытуемый смотрит и описывает увиденное (П-логика), а имеет место восприятие объекта субъектом (С-логика). Это восприятие характеризуется некоторой мерой правильности, полноты, скорости и др.
Описанная схема проведения эмпирических исследований и интерпретации результатов реализуется и в современных исследованиях восприятия, обзор которых не входит в задачи данной книги. Приведём только несколько ярких иллюстраций.
Широко известное исследование А.Р. Лурии, которое мы упоминали выше и обсуждали ранее [Солондаев 2019], также строилось по схеме, позднее эксплицированной Дж. Брунером. Исследователь предъявлял испытуемым стимульный материал (мотки ниток) и предлагал классифицировать их по обобщённому названию цвета. Некоторые испытуемые соглашались с предложением экспериментатора, некоторые отказывались. Анализируя ответы испытуемых, А.Р. Лурия делал выводы о развитии «восприятия как такового» — аналогично процитированному рассуждению Дж. Брунера. Но в своих выводах А.Р. Лурия исходил не только из ответов испытуемых. Для его интерпретации принципиально важным было положение о категориальной природе восприятия, независимо сформулированное позднее Дж. Брунером. Будучи добросовестным исследователем, А.Р. Лурия отмечал «странный факт»: многие испытуемые смогли объединить стимулы в группы, однако такая классификация делалась ими как
|
94 |
Глава 1 |
|
уступка экспериментатору, тогда как сами они продолжали видеть различия стимулов. Этот «странный факт», конечно, интерпретировался А.Р. Лурией в нормативной для исследователя С-логике.
В исследованиях Е.Ю. Артемьевой стимулы предъявлялись испытуемым в затруднённых условиях (на очень короткое время, с разной степенью размытости). А испытуемые особым образом оценивали воспринимаемые стимулы. Полученные данные позволили автору сделать вывод о том, что «реально оцениваемыми свойствами визуально представленного объекта являются координаты (эмоционально оценочные) его семантического кода, а не цвет и форма как таковые» [Артемьева 1999: 81]. Модальный код в исследовании Е.Ю. Артемьевой характеризуют оценки по шкалам «большой-маленький», «цветной-нецветной» и др., а семантический код характеризуют оценки по шкалам «хороший-плохой», «трудный-лёгкий» и др. Логика категоризации в интерпретации исследователя соблюдается, хотя категоризация усложняется по сравнению с интерпретацией Дж. Брунера. В интерпретации Е.Ю. Артемьевой категоризация проходит две стадии: семантическую («хороший-плохой», «опасный-неопасный» и др.) и собственно перцептивную («округлый-угловатый», «цветной-нецветной» и др.), которые завершаются «окончательной» категоризацией, влияющей на образ восприятия. Например, если объект восприятия — подкрашенную жидкость, налитую в миску — испытуемые называли льдом, то из его описания исчезали признаки, присущие жидкости (текучесть, мягкость), и возникали другие (статичность, твёрдость).
Как видим, возможности построения исследований и интерпретации эмпирических данных в С-логике впечатляют. И авторы настоящей книги ни в коей мере не оспаривают достижений современной психологии. Но вместе с бесспорными достижениями в психологии возникает проблема экологической валидности — соответствия исследований «естественной» реальности обыденной жизни людей [Дружинин 2001]. На обсуждаемом материале психологии восприятия проблема экологической валидности заключается в ответе на вопрос: будет ли любой (случайно выбранный или особо интересующий нас по каким-то причинам) человек воспринимать любой объект с одинаковой мерой соответствия описанным закономерностям категоризации? Для современной психологии ответ очевиден: нет. Чем больше мы узнаем о восприятии, тем больше выявляем условий, модифицирующих открываемые закономерности. Для прогноза течения
|
|
Теория |
95 |
процесса восприятия (в субстанциальном значении термина процесс) и образа восприятия как результата имеют значение многие промежуточные и побочные переменные. Пол, возраст, образование, профессия, жизненный опыт, актуальное состояние, установка, личностные особенности — далеко не полный перечень таких переменных.
Представим себе разных людей, воспринимающих светофор на перекрёстке. Допустим, что этот светофор — единственный. Светофор висит на тросах в центре перекрёстка и на него смотрят интересующие нас люди. Молодой человек, спешащий на свидание с девушкой, мама на переходе с ребёнком в коляске, водитель такси, пассажир такси, водитель автобуса, пассажиры автобуса, врач в своём автомобиле едет с работы домой… Одинаково ли они воспринимают светофор, на котором сменяются разрешающие и запрещающие сигналы? Одинаковым ли будет время их реакции на смену сигналов? Одинаковые ли паттерны поведения актуализируются у них при смене сигналов? Вероятнее всего, нет. Вероятнее всего, мы эмпирически обнаружим значительные различия их образов воспринимаемого светофора, времени реакции на смену сигналов и актуализируемых паттернов поведения. К тому же различия образов восприятия, времени реакции и поведенческих паттернов у тех же самых людей изменятся в новой ситуации или при восприятии другого объекта, например машины скорой помощи, въезжающей на перекрёсток.
Так абстрактный субъект восприятия абстрактного объекта «распадается» на множество конкретных субъектов, воспринимающих конкретные объекты в разных ситуациях. Одновременно «распадаются», усложняясь до бесконечности в соответствии с законами С-логики и вопреки намерениям исследователей, открытые в сложных экспериментах закономерности восприятия.
Об этой проблеме и соответствующих перспективах исследований пишет Дж. Брунер:
Если у вас есть тёмная комната и испытуемый с высоким уровнем мотивации, для вас не составит труда убедиться в справедливости законов субъективного восприятия движения. Но выведите вашего испытуемого из тёмной комнаты на рыночную площадь и попытайтесь узнать, что и при каких условиях он видит движущимся; законы психофизиологии восприятия, хотя и ничуть не поколебленные, описывают ситуацию немногим лучше, чем законы смешения цветов способны объяснить переживания человека перед полотнами Эль Греко.
|
96 |
Глава 1 |
|
…Необходимо изучить, каким вариациям подвержено само восприятие, когда человек голоден, влюблён, испытывает боль или решает задачу…
К категории поведенческих детерминант мы относим те активные приспособительные функции организма, которые имеют тенденцию к контролю и регуляции всех функций более высокого уровня, включая восприятие. Это законы научения и мотивации, такие динамические свойства личности, как подавление, действие таких типов характера, как интроверсия — экстраверсия, социальные потребности и позиции и т.п. [Брунер 1977: 65‒66].
С точки зрения авторов настоящей книги, традиции исследований, сложившиеся в западноевропейской научной культуре, построенной на С-логике, вполне могут быть дополнены исследованиями, учитывающими возможность строгой П-логики. И в дальнейшем мы продемонстрируем возможности, предоставляемые П-логикой, на материале экспериментально-психологического исследования принятия родителями решения о профилактической прививке ребёнку.
 |

|
|
|
|
|
 |

|
Напомним два основных вопроса, на которые отвечает эта книга. Действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения? Возможно ли осмысление мира, если положить в его основу действие как таковое, а не субстанцию; даёт ли опыт человечества примеры подобного осмысления мира, и можно ли таким образом дать логичное описание мира?
Авторы настоящей книги считают, что ответ на поставленные вопросы будет более убедительным в том случае, если в современной российской культуре удастся эмпирически выявить рациональность, построенную не на подведении под класс, не С-рациональность, а построенную на действии как таковом — П-рациональность. Для эмпирического исследования необходимо определить тему, найти «кандидата на роль» культурной универсалии. Чем характеризуется культура, мыслимая в С-логике, какой процесс выстраивает культуру, мыслимую в П-логике? По мнению авторов, вполне подходящий, хотя и не единственный, «кандидат на роль» культурной универсалии — воспроизведение культуры. Этот «кандидат» настолько глубоко включён в любую доступную для эмпирического исследования культуру, что биопсихосоциальные механизмы его функционирования легко принять как бесспорный эмпирический факт. Рассмотрим его внимательнее.
Время жизни любой культуры, доступной для эмпирического исследования, превышает время биологической жизни одного поколения людей, если мы употребляем термин «культура» так, как он употребляется в Главе 1. Следовательно, культура должна «воспроизводиться» в прямом значении слова — «воспроизводить себя». И воспроизведение культуры не может происходить, говоря языком
|
98 |
Глава 2 |
|
биологии, без воспроизведения популяции носителей культуры. Всё-таки homo sapiens — биологический вид.
Воспроизведение культуры на временном отрезке, превышающем продолжительность жизни одного поколения людей, предполагает культурные практики воспроизведения. Образование, систематическое обучение, воспитание — эти практики воспроизведения культуры могут реализоваться лишь при условии биологического выживания нового поколения, входящего в культуру, осваивающего и затем модифицирующего её. Поэтому мы сузим тему нашего эмпирического исследования до культурных практик заботы о детях в биологическом аспекте — культурных практик заботы о здоровье детей. Из отчётов Всемирной организации здравоохранения ООН мы знаем, что врачи, получившие профессиональную подготовку в одной стране, могут достаточно успешно оказывать медицинскую помощь населению другой страны, с другой культурой и другим языком. Это даёт основание считать культурные практики заботы о здоровье детей достаточно универсальными — подходящей для решения поставленной задачи темой.
Значение воспроизведения культуры и культурных практик заботы о здоровье детей косвенно подтверждается тем, что в современной России, как и в других странах, эти вопросы регулируются не только этически, но и законодательно. Сложный и важный вопрос о том, каково соотношение прав и обязанностей, моральных и юридических обязанностей в заботе о здоровье ребёнка мы временно выводим за скобки. В той мере, в какой мы можем эмпирически изучать современную российскую культуру, можно говорить, что культурные практики заботы о здоровье детей выполняют свои функции, поддерживают воспроизведение культуры. Эмпирическим подтверждением последнего утверждения служат данные исследования социально-демографических потерь населения России с 1989 по 2007 год, проведённого В.Г. Семеновой, Г.Н. Евдокушкиной, Л.А. Гавриловым, Н.С. Гавриловой, А.Ю. Михайловым:
Российское население дотрудоспособных возрастов (особенно дети первого года жизни и 1‒14 лет) — единственная группа, в которой в период реформ сформировалась устойчивая позитивная динамика смертности, что и отразилось в устойчивом снижении потерь в реформенное 20-летие: максимальный уровень ПГПЖ (потерянные годы
|
|
Эксперимент |
99 |
потенциальной жизни. — А.С., В.С.) отмечался в первый, 1989, год исследования, минимальный — в последний, 2007, год. В этот период потери снизились с 128,3 лет в мужской и с 84,2 лет в женской популяции на 1000 человек соответствующего населения до 83,7 и 53,3 лет на 1000 соответственно, т.е. на 34,8% и 34,7%… Отмеченное в период исследования снижение потерь было обусловлено всем нозологическим спектром.
Итоги периода реформ (1989‒2007 гг.) для населения трудоспособных возрастов оказались гораздо менее обнадеживающими: ПГПЖ выросли на 49,2% у мужчин 20‒59 лет и на 44,5% у их ровесниц, т.е. почти в 1,5 раза. Особо следует обратить внимание, что эффект дефолта 1998 г. сказался на населении трудоспособных возрастов (особенно на женщинах) не менее, чем острого кризиса первой половины 90-х годов прошлого столетия… Рост потерь в 1989‒2007 гг. у трудоспособного населения определялся практически всем нозологическим спектром [Семенова и др. 2009].
Вызывает удивление тот факт, что по всем группам болезней («нозологический спектр») число потерянных лет потенциальной жизни в детской популяции снижалось в то время, когда распадалось государство и в отношении взрослого населения наблюдалась совсем иная картина. Система педиатрической помощи вместе с культурными практиками заботы о здоровье детей оказались настолько устойчивы, что в прямом смысле пережили государство, в котором возникли!
Далее мы аргументируем действующими в настоящий момент правовыми нормами рациональность практик заботы о здоровье ребёнка в современной российской культуре и перейдём к планированию эмпирического исследования.
В правовом плане рациональность практик заботы о здоровье ребёнка в современной российской культуре определяется двумя взаимосвязанными понятиями.
Гражданское право строится на понятии гражданской дееспособности (далее — дееспособность):
Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [ГК 2019, Ч. 1: Ст. 21].
|
100 |
Глава 2 |
|
Уголовное право строится на понятии вменяемости/невменяемости:
Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики [УК 2019, Ч. 1: Ст. 21].
Как мы видим, понятия дееспособности и невменяемости имеют зеркально противоположное содержание. Два понятия вместо одного используются в праве постольку, поскольку гражданское и уголовное право по-разному регулируют различные сферы жизни общества. Понятие невменяемости мы привели как несколько более содержательное в психологическом плане, явно указывающее на патологическую природу психологических факторов, нарушающих осознание и руководство действиями субъекта. А дееспособность обозначает обобщённую способность действовать в соответствии с юридически зафиксированными правами и обязанностями. Широта перечня гражданских прав и обязанностей просто не позволяет законодательно конкретизировать формулировку дееспособности.
Понятия дееспособности и вменяемости предполагают, что человек осознает своё поведение и учитывает в своём поведении действующие правовые нормы, т.е. ведёт себя рационально и мыслит рационально. Можно сказать, что рациональность культурных практик заботы о здоровье ребёнка предписана российским законодательством. И законодательные нормы соответствуют фактической ситуации. В открытых источниках информации о судебной практике нам не удалось обнаружить ни гражданских, ни уголовных дел, в которых при рассмотрении правовых аспектов заботы о здоровье ребёнка у суда возникали бы сомнения в дееспособности или вменяемости какой-либо стороны.
Практики заботы о здоровье ребёнка в российской культуре — слишком общее обозначение для темы эмпирического исследования. Сузим тему нашего исследования до вопросов, связанных с вакцинацией, или проведением профилактических прививок. Не все дети болеют, а болеющие дети болеют разными болезнями. Но вопрос вакцинации решается родителями и медиками для каждого ребёнка.
|
|
Эксперимент |
101 |
При решении вопросов вакцинации, как и при любом другом обращении родителей за медицинской помощью для своего ребёнка, законодательство о здравоохранении дополнительно предписывает им рациональность, поскольку право на охрану здоровья особо выделяется Конституцией Российской Федерации (Ст. 41), а детство находится под защитой государства (Ст. 38).
Рациональность предписывается, во-первых, основным правовым принципом медицинской помощи — принципом информированного добровольного согласия. Этот принцип можно считать основным, поскольку он выводим из описанных выше «общеправовых» понятий дееспособности и вменяемости. Медицинские вмешательства без информированного добровольного согласия возможны только в ограниченном круге ситуаций, к которым не относится вакцинация:
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
…
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи… [Об основах охраны здоровья 2019, Ч. 1, Ч. 3: Ст. 20].
Во-вторых, граждане обязаны заботиться о своём здоровье, проходить медицинские осмотры, соблюдать режим лечения и правила поведения в медицинских организациях [Об основах охраны здоровья 2019, Ст. 27].
В-третьих, граждане имеют право выбора врача и медицинской организации [Об основах охраны здоровья 2019, Ст. 21].
В-четвёртых, пациенты имеют право доступа к медицинской информации:
Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего
|
102 |
Глава 2 |
|
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи [Об основах охраны здоровья 2019: Ст. 22].
Применительно к ситуации вакцинации перечисленные правовые условия и требования рациональности подтверждаются с уточнением о необходимости письменной формы отказа:
3. При осуществлении иммунопрофилактики граждане обязаны: выполнять предписания медицинских работников; в письменной форме подтверждать отказ от профилактических прививок [Об иммунопрофилактике 2018, Ч. 3: Ст. 5].
В эмпирически фиксируемой практике работы медицинских учреждений описанные законодательные нормы, насколько мы можем судить, соблюдаются. Судя по нашим исследованиям [Черная, Солондаев, Конева, Баторшина 2016; Черная, Солондаев, Конева, Баторшина, Дадаева 2016], в практическом здравоохранении складывается ситуация, удивительно напоминающая описанные в Главе 1 оценки поступка в исламском праве и этике.
Один и тот же случай может решаться, и действительно решается, по-разному в разных школах исламского права, исламское право никогда не считало это недостатком или изъяном. Примерно так же один и тот же ребёнок может получить разные оценки здоровья и допустимости вакцинации — как в разных медицинских организациях, так и у разных врачей одной медицинской организации. В полном соответствии с законодательством родители могут обращаться (и реально обращаются по мере возможности) к разным специалистам, сравнивая и выбирая тех, чьи рекомендации кажутся им оптимальными. Разные врачи могут рекомендовать разные вакцины из набора разрешённых к применению вакцин, назначать разные анализы для оценки возможности вакцинации, по-разному оценивать индивидуальные особенности ребёнка и т.п. И ни один из врачей, давших, например, разные оценки допустимости вакцинации одного и того же ребёнка, не считается в медицинском сообществе ошибающимся. Но только при условии корректной аргументации врачом своих оценок. Корректность аргументации врача определяется другими врачами
|
|
Эксперимент |
103 |
(экспертами). Такое положение вещей позволяет учесть практически бесконечное разнообразие индивидуальности детей, подлежащих вакцинации, избежать неблагоприятных последствий, ответственность за которые ляжет на врача. Поэтому существующее положение вещей явно или неявно поддерживается практическими медиками всех уровней вопреки неизбежно возникающим сложностям и попыткам механической стандартизации.
Система оценок поступков в исламской этике состоит из пяти разделов: «обязательное», «рекомендуемое», «свободно исполняемое», «нерекомендуемое», «запретное». И, как мы видим из анализа отечественного законодательства, эта система достаточно точно применима к вакцинации детей. Реализацию родителями предоставленного законодательством права на выбор врача и (или) медицинского учреждения для лучшего (по мнению родителей) решения вопроса о вакцинации можно оценить как «свободно исполняемое». Собственно вакцинацию законодательство вполне определённо оценивает как «рекомендуемое», а не «обязательное», поскольку прямо предоставляет право на отказ. Отказ от вакцинации — самостоятельное действие, которое оценивается законодательно как «нерекомендуемое», хотя и не «запретное»:
2. Отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями [Об иммунопрофилактике 2018, Ч. 2: Ст. 5].
В строгой С-логике медицинской науки вакцинация может оцениваться как «обязательное», а отказ от вакцинации как «запретное». Для научных целей система оценок часто упрощается до бинарной с выводом из-под оценки «свободно исполняемых» поступков. Но не только родители, не только законодательство, но и повседневная практика работы здравоохранения сопротивляется попыткам столь категоричного оценивания действий родителей и врачей.
|
104 |
Глава 2 |
|
Как, например, оценивать действия врача, проводящего вакцинацию ребёнку с респираторным заболеванием в лёгкой форме? Дать категоричные предписания без учёта многих особенностей конкретной ситуации сложно. Точнее будет оценить вакцинирование на фоне лёгкого заболевания как «нерекомендуемое», а временный отвод от вакцинации как «рекомендуемое», позволив врачу взять на себя ответственность с учётом эпидемической ситуации, графика вакцинации, особенностей реагирования ребёнка.
Предзаданная С-логикой категоричность оценок именно на логическом уровне приводит к «несколько странным» формулировкам при попытках медиков рационально рассуждать на этические темы. Приведём пример, ранее обсуждавшийся в нашей статье [Солондаев, Конева, Черная 2015] по теме настоящей книги. Г.Л. Микиртичан с соавторами пишут:
Пациенты должны испытывать удовлетворённость от сотрудничества с врачом, быть с ним искренними. Такие отношения отвечают гуманистическим ориентациям современной медицины и являются важной предпосылкой эффективного лечения [Микиртичан, Каурова, Очкур 2012: 8].
Медицинского психолога в приведённой цитате смущают два момента: можно ли вменять в обязанность пациенту или его родителям переживание каких-либо чувств? кто будет нести ответственность в случае неисполнения «обязанности пациента» испытывать удовлетворённость? Ко многим конкретным ситуациям цитированное абстрактно бесспорное высказывание оказывается неприменимо. Например, в ситуации сообщения «тяжёлого» диагноза вряд ли можно ожидать от пациента и его родителей удовлетворённости от сотрудничества. Ещё менее уместным будет искреннее выражение пациентом своему врачу чувств, возникающих при сообщении «тяжёлого» диагноза. Ведь врач лишь фиксирует ситуацию.
В прямой связи с тематикой вакцинации мы встречаем в научной литературе сходные в логическом плане высказывания медиков:
Действенная профилактика биологических эпидемий в современном мире обусловлена в т.ч. возможностями эффективного управления рисками в сфере социальных эпидемий, в частности эффективного противодействия антивакцинальному лобби на всех уровнях формирования и прохождения информации, влияющей на саногенное поведение населения [Катков, Крамм, Фролова 2015: 143].
|
|
Эксперимент |
105 |
Другой пример:
Наука доказала: прививки необходимы. При этом никто не оспаривает права родителей в желании защищать собственных детей [Ильина 2016: 286].
Неправильные решения родителей, основанные на знаниях, полученных в интернете, или из телевизионных программ, или от несведущих врачей, чьи лицензии и сертификаты неплохо было бы проверить, — и вот уже потеря коллективного иммунитета, и корь с коклюшем, пройдя по Европе, обосновались в, казалось бы, благополучной Америке [Ильина 2016: 288].
В контексте, как говорят психоаналитики [Мак-Вильямс 2001], «эмоциональной загрузки» приведённых цитат важно подчеркнуть, что мы не оспариваем пользу вакцинации и не сомневаемся в искренности благих намерений высказывающихся медиков. Мы лишь обращаем внимание на категоричность высказываний, явно расходящуюся с законодательно закреплённым правом родителей на отказ от медицинской помощи своему ребёнку без объяснения причин. Действующее российское законодательство и практика его применения ориентируют врачей с пациентами на диалог, на сотрудничество, которым категоричность «противопоказана».
В связи с «эмоциональной загрузкой» приведённых цитат стоит вновь обратиться к процитированному во Введении в несколько негативном контексте Д. Дёрнеру. На обширном эмпирическом материале он весьма аргументированно показывает психологическую закономерность возникновения «теорий заговора»:
Трудно признаться, что ты сам и к тому же с лучшими намерениями породил более или менее непрямо негативные последствия. Ведь то, что лучшие намерения приводят к дурным последствиям, означает, что субъект плохо понял основные взаимосвязи. А плохое понимание означает и низкую способность действовать, которая должна сопровождаться осознанием, что он может мало что сделать и должен действовать крайне осторожно. Такое понимание и связанное с ним чувство вины скрываются от осознания — и люди приходят к теориям «тайного заговора» [Дёрнер 1997: 85].
И даже если законодательство изменится, если родители потеряют право на отказ от вакцинации ребёнка, сохранив право на отказ от медицинской помощи в других ситуациях, вопросы, связанные
|
106 |
Глава 2 |
|
с вакцинацией, в практическом здравоохранении останутся. Ситуация, на наш взгляд, будет развиваться примерно так. Абстрактно говоря, вакцинация полезна и обязательна. Практические врачи с этим не спорят. Но должен ли врач вакцинировать «вот этого» конкретного ребёнка прямо сейчас, игнорируя результаты клинического анализа крови, вызывающие у врача сомнения? Взяв на себя ответственность за возможные поствакцинальные осложнения? Маловероятно, что абстрактно-обобщённые научные аргументы в пользу вакцинации помогут врачу решить такой вопрос. Гораздо вероятнее, что законодательное принуждение к вакцинации вызовет сопротивление как родителей, так и медиков. При этом в профессиональном сообществе медиков возникнут новые алармистские концепции ипредложения разработать новые меры противодействия неким враждебным влияниям.
Подчеркнём, что в медицинской литературе мы встречаем и гораздо более взвешенные высказывания по поводу информированного добровольного согласия в контексте вакцинации:
…У врачей (обычных врачей) есть огромное преимущество перед апологетами «тайного знания о ненужности и вреде прививок». Большинство людей за информацией о прививках придут именно к ним, а не к гомеопатам. И роль интернета в качестве источника информации сильно преувеличена. Проведенный нами опрос родителей показал, что 98,5% опрошенных в первую очередь ищут информацию о прививках у врачей, при этом из интернета ее получают лишь 32,2% [Ильина, Намазова-Баранова, Баранов 2016: 9].
В медицинской литературе обсуждаются и мероприятия, направленные на повышение медицинской эффективности вакцинопрофилактики:
сокращение необоснованных медицинских отводов от вакцинации, постоянное внимание к вакцинальному статусу ребенка (при любом обращении) и информирование родителей о болезнях, от которых можно предохранить ребенка при помощи вакцинации уже сегодня [Куличенко и др. 2015: 334].
Весьма показательно, что одного и того же автора — уважаемую С.В. Ильину — мы процитировали дважды: в условно негативном и условно позитивном контексте. Как и уважаемого Д. Дёрнера. Нас интересовало не содержание высказываний (вполне обоснованное,
|
|
Эксперимент |
107 |
на наш взгляд), не эмоциональный тон высказываний, а их логика. Именно логика высказываний закономерно связывается с эмоциональной реакцией читателя, определяя эмоциональный тон. Мы хотели лишь показать, что в контексте вакцинации — одной из культурных практик заботы о здоровье ребёнка — вполне корректная С-логика временами «не срабатывает», приводя к эмоционально неприятной читателю категоричности, но не отвечая на его вопросы о конкретной ситуации действия.
Прежде чем перейти к планированию, подведём краткий итог проведённого обоснования выбора темы эмпирического исследования.
В современной российской культуре эмпирически фиксируется такая практика заботы о здоровье ребёнка, как вакцинация. Практика вакцинации распространяется на всех детей, обращающихся за медицинской помощью. Предполагается и подтверждается правоприменительной практикой, что родители совместно с медиками принимают рациональное решение по поводу вакцинации. Практика вакцинации как вариант заботы о здоровье ребёнка связана с воспроизведением культуры за пределами временных границ продолжительности жизни одного поколения. Ранее авторами показано теоретически, что ситуация вакцинации может быть описана как в С-логике, так и в П-логике [Смирнов, Солондаев 2017]. Эмпирическое исследование принятия решений о вакцинации ребёнка позволит авторам аргументировать ответ на два основных вопроса, поставленных в настоящей книге.
 |

|
В психологии, начиная с работ Ж. Пиаже, понимание логических закономерностей исследуется путём создания экспериментаторами задач, основанных на закономерностях, интересующих исследователя. Задачи предъявляются испытуемым, процесс рассуждений и ответы испытуемых фиксируются. При интерпретации результатов исследователи логически анализируют ход решений, сопоставляют разные варианты решения одной задачи и результаты решения разных задач.
Приведём несколько развёрнутых примеров.
«Эдит более светлая (или блондинка), чем Сюзанна; Эдит более тёмная (или брюнетка), чем Лили; какая из трёх девочек самая тёмная?» Решение этого вопроса достигается только к 12 годам. До этого
|
108 |
Глава 2 |
|
мы встречаемся с рассуждениями вроде следующего: Эдит и Сюзанна — светлые, Эдит и Лили — тёмные, значит, Лили — более тёмная, Сюзанна — более светлая, а Эдит — между ними. Иными словами, десятилетний ребёнок формально рассуждает так же, как рассуждали малыши 4‒5 лет по поводу палочек, которые нужно было расположить в ряд, и только к 12 годам способен достичь в формальном плане того уровня, на котором в конкретном плане он умел оперировать с величинами уже к семи годам. И причина здесь просто в том, что теперь посылки даны в виде чисто вербальных гипотез, а заключение должно быть найдено формально (vi formae), без обращения к конкретным операциям [Пиаже 2004: 164].
Сотрудники Пиаже изучали сравнение длины вертикальной линии, равной 5 см, и наклонной, длина которой варьировала. Эта линия была расположена на расстоянии 5 см от первой. Опыты показали, что это сравнение затруднительно для взрослого, он делал много ошибок. Но ребёнок 5‒6 лет сравнивал линии гораздо лучше, потому что он не думал об ориентации линий. Ошибки в оценке длины увеличивались в 9‒10 лет, где они достигали максимума, после чего слегка уменьшались. Однако известно, что в возрасте 9‒10 лет благодаря развитию интеллекта формируется система операторных координат и ребёнок начинает замечать направления линий, что создаёт препятствие в перцептивной оценке длин [Обухова 1981: 121‒122].
Испытуемый получает текст задачи и по просьбе экспериментатора читает его вслух: «Что произойдёт со свечой, если ее зажечь на космическом корабле, находящемся на орбите?» После этого он в течение нескольких секунд думает молча. Экспериментатор, пытаясь прервать первую небольшую паузу, задаёт нарочито «нейтральный» вопрос, который в силу неопределённости не может служить подсказкой: «Что тебя смущает?» Испытуемый тут же начинает рассуждать следующим образом: «А мне сразу хочется выделить готовый ответ, и здесь приходится обсуждать два фактора, которые будут влиять на её горение. Преодолевается сам процесс горения»…
Испытуемый, по крайней мере в явной форме, не выражает здесь даже намёка на возможность горения свечи, хотя, рассуждая чисто формально и дизъюнктивно, на вопрос: «Что произойдёт со свечой?..» — можно дать как минимум два равновероятных ответа: свеча будет гореть или, наоборот, погаснет (при этом, по словам некоторых других испытуемых, она, кроме того, будет «летать» по кабине космического корабля и т.д.) [Брушлинский 1979: 119‒120; курсив автора].
При объяснении движения объектов по законам непрерывности, субстанциальности и гравитации (базовым законам физического
|
|
Эксперимент |
109 |
мира) дети вплоть до 5-летнего возраста могут указывать на ментальные причины, т.е. приписывать объектам ментальные состояния. Так, например, при понимании невозможности продолжения движения физического объекта по прежней траектории после столкновения с препятствием 4-летний мальчик дал такое объяснение: «(Мяч) увидел, что стена, стукнулся и встал». В задаче на понимание субстанциальности другой ребёнок так объяснял невозможность двум объектам занимать одновременно одно и то же место в пространстве: «Она (доска) упала и разломалась, а он (кубик) убежал».
Этот феномен можно объяснить такой характеристикой мышления в детском возрасте, как анимизм, описанной Ж. Пиаже (1969). Анимизм понимается им как приписывание одушевленности неодушевленным объектам. Согласно Пиаже, такое приписывание ментальных свойств физическим объектам основано на неспособности провести различие между живым и неживым. Данные нашего исследования понимания отличия причин движения физических и социальных объектов как частного случая понимания различий между живым и неживым показывают, что в 4 года дети только начинают приходить к такому пониманию. Возможно, что приписывание ментальных состояний физическому объекту связано с неспособностью детей 3‒4 лет объяснить различия живого и неживого. Активность физического объекта (движение по траектории, падение и т.п.) для детей младшего дошкольного возраста может быть связана не с физическими, а с ментальными причинами (намерениями, желаниями и т.п.), что и проявляется в их объяснениях [Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009: 345‒346].
В современных исследованиях, конечно, используются и более сложные технически методики. Например, текст задачи предъявляется на экране компьютера, одновременно с текстом основной задачи предъявляется стимульный материал для выполнения задачи-зонда (методика когнитивного мониторинга), время решения задачи разделяется на 10 этапов, статистически обрабатывается число ошибок в выполнении задачи-зонда на каждом этапе [Владимиров, Коровкин, Лебедь и др. 2016]. Относительно широко применяются психофизиологические методики (измерение кожно-гальванической реакции, фотоплетизмограмма), методики регистрации взора испытуемых (eye tracking). Но схема исследования сохраняется: испытуемый решает задачу, экспериментатор фиксирует качественные или количественные параметры решения.
|
110 |
Глава 2 |
|
Поскольку нас интересовала логика рассуждения испытуемых, мы не могли строить исследование на свободном решении задач. Вероятность того, что испытуемые в экспериментальной ситуации станут свободно рассуждать в строгой П-логике, невелика. Впрочем, как и вероятность рассуждения в строгой С-логике. А любые попытки экспериментатора активно прояснять по ходу решения логику рассуждений испытуемого (не сам ход рассуждений, как делали процитированные авторы, а именно логику) закономерно вызвали бы сомнения в полученных результатах, связанные с возможностью искажающего воздействия экспериментатора.
Поэтому мы воспользовались другим методическим подходом, который достаточно успешно применялся при исследовании мышления взрослых [Подгорецкая 1980]. Испытуемым предлагалось описание ситуации, связанной с решением вопроса о вакцинации ребёнка (задача). К каждой ситуации (задаче) предлагалось четыре варианта рассуждений (ответы). Два рассуждения строились по схеме С-силлогизма. Два рассуждения строились по схеме П-силлогизма. В каждой паре рассуждений в одной логике одно рассуждение приводило к выводу о согласии на вакцинацию, другое — к выводу об отказе от вакцинации. Испытуемому предлагалось выбрать рассуждение, наиболее подходящее для мамы в описанной ситуации. Логика построения рассуждения для испытуемых не акцентировалась, поскольку испытуемый мог выбрать рассуждение «за» и «против» вакцинации в обеих логиках.
Формулировки описаний ситуации и формулировки рассуждений вначале строились авторами, затем проверялись и, при необходимости, модифицировались в пилотажных сериях14. При уточнении описаний ставились две задачи: обеспечить естественность формулировок для восприятия испытуемых при возможно более однозначном выражении характера проблемности, передаче необходимости принимать рационально обоснованное решение. Испытуемые пилотажных серий — своего рода «наивные эксперты» в сфере родительства — достаточно легко включались в обсуждение, охотно делились своим родительским опытом. Разработка такого плана методик ранее осуществлялась нами
|
|
Эксперимент |
111 |
для совместных с медиками исследований [Черная, Солондаев, Конева, Баторшина 2016; Черная, Солондаев, Конева, Баторшина, Дадаева 2016]. Поскольку П-логика формализована одним из авторов настоящей книги, мы не располагали возможностью внешней экспертной оценки корректности П-логических ответов, по данным пилотажных серий оценивалась только естественность формулировок. Но эта сложность на текущем этапе исследований непреодолима.
Приведём полностью окончательный вариант методики, по которой проводилось основное исследование и были получены результаты, описанные в следующей части главы. С- обозначает рассуждение в субстанциальной логике с выводом «отказ от вакцинации»; С+ обозначает рассуждение в субстанциальной логике с выводом «согласие на вакцинацию». П- обозначает рассуждение в процессуальной логике с выводом «отказ от вакцинации»; П+ обозначает рассуждение в процессуальной логике с выводом «согласие на вакцинацию». Эти обозначения вариантов ответов испытуемым не предъявлялись, ответы были пронумерованы от 1 до 4.
1) В выходные у Оли немножко заболела дочка. Начался лёгкий насморк, в субботу была невысокая температура, утром прошла и в воскресенье не поднималась. А в понедельник в садик. В садике всех отправили на прививку. Оля считала, что прививку лучше отложить, пока ребёнок не будет полностью здоров. А врач сказал, что в её случае прививку делать можно.
Как рассуждать Оле?
С- Делать прививки можно только полностью здоровым детям. Олина дочка не совсем здорова. Олиной дочке нельзя делать прививки.
С+ Всем детям в садке делают прививку. Олина дочка ходит в садик. Дочке нужно сделать прививку.
П- Оля нарушает рекомендации врачей, когда считает, что врачи навредят ребёнку. Оля считает, что прививка навредит ребёнку, поэтому откажется от прививки.
П+ Оля соблюдает рекомендации врачей в тех случаях, когда считает, что врачи помогают ребёнку. Оля считает, что прививка поможет ребёнку, поэтому отведёт дочку на прививку.
2)Дарья всё сама продумала и приняла решение. Она своему ребёнку сделает все прививки, потому что считает, что иначе ребёнок может сам заболеть или заразиться от других. Вокруг всяких болячек полно. Хотя прививки — дело добровольное, кто не хочет, пусть не делает.
|
112 |
Глава 2 |
|
Как рассуждать Дарье?
С- Добровольное информированное согласие родители дают в интересах ребёнка. Дарья переоценивает риск болезней. Ей лучше отказаться от прививок.
С+ Добровольное информированное согласие родителей обязательно. Дарья решила самостоятельно. Пусть прививает.
П- Дарья нарушает рекомендации врачей, когда считает, что врачи «перегружают» ребёнка. А прививки «перегружают» ребёнка. Дарья нарушит рекомендации о прививках.
П+ Дарья выполняет рекомендации врачей, когда считает, что врачи защищают ребёнка. А прививки защищают ребёнка. Дарья выполнит рекомендации о прививках.
3)Таня сомневалась и пошла к хвалёному доктору на консультацию. А доктор только ребёнка посмотрел, анализов никаких не назначил, но на прививку отправил.
Как рассуждать Тане?
С- Рекомендации авторитетного врача стоит выполнять. Но авторитет врача не подтвердился. Лучше отказаться от его рекомендации.
С+ Рекомендации авторитетного врача стоит выполнять. Раз авторитетный врач назначил прививку, можно делать.
П- Таня слушается врача, когда видит, что врач помогает ребёнку. А прививка не помогает ребёнку, значит, Таня откажется от прививки.
П+ Таня слушается врача, когда видит, что врач помогает ребёнку. И предписание врача помогает ребёнку, значит, Таня послушается предписания.
4) Маша прочитала кучу литературы и пришла к выводу, что не стоит искусственную заразу заносить сразу в кровь. Пускай ребёнок приобретает иммунитет естественным путём. Но скоро плановый осмотр ребёнка, и педиатр наверняка отправит на прививку.
Как рассуждать Маше?
С- Развитие должно быть максимально естественным. А прививки — искусственный риск, которого легко избежать. Лучше Маше не делать их своему ребёнку.
С+ Естественный иммунитет возникает в иммунной системе. А иммунная система у человека одна. Значит, иммунитет тоже один — и после прививок, и после болезней.
|
|
Эксперимент |
113 |
П- Маша избегает инфекций, потому что инфекции вредят ребёнку. Маша считает, что прививка повредит ребёнку. Она откажется от прививки.
П+ Иммунитет реагирует на инфекции, когда инфекции попадают в организм. Если прививка попадёт в организм, иммунитет так же отреагирует и на прививку.
5)Катя считает, что прививки бесполезны. Мало того, что заболевших детей среди привитых тоже немало, есть болячки, от которых прививки не помогают. И потом не знаешь, как лечить. А педиатр спрашивает Катю, будет ли она делать прививки своей дочери.
Как рассуждать Кате?
С- Надо делать только то, что гарантирует результат при минимальных рисках. А прививки ни результата не гарантируют, ни минимальных рисков. Значит, не надо их делать.
С+ Любое лекарство не всем и не от всех болезней помогает. Прививки тоже. Чтобы убедиться в пользе, надо сделать прививку.
П- Катя отказывается от лекарств, когда думает, что лекарства не подействуют на дочку. Катя думает, что прививка не подействует. Поэтому она откажется от прививки.
П+ Катя даёт лекарства когда думает, что лекарства подействуют на дочку. Катя думает, что прививки помогут дочери. Поэтому она сделает прививки.
6) Ане скоро делать сыну четвёртую АКДС. Третью перенесли просто ужасно. Сынок капризничал, температурил, шишка долго не спадала, Аня ночами не спала. Потом начиталась про эту вакцину, узнала, сколько страшных последствий бывает.
Как рассуждать Ане?
С- Надо избегать осложнений при лечении. А прививка — то же лечение, такие же осложнения бывают. Раз «не пошло», лучше прекратить.
С+ Надо полностью завершать лечение, чтобы достичь запланированных результатов. А прививка — то же лечение, такие же сложности бывают. Раз начали, надо доделать.
П- Аня отказывается от лечения, когда видит, что лечение ухудшает состояние сына. Прививка ухудшила состояние сына. Поэтому Аня откажется от прививки.
П+ Аня соглашается на лечение, когда рассчитывает, что лечение защитит здоровье сына. Аня рассчитывает, что прививка защитит здоровье сына. Поэтому она сделает прививку.
|
114 |
Глава 2 |
|
7) Наташа считает, что все мамы боятся осложнений. Не знаешь, где что вылезет после этих прививок и что с этим делать. Это как колесо фортуны. Кто-то сделает прививку и нормально себя чувствует, бегает, как слон, а кто-то сделает и потом в лёжку лежит с осложнениями, ещё хуже, чем было. Кому как повезёт. Но впереди плановая вакцинация.
Как рассуждать Наташе?
С- В конце концов, именно мама отвечает за ребёнка, ей виднее. А мама боится. Раз боится, лучше отказаться.
С+ Если всего бояться, лучше детей не заводить. А ребёнок уже есть. Надо делать прививку.
П- Наташа боится осложнений, когда видит, что осложнения вредят ребёнку. Прививка повредит ребёнку. Поэтому Наташа откажется от прививки.
П+ Наташа боится осложнений, когда видит, что осложнения вредят ребёнку. Но сама прививка не вредит ребёнку. Поэтому Наташа согласится на прививку.
8) Настя видит, что детей с осложнениями после прививок всё равно намного меньше, а вот болезней и инфекций вокруг полно. Дети постоянно болеют, и сейчас многие вообще прививки не делают. Лучше сделать прививку и защитить ребёнка от страшных болезней, чем потом мучиться с болячками, которых можно избежать. Впереди плановая вакцинация.
Как рассуждать Насте?
С- Надо избегать бесполезных медицинских манипуляций. Хотя прививки могут помочь, но гарантий нет и дети болеют. Значит, лучше отказаться.
С+ Надо делать всё, что может помочь ребёнку. А прививки могут помочь, хотя стопроцентных гарантий нет. Значит, надо прививать.
П- Настя отказывается от лекарств, когда сомневается, что лекарства подействуют на ребёнка. Настя сомневается, что прививка подействует. Поэтому она откажется от прививки.
П+ Настя даёт лекарства, когда надеется, что лекарства подействуют на ребёнка. Настя надеется, что прививки подействуют на её ребёнка. Поэтому она сделает прививки.
В каждой задаче (ситуации) испытуемому предлагалось самостоятельно сформулировать вариант ответа, если он не считал достаточно верным ни один из предложенных готовых вариантов.
|
|
Эксперимент |
115 |
Сформулируем гипотезу эмпирического исследования, для проверки которой разрабатывалась приведённая выше методика. Для этого рассмотрим три аспекта силлогизма, которые были выделены Яном Лукасевичем при анализе принципа противоречия у Аристотеля [Лукасевич 2012]: онтологический, логический и психологический.
В онтологическом аспекте проверить экспериментально соответствие действительности пока невозможно по двум основаниям — теоретическому и эмпирическому. Теоретическое основание заключается в том, что действительность осмысливается субъектом только в одной из двух логик, но не в обеих логиках сразу. Если возможность осмысления в разных логиках удастся подтвердить эмпирически, возникнет необходимость разработки методологии сопоставления разных логик на эмпирическом материале. Но сейчас такая методология отсутствует. Эмпирическое основание заключается в том, что эмпирически фиксируемых действительностей две: действительность врача и действительность родителей. И культурная практика заботы о здоровье ребёнка такова, что эти действительности юридически и фактически равнозначны. Как правило, на достаточно продолжительном отрезке времени (год и более) родители по собственной инициативе обращаются к педиатрам за консультацией по поводу здоровья ребёнка. А педиатры без поддержки родителей не могут выполнять свои профессиональные задачи. При этом неполное соответствие представлений родителей и медиков о здоровье ребёнка не вызывает сомнений, вопросы возникают только относительно характера этого расхождения.
В логическом аспекте безупречность рассуждения невозможно исследовать эмпирически. Эмпирически можно исследовать лишь представления о безупречности. Тогда исследование уйдёт в дурную бесконечность, поскольку представления о безупречности — не безупречность как таковая.
А психологический аспект силлогизма, выделенный Лукасевичем — убедительную силу рассуждения, — можно исследовать эмпирически. Если для носителей современной российской культуры, среди которых доля арабистов исчезающе мала, убедительная сила С-силлогизма и П-силлогизма окажется сравнимой, авторы будут считать, что им удалось зафиксировать рациональность, построенную не на подведении под класс, не С-рациональность, а построенную на действии как таковом — П-рациональность. Такова основная гипотеза нашего эмпирического исследования.
|
116 |
Глава 2 |
|
Убедительная сила силлогизмов в разработанной авторами методике оценивается по частоте выбора обоснований (ответов), сформулированных в разных логиках.
Обе логики в равной мере предоставляют испытуемым возможность выбора обоснования решения об отказе или решения о согласии на прививку. Это устраняет влияние личного отношения испытуемых к вакцинации на выбор логики обоснования. А экспериментальный характер ситуации позволяет отделить влияние логики рассуждения при принятии рационально аргументированного решения от влияния других возможных факторов. Авторы отдают себе отчёт в том, что поведение в экспериментальной ситуации не соответствует точно реальному поведению. Поэтому авторы не предполагают прямого использования данных проведённого эксперимента в практике педиатрической помощи.
В разработанной методике содержание рассуждений (ответов), построенных в разных логиках, не совпадает точно во всех заданиях. Мера несовпадения содержания обоснований различна в разных заданиях. Данная особенность методики определялась требованием экологической валидности — соответствия «естественной» реальности повседневной жизни [Дружинин 2001: 303]. Авторов интересовало не содержание обоснований, не итоговый вывод, а исключительно логика построения обоснований. Для оценки по частоте выбора убедительной силы рассуждений, построенных в разных логиках, необходимо обеспечить естественность ответов для испытуемых. В противном случае мы получим экспериментальный артефакт: испытуемые не будут выбирать непривычные по форме или неестественные по содержанию рассуждения вне связи с логикой их построения. Естественность формулировок оценивалась в пилотажных исследованиях по ответам испытуемых на вопросы: так бывает на самом деле? ваши знакомые мамы могли бы так рассуждать? Испытуемые нередко отвечали, что так говорят, но на другую тему. В результате были выработаны приведённые формулировки.
Авторы планируют исследовать взаимосвязи не только содержания, но и других факторов с логикой рассуждения. Судя по результатам исследования, которые будут описаны ниже, возможны разные варианты модификации методики. А принцип то же иначе означает лишь возможность совпадения выводов, но не совпадение пути рассуждения. Поэтому с содержанием рассуждений, вероятнее всего, окажутся связаны многие факторы. Доработка методики, уточнение и проверка полученных результатов — перспективы планируемых в дальнейшем исследований.
 |

|
|
|
Эксперимент |
117 |
В исследовании приняли участие 111 человек, из них 107 женщин (медиана возраста 32 года) и 4 мужчины (медиана возраста 37 лет). Мы указываем медианы как более устойчивую характеристику распределения возраста по сравнению со средними значениями. Включение в выборку, например, испытуемого 50 лет не изменит значение медианы, но заметно изменит среднее. В остальном медианы, как и средние значения, обобщённо характеризуют расположение центра распределения на числовой прямой: «медиана возраста 32 года» означает, что половина испытуемых выборки моложе 32 лет, а половина старше.
Персональные данные для проведения исследования не запрашивались, но часть испытуемых по собственной инициативе сообщала контактные данные для получения информации об общих результатах исследования. При статистической обработке ответы испытуемых обезличивались, испытуемым присваивались условные номера, соответствующие порядку их участия в исследовании.
Медиана возраста ребёнка (или младшего из нескольких, если ребёнок не единственный) — 2 года 9 месяцев. Распределение детей по полу: 50 девочек, 61 мальчик.
Можно считать, что выборка характеризуется достаточной репрезентативностью по полу, возрасту испытуемых и их детей [Федеральная служба государственной статистики 2018]. Для статистической формулировки целей нашего исследования — оценка частоты использования П-логики «в первом приближении» — ошибка выборки несущественна. При постановке новых и более конкретных исследовательских задач потребуется уточнять особенности интересующей нас выборки («жители крупных городов», «жители Сибири», «молодые семьи» и др.). Перечисленные факторы, как и многие другие, могут существенно влиять на частоту использования П-логики. Распределение и состав населения в разных регионах России существенно неравномерны, поэтому обобщённая оценка «в целом по России» будет заведомо неточна по отношению к любой отдельной группе.
Сбор эмпирических данных проводился Е.Е. Сефтон под руководством В.К. Солондаева при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра на факультете психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Такое опосредование сбора данных до некоторой степени позволило избежать неосознаваемых искажений, связанных с заинтересованностью авторов настоящей книги в подтверждении своих теоретических
|
118 |
Глава 2 |
|
предположений. Авторы выражают Е.Е. Сефтон искреннюю благодарность за сотрудничество.
Статистическая обработка результатов проводилась в свободном статистическом программном пакете R [R Core Team 2019]15. Статистическая обработка является общепринятым требованием к эмпирическим исследованиям в психологии. Если в исследовании приняло участие более одного испытуемого, полученные результаты требуют статистического обобщения, поскольку разные испытуемые дают частично разные ответы. Без статистической обработки мы были бы вынуждены привести полный перечень ответов испытуемых и остановиться на этом.
В результате статистической обработки данных проведённого исследования нами получено несколько результатов, которые будут описаны ниже в порядке их получения. Содержательное обобщение и интерпретация результатов будут даны в следующей части главы.
1. Получив ответы испытуемых на вопросы методики исследования, просуммируем абсолютные частоты выбора разных по логике построения рассуждения ответов всех испытуемых на все восемь заданий (ситуаций) вне зависимости от вывода.
Вне зависимости от вывода П-логику рассуждения выбрали в 45,75% (42,45%), С-логику в 54,25% (50,34%) случаев. В скобках приведены проценты от общего числа ответов без собственных формулировок испытуемых, поэтому сумма процентов в скобках меньше 100%.
Как мы видим, наблюдаются некоторые различия частоты выбора испытуемыми ответов, сформулированных в С- и П-логике. И возникает вопрос: можно ли на основании полученных данных сказать, что зафиксированная нами частота выбора ответов сохранится при повторении исследования, или же полученные частоты случайны?
|
|
Эксперимент |
119 |
На эти вопросы отвечают статистические критерии. Статистический критерий — правило, по которому принимается или отвергается статистическая гипотеза о распределении вероятностей, лежащем в основе наблюдаемой выборки данных.
Вначале проверим статистические гипотезы о том, каковы ответы испытуемых во всей выборке в целом. Вероятность точного повторения результатов при повторном проведении исследования близка к нулю. Но каков диапазон ожидаемых результатов гипотетически возможных повторных исследований?
Оценим его для каждого из трёх возможных исходов (выбор ответа в С-логике, выбор ответа в П-логике, самостоятельная формулировка ответа) по биномиальному критерию согласно схеме испытаний Бернулли [Айвазян, Енюков, Мешалкин 1983]. Получаем следующие оценки:
относительная частота (в долях от единицы, чтобы сравнивать с выборками другого размера) выбора ответа в С-логике меньше 0.55, но больше 0.45 (для нулевой гипотезы «частота выбора ответа в С-логике больше 0.55» достигаемый уровень значимости16 p-value = 0.003; для нулевой гипотезы «частота выбора ответа в С-логике меньше 0.45» p-value = 0.0008);
относительная частота выбора ответа в П-логике меньше 0.48, но больше 0.37 (для нулевой гипотезы «частота выбора ответа в П-логике больше 0.48» p-value = 0.0005; для нулевой гипотезы «частота выбора ответа в П-логике меньше 0.37» p-value = 0.0005);
относительная частота самостоятельной формулировки ответа меньше 0.1, но больше 0.05 (для нулевой гипотезы «частота самостоятельной формулировки ответа больше 0.1» p-value = 0.0023; для нулевой гипотезы «частота самостоятельной формулировки ответа меньше 0.05» p-value = 0.0026).
Так вместо точечных оценок мы получили интервальные, которые гораздо более устойчивы при повторных исследованиях.
|
120 |
Глава 2 |
|
В методике ответы связаны. Предложив самостоятельную формулировку, испытуемый уже не может выбрать один из готовых ответов. Выбрав ответ в П-логике, испытуемый уже не может выбрать ответ в С-логике, и т.д. Но психологические факторы выбора ответов «за рамками методики» эмпирически пока не изучались и вполне могут оказаться разными для разных ответов. Поэтому диапазоны частот оценивались по отдельности. Сложив максимальные оценки, получаем сумму относительных частот 1.13, а сложив минимальные, получаем 0.87. Отклонение от 1 в обе стороны составляет 0.13. Так и должно быть, поскольку при оценке по отдельности диапазоны частот частично перекрываются.
Самостоятельные формулировки, как мы видим, несколько усложняют сравнение частот выбора разных логик, увеличивая перекрытие вероятных диапазонов частот. Но самостоятельные формулировки представляют существенный содержательный интерес для нашего исследования. Рассмотрим их подробнее. Приведём и прокомментируем три типичных примера.
1. Исп. 79, ситуация 1: Лёгкая ОРВИ вне обострения не является ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ к вакцинации. Стоило бы проконсультироваться с нормальным врачом, чтобы найти правильный ответ.
Положительная оценка педиатром возможности вакцинации описана в тексте ситуации 1. Но испытуемый как будто не замечает этой оценки и рекомендует «проконсультироваться с нормальным врачом». Зачем? Для оценки содержания и логики ответа необходимо выяснить основания отказа испытуемым от части информации и смысл предлагаемой консультации.
2. Исп. 40, ситуация 4: Педиатр быстро испарится, если ребёнок получит ПВО (поствакцинальные осложнения. — А.С., В.С.). Решать только родителям.
Здесь испытуемый добавляет в ситуацию прогноз поведения врача при одном из возможных — неблагоприятном — варианте развития ситуации: «педиатр быстро испарится». Далее, вместо конкретного ответа испытуемый констатирует абстрактное право родителей на согласие или отказ.
|
|
Эксперимент |
121 |
Исп. 106, ситуация 3: Если есть сомнения, нужен врач, который их развеет или подтвердит, тот это врач или нет, я не в курсе.
Из ответа не ясно, как может врач подтвердить или развеять сомнения родителей. Врач скажет родителям что-то новое? Или врач вызовет у родителей какие-то эмоции? Или родители почувствуют что-то?
С одной стороны, приведённые примеры иллюстрируют невозможность оценки логики рассуждения и даже согласия на вакцинацию без дополнительных уточнений. Далее такие ответы не обрабатывались.
С другой стороны, самостоятельные формулировки испытуемых содержательно не противоречат предложенным готовым ответам. С учётом максимального, по статистической оценке, значения относительной частоты самостоятельных ответов 0.1 можно считать, что в целом предложенные варианты отражают не только логику рационализации, но и содержание ситуации выбора с точки зрения испытуемых. И этот момент важен тем, что подтверждает корректность методики: по статистической оценке, от 90 до 95 из 100 испытуемых согласятся с одним из предложенных вариантов обоснования. А самостоятельные формулировки ответов не противоречат предложенным вариантам.
Описанная выше обработка результатов позволяет нам констатировать, что испытуемые выбирают рассуждения (ответы), сформулированные в С- и П-логике, с примерно равной вероятностью (Результат 1). «Примерно равная вероятность» здесь означает, что под влиянием пока не изучавшихся факторов испытуемые с априорно одинаковой вероятностью могут выбирать ответы в С-логике как на 18% чаще17 (например, 55% и 37%), так и на 3% реже ответов в П-логике (например, 45% и 48%). Но вероятность получить кратное различие (например, 75% и 25% «в пользу» С-логики) не превышает 0.01.
2. Оценим частоту ответов в разных логиках с учётом решения о согласии или отказе от вакцинации.
Всего испытуемые выбрали рассуждения (ответы), сформулированные в С-логике с выводом «отказаться от вакцинации», 218 раз;
|
122 |
Глава 2 |
|
в С-логике с выводом «согласиться на вакцинацию» — 229 раз; в П-логике с выводом «отказаться от вакцинации» — 73 раза; в П-логике с выводом «согласиться на вакцинацию» — 304 раза.
Наблюдается связь логики выбираемых рассуждений с тем выводом, к которому они приводят. Оценим эту связь статистически по точному критерию Фишера18. Наблюдаемое отношение шансов равно 3.96. Это означает, что выбор ответа в П-логике в 3.96 раза повышает шансы согласия на вакцинацию. И обратное утверждение верно: согласие на прививку аргументируется рассуждением, построенным в П-логике, гораздо чаще, чем в С-логике. Совокупность наблюдений весьма категорично свидетельствует против нулевой гипотезы «истинное отношение шансов равно 1 (связь отсутствует)»: p-value < 2.2/1016; 0.95 доверительный интервал отношения шансов 2.86‒5.52. Это означает, что выбор П-логики для построения рассуждения о решении повышает шансы согласия на вакцинацию. Вряд ли в новом исследовании мы получим точно такое же отношение шансов 3.96. Но с вероятностью 0.95 в новом исследовании мы получим отношение шансов от 2.86 до 5.52. Речь именно о шансах, а не об относительных частотах. Шансы события = (отн. частота события) / (1 — отн. частота события). Наша методика позволяет испытуемым выбирать рассуждения, приводящие к выводу «согласиться на вакцинацию», в С- и П-логике. Определение шанса, в отличие от относительной частоты, учитывает и устраняет данный момент, позволяя выделить «чистую» связь логики и согласия.
Таким образом, выбор рассуждений (ответов), построенных в П-логике, почти в четыре раза повышает шансы вывода «согласиться на вакцинацию» (Результат 2).
3. Охарактеризуем соответствие результатов всей выборки в целом и результатов каждого отдельного испытуемого. Мы можем ограничиться обобщением результатов по всей выборке в целом, рассматривая всю выборку как одного «обобщённого» единичного испытуемого. Но примерно одинаковые частоты выбора рассуждений (ответов) в разных логиках описывают два возможных варианта распределения индивидуальных ответов:
|
|
Эксперимент |
123 |
а)одни испытуемые выбирают только рассуждения (ответы), построенные в С-логике, а другие — только в П-логике;
б)разные испытуемые выбирают рассуждения (ответы), построенные в С- и П-логике, с сопоставимой частотой.
Если мы зафиксируем вариант а), это будет согласовываться с гипотезой о том, что каждый отдельный человек осмысливает мир преимущественно в рамках одной рациональности. Вариант б) покажет возможность осмысления мира одним человеком в разных рациональностях.
Сначала оценим возможность выбора между вариантами а) и б) на основании полученных данных. Для этого рассчитаем относительную частоту выбора ответов в П-логике и относительную частоту согласия на вакцинацию для каждого отдельного испытуемого по всем восьми заданиям методики.
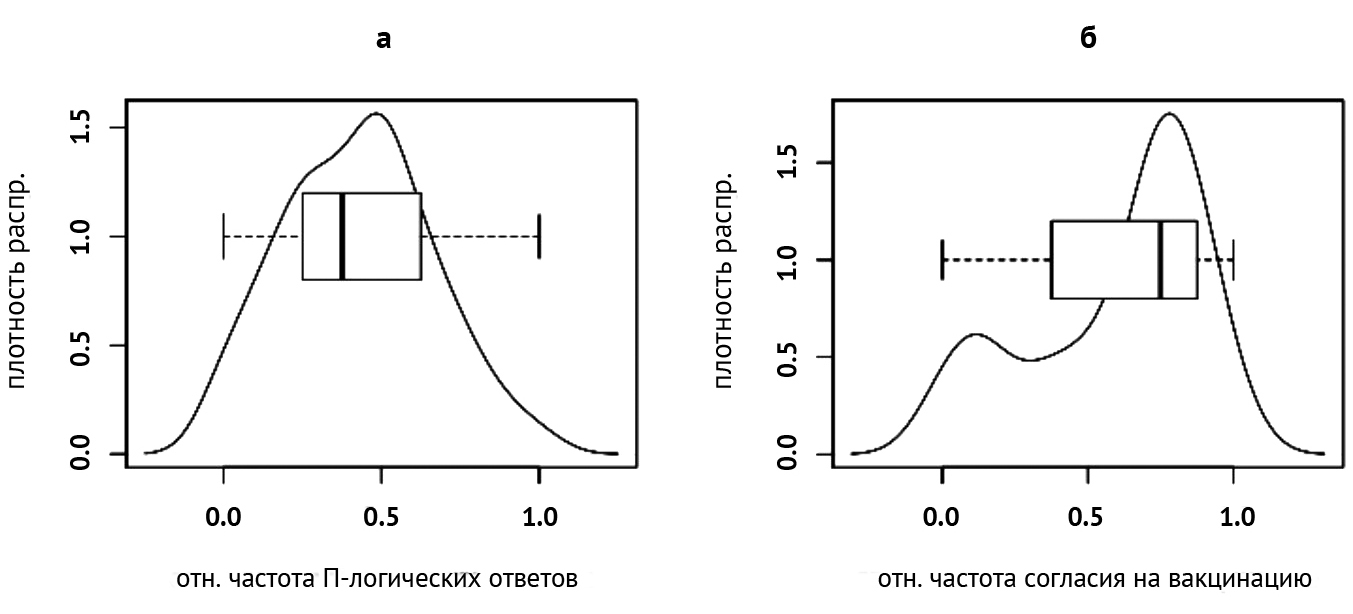
Рис. 7. Распределение относительных частот П-логических ответов (а)
и согласия на вакцинацию (б) в выборке исследования
Вариационный ряд относительной частоты выбора П-логики каждым отдельным испытуемым графически представлен боксплотом19 на рис. 7-а. Боксплот делит выборку на четыре части. Мы видим, что
|
124 |
Глава 2 |
|
минимум относительной частоты выбора П-логики равен нулю, а максимум единице. Это означет, что люди, категорично выбирающие во всех ответах только одну из логик, встречаются в нашей выборке, но редко. Четверть испытуемых использует П-логику с относительной частотой от 0 до 0.25. Ещё четверть испытуемых — с относительной частотой от 0.25 до 0.38; третья четверть — с относительной частотой от 0.38 до 0.63. И четверть испытуемых предпочитает использовать П-логику в большинстве ситуаций — относительная частота от 0.63 до 1.
Оценив параметры распределения относительной частоты выбора П-логики по критерию Вилкоксона в модификации Манна—Уитни (кривая плотности распределения на Рис. 7-а), получаем точечную оценку медианы — 0.44. Совокупность наблюдений весьма категорично свидетельствует против нулевой гипотезы «истинное значение медианы равно 0»: V = 5460, p-value < 2.2/1016; 0.95 доверительный интервал медианы 0.38‒0.50.
Иными словами, с высокой вероятностью при повторении исследования мы увидим, что половина выборки выбирает П-логику реже, чем в 38‒50% ситуаций, а вторая половина чаще. Крайне маловероятно, что в выборке исследования не обнаружится испытуемых, которые используют П-логику чаще С-логики. Вероятнее всего, в любой новой выборке мы увидим примерно треть таких испытуемых. И в любой новой выборке примерно половина испытуемых будет пользоваться разными логиками с сопоставимой частотой. Следовательно, большинство испытуемых не склонны к использованию только одной логики. Этот факт, по мнению авторов, значим не только для ответа на поставленные в настоящей книге вопросы. Он требует дальнейшей проверки и построения интерпретации в случае подтверждения.
Мы видим, что крайние значения относительных частот выбора каждым отдельным испытуемым в восьми заданиях рассуждений (ответов), построенных в П-логике, наблюдаются реже средних (Результат 3). Данный результат эмпирически показывает возможность осмысления мира одним человеком в разных рациональностях.
4. В связи с выявленной для выборки в целом связью выбора П-логики и согласия на вакцинацию (Результат 2) нас интересует аналогичная связь и для любого отдельного испытуемого.
|
|
Эксперимент |
125 |
Статистически необходимым, но не единственным условием связи является индивидуальная вариативность относительной частоты выбора П-логики (Результат 3). Оценим второе необходимое условие — наличие индивидуальной вариативности согласия на вакцинацию. Индивидуальная вариативность относительной частоты выбора П-логики и индивидуальная вариативность согласия на вакцинацию — достаточные условия для корректной статистической оценки связи выбора П-логики и согласия на вакцинацию у любого отдельного испытуемого.
Вариационный ряд относительной частоты согласия на вакцинацию каждого отдельного испытуемого во всех восьми заданиях методики графически иллюстрирует боксплот на Рис. 7-б. Мы видим, что минимум относительной частоты согласия на вакцинацию равен нулю, а максимум единице. Это значит, что люди, категорично настроенные «за» или «против» вакцинации, встречаются в нашей выборке, но редко. Четверть испытуемых соглашается на вакцинацию с относительной частотой от 0 до 0.38. Ещё четверть — с относительной частотой от 0.38 до 0.75; третья четверть предпочитает соглашаться на вакцинацию в большинстве случаев — с относительной частотой от 0.78 до 0.88. И четверть испытуемых соглашается на вакцинацию «почти всегда»: относительная частота согласия от 0.88 до 1.
Оценив параметры распределения относительной частоты согласия на вакцинацию по критерию Вилкоксона в модификации Манна—Уитни (кривая плотности распределения на Рис. 7-б), получаем точечную оценку медианы согласия 0.69; для альтернативной гипотезы «истинное значение медианы равно 0» V = 5460, p-value < 2.2/1016; 0.95 доверительный интервал медианы 0.62‒0.75.
Иными словами, с высокой вероятностью при повторении исследования мы увидим, что половина выборки соглашается на вакцинацию реже, чем в 62‒75% ситуаций, а вторая половина чаще.
Следовательно, крайние значения относительных частот выбора каждым отдельным испытуемым рассуждений (ответов), приводящих к выводу «согласиться на вакцинацию», наблюдаются реже средних (Результат 4). Данный результат является вторым необходимым условием корректной статистической оценки интересующей нас связи частоты выбора П-логики и частоты согласия на вакцинацию у любого отдельного испытуемого. Первым необходимым
|
126 |
Глава 2 |
|
условием является Результат 3. Результатов 3 и 4 достаточно для статистической оценки.
5. Оценим статистически параметры связи относительной частоты выбора П-логики и относительной частоты согласия на вакцинацию. Это позволит сопоставить Результат 2, полученный на выборке как одном «обобщённом» испытуемом, с результатами любого отдельного испытуемого аналогично Результатам 1 и 3. Необходимые и достаточные статистические условия проводимого анализа определяются Результатами 3 и 4.
Построим модель, статистически формализующую следующее утверждение: «Чем чаще испытуемый выбирает П-логику в своих ответах, тем чаще он соглашается на вакцинацию, и наоборот». Такое утверждение статистически формализуется как линейная регрессия двух переменных [Айвазян, Енюков, Мешалкин 1985]. По данным линейного регрессионного анализа, исправленный коэффициент детерминации (adjusted R-squared) равен 0.37. Иными словами, связь между частотой выбора П-логики любым отдельным испытуемым и частотой его согласия на вакцинацию объясняет 37% разброса относительной частоты согласия на вакцинацию в исследованной выборке. И эта связь имеет высокую статистическую значимость20: F-statistic = 65.87 on 1 and 109 DF, p-value = 7.9/1013. Результаты регрессионного анализа совпадают с анализом корреляционной связи: фиксируется достаточно высокий и статистически значимый коэффициент корреляции r Спирмена = 0.61; p-value = 7.9/1013. Графически данная связь показана на Рис. 8. Каждая точка соответствует результатам одного испытуемого и характеризуется двумя переменными: относительной частотой согласия на вакцинацию (вертикальная ось) и относительной частотой выбора ответов в П-логике (горизонтальная ось). Наклонная линия показывает описанную выше связь между переменными. Коэффициент линейной корреляции соответствует косинусу угла наклона линии регрессии к горизонтальной оси.
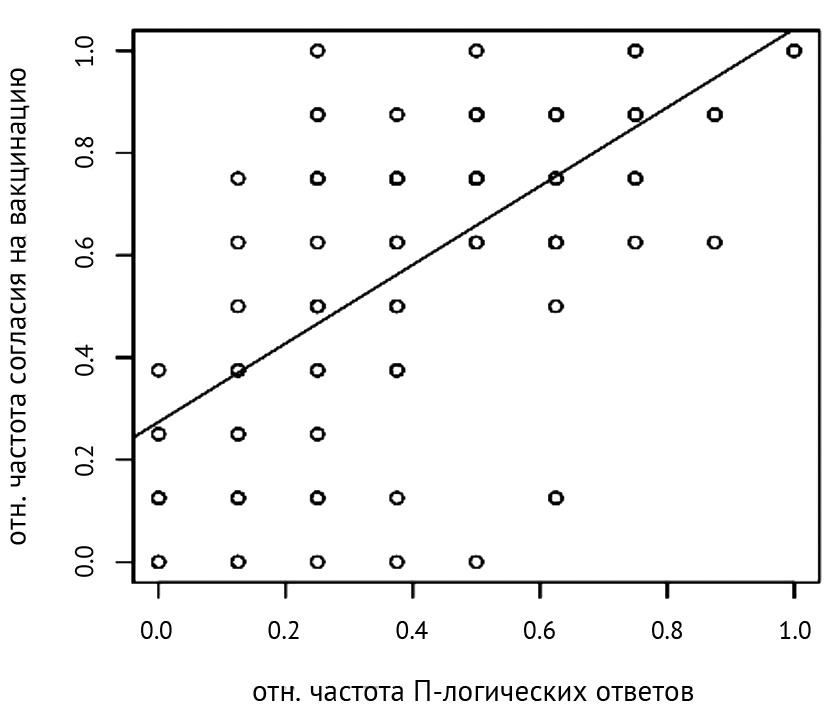
|
|
Эксперимент |
127 |
Рис. 8. Линейная оценка связи относительной частоты согласия
на вакцинацию с относительной частотой выбора П-логических ответов
Мы верифицировали статистически утверждение: чем чаще испытуемый выбирает П-логику в своих ответах, тем чаще он соглашается на вакцинацию, и наоборот (Результат 5).
Результаты 3‒5 подтверждают и дополняют Результаты 1‒2. При статистической обработке ответов группы как одного «обобщённого» по правилам С-логики испытуемого мы получаем результаты, соответствующие результатам любого отдельного испытуемого, которые, как будет показано ниже, могут быть интерпретированы в П-логике. Однако остаётся открытым вопрос о возможном влиянии неизвестных пока побочных переменных на полученные результаты. Побочными переменными могут быть, например, описываемые в ситуации события, отношение испытуемого к прививкам, уровень тревожности и др.
В.Н. Дружинин описывает различные способы контроля побочных переменных: элиминация, константность условий, балансировка и контрбалансировка, рандомизация [Дружинин 2001]. Балансировка, контрбалансировка, рандомизация предполагают варьирование выборок, а элиминация и константность условий — полный контроль процедуры исследования. В нашем случае такие способы контроля побочных переменных пока неприменимы.
|
128 |
Глава 2 |
|
При формировании выборки мы исходили из главного требования экологической валидности — соответствия «естественной» реальности повседневной жизни [Дружинин 2001: 303]. В нашей стране вопрос вакцинации так или иначе решают все родители, у которых ребёнок (младший из нескольких детей) не достиг 14 лет [Национальный календарь 2019]. Поэтому мы включали всех испытуемых, у которых был хотя бы один ребёнок до 14 лет, и никак не варьировали выборку, например, по уровню образования родителей.
Однако возможен и такой способ контроля побочных переменных, как построение типологии (выделение сходных групп) испытуемых средствами статистического или машинного обучения (интеллектуального анализа данных, machine learning) [Джеймс и др. 2016]. Если выборка нашего исследования неоднородна по влиянию пока не известных нам побочных переменных, это влияние должно как-либо проявиться в ответах испытуемых. Оценив однородность выборки, мы сможем убедиться в корректности полученных результатов (если выборка однородна) или усомниться (при обнаружении заметной неоднородности).
Попробуем разными статистическими способами узнать, однородна ли исследованная нами выборка по возможному влиянию побочных переменных на полученные результаты. Сначала проведём нечёткий кластерный анализ, используя функцию fanny библиотеки cluster пакета R. Мы дадим алгоритму кластеризации задачу выделить по результатам выборки две группы испытуемых. Выделить без нашего участия и без подсказок с нашей стороны, только по значению функции принадлежности, определяемой алгоритмом. Если кластеризация возможна, любой испытуемый, например, первой группы будет больше похож на других испытуемых первой группы, чем на испытуемых второй группы. Затем мы «предложим» другому алгоритму автоматически построить две первые «главные компоненты». Главные компоненты функционально и графически аналогичны координатным осям в эвклидовом пространстве. Отличие заключается в том, что оси координат задаются исследователем, а главные компоненты строятся по имеющимся данным. Главные компоненты строятся так, чтобы первая главная компонента объясняла максимальную дисперсию (разброс) данных. Вторая главная компонента строится ортогонально первой и объясняет максимальную дисперсию, не объясняемую первой. Далее аналогично могут строиться третья, четвёртая и т.д. компоненты. Мы берём только первые две. Если в наших данных есть неоднородность, позволяющая
|
|
Эксперимент |
129 |
выделить «естественные» группы среди испытуемых, эти группы обязательно будут видны в плоскости первых двух главных компонент. Подробности такого анализа данных подробно описаны в литературе [Айвазян и др. 1989; Джеймс и др. 2016]. Результаты проведённого кластерного анализа представлены на Рис. 9.
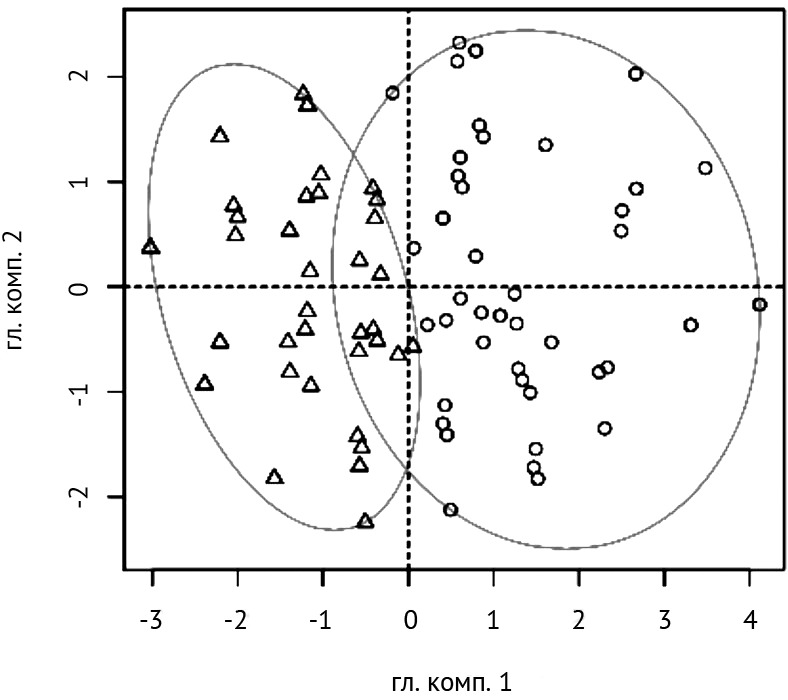
Рис. 9. Распределение выборки в пространстве
двух первых главных компонент при выделении двух кластеров
Кружки и треугольники обозначают испытуемых, автоматически отнесённых статистическим алгоритмом к одной из двух групп, которые мы «попросили» выделить алгоритм нечёткой кластеризации. Две первые главные компоненты (пунктирные линии), образующие координатную плоскость, объясняют 48.6% разброса данных. Мы видим, что испытуемые распределены в плоскости двух первых главных компонент достаточно равномерно. Заметная доля треугольников находится на пересечении групп, автоматически выделенных алгоритмом нечёткой кластеризации. Сколько-нибудь отчётливая визуальная граница между группами отсутствует.
Визуальный анализ не показывает возможности кластеризации. Это подтверждается сравнением коэффициентов принадлежности испытуемых к выделенным группам: испытуемые получили равные
|
130 |
Глава 2 |
|
коэффициенты принадлежности к обеим группам, которые мы задали алгоритму кластеризации. Любой испытуемый с равной обоснованностью может быть включён в любую из двух групп. Иными словами, алгоритм кластеризации «выполнил нашу просьбу» о разделении испытуемых на две группы только формально-механически. Вероятнее всего, алгоритм «не нашёл» статистически существенных оснований для выделения разных групп в однородной выборке. Если неоднородность, позволяющая группировать испытуемых, имеется, алгоритм «находит» её, судя по нашему опыту статистической обработки и литературным данным [Джеймс и др. 2016]. Поэтому мы считаем, что наши эмпирические данные достаточно однородны.
Вывод об однородности исследованной выборки подтверждает и оценка оптимального числа групп с помощью функции Mclust [Scrucca et al. 2016]. Максимально полное объяснение разброса результатов мы получим при выделении более 30 групп испытуемых, а минимально полное объяснение разброса результатов мы получаем при выделении одной группы.
Судя по однородности данных, описанные выше Результаты 1‒5 в существенной мере определяются именно теми двумя переменными, которые варьировались в исследовании: логика рассуждения и его вывод — согласие на вакцинацию либо отказ. Это даёт основания рассчитывать на воспроизведение полученных результатов при повторе исследования на другой выборке. Эмпирическая проверка устойчивости результатов планируется в дальнейших исследованиях.
А на момент написания настоящей книги авторы могут считать, что выборка достаточно однородна по влиянию побочных переменных (Результат 6).
 |

|
Проинтерпретируем полученные результаты. Для этого приведём их краткую формулировку без обоснования статистическими оценками.
1. Испытуемые выбирают рассуждения (ответы), сформулированные в С- и П-логике, с примерно равной вероятностью.
2. Выбор рассуждений (ответов), построенных в П-логике, почти в четыре раза повышает шансы вывода «согласиться на вакцинацию».
|
|
Эксперимент |
131 |
3. Крайние значения относительных частот выбора каждым отдельным испытуемым в восьми заданиях рассуждений (ответов), построенных в П-логике, наблюдаются реже средних.
4. Крайние значения относительных частот выбора каждым отдельным испытуемым рассуждений (ответов), приводящих к выводу «согласиться на вакцинацию», наблюдаются реже средних.
5. Чем чаще испытуемый выбирает П-логику в своих ответах, тем чаще он соглашается на вакцинацию, и наоборот.
6. Выборка исследования достаточно однородна по влиянию побочных переменных.
Мы видим, что результаты не рядоположны. Они взаимосвязаны. Результаты 3‒5 подтверждают Результаты 1 и 2. Но не дублируют, а сообщают нечто новое, позволяют установить соответствие выборки исследования как «обобщённого группового субъекта» и любого, наугад выбранного, единичного испытуемого. Выборка как целое «ведёт себя» так же, как любой единичный испытуемый. А Результат 6 аргументирует корректность («валидность» на языке экспериментальной психологии) остальных результатов.
С учётом взаимосвязи эмпирические результаты можно сформулировать иначе. Их окажется не шесть, а два:
А.Чаще всего любой отдельный испытуемый некоторые ситуации, требующие решения о вакцинации ребёнка, осмысливает в С-логике, а другие ситуации осмысливает в П-логике. Испытуемые, осмысливающие все ситуации только в одной логике, встречаются значительно реже испытуемых, осмысливающих разные ситуации в разных логиках.
Б. Осмысливая ситуацию в П-логике, испытуемые чаще соглашаются на вакцинацию, чем отказываются.
Мы получили эмпирическое подтверждение того, что аргументация по правилам П-логики может признаваться убедительным обоснованием поведения носителями современной российской культуры. Иначе говоря, П-логика «интуитивно понятна» носителям современной российской культуры примерно в такой же мере, как С-логика. Кому-то «интуитивно ближе» С-логика, кому-то П-логика. Но обычно испытуемые могут «переключаться» между логиками, не ограничиваясь единственной логикой, даже той, которая нормативна в культуре.
Что же означают полученные результаты, кроме эмпирической аргументации теоретических предположений авторов? Какие перспективы открывает П-логика для психологии?
|
132 |
Глава 2 |
|
Для ответа сформулируем Теоретический результат на основе эмпирических: изменяя логику осмысления ситуации, испытуемые изменяют своё поведение. Возможность изменить логику осмысления ситуации обоснована Результатом А, изменение поведения обосновано Результатом Б.
Этот Теоретический результат необходимо прокомментировать. В приведённой формулировке Теоретического результата мы намеренно акцентируем влияние логики на поведение. Второй полукруг «логико-психологического кольца» — влияние поведения на предпочитаемую логику осмысления ситуации — требует дополнительных эмпирических исследований. В методике проведённого нами исследования испытуемые «одинаково легко» могли согласиться на вакцинацию и отказаться от вакцинации в выводе рассуждения, построенного по правилам обеих рассматриваемых нами логик. «Одинаково легко» мы пишем в кавычках, поскольку на выбор ответа, несомненно, влияют не только вывод и не только логика рассуждения. На выбор ответа влияет и содержание рассуждения. Например, одному испытуемому может быть легче согласиться с рассуждением, в котором говорится о вакцине, а другому — с рассуждением, в котором говорится о болезни. И для смягчения влияния содержания в методике предлагались разные ситуации, с содержательно разной аргументацией ответов. Иными словами, методика проведённого исследования была направлена на оценку возможности влияния логики на поведение, хотя статистически мы могли зафиксировать только связь переменных. Для эмпирической оценки влияния поведения на логику осмысления ситуации требуются другие исследования.
Формулировка одного основного Теоретического результата приведена авторами, чтобы пояснить цель соединения в одной работе эмпирико-психологического исследования с логическим. Логика не нуждается в психологическом обосновании. Скорее наоборот — как в работах Ж. Пиаже, — психологическое исследование строится на логическом основании, одновременно исследуя «повседневную жизнь» логики в индивидуальном сознании. П-логика как эмпирическая реальность вполне выводима («эмпирико-источниковедчески») из тех арабских текстов, по которым она была формализована. Но для вывода о том, что изменение логики осмысления сопровождается изменением поведения, нужны эмпирико-психологические данные. Изменение поведения субъекта, осмысливающего
|
|
Эксперимент |
133 |
мир в той или иной логике, из самих логических положений не выводимо.
Конечно, полученные результаты требуют проверок, перепроверок и уточнения. Авторы прекрасно отдают себе отчёт в том, что экспериментальная модель не тождественна повседневной жизни. Но эмпирически показанная возможность того, что смена логики осмысления сопровождается изменением поведения, заслуживает того, чтобы рассмотреть её внимательнее.
Напомним естественную установку сознания, сформулированную в Главе 1:
1. Внешний мир имеется, он устойчив, един и единственен.
2. Наше «Я» имеется, оно устойчиво, едино и единственно.
3. И мир, и «Я» многообразны, но это не отменяет первых двух положений.
Результаты нашего исследования показывают, что большинство испытуемых пользуются обеими логиками. Совместима ли приведённая формулировка естественной установки сознания с изменением логики осмысления устойчивого, единого и единственного мира и нашего «Я»? Вполне совместима, на наш взгляд. Но только в индивидуальном сознании. Если мир и «Я» многообразны, так почему бы им не «поворачиваться разными сторонами» к индивидуальному сознанию? Почему бы индивидуальному сознанию не «переключаться» с видения мира как совокупности всех вещей (С-логика) на видение мира как течения всех процессов (П-логика)? И почему бы индивидуальному сознанию не переключаться много раз? Если «Я» устойчиво, едино и единственно «внутри» каждого видения, само «переключение» не нарушает его устойчивости и единства. Мир так же останется устойчивым, единым и единственным. Изменение логики осмысления мира и «Я» будут заметны лишь внешнему наблюдателю, непрерывно наблюдающему изменения чужого сознания, подобно тому, как Ж. Пиаже исследовал развитие психики ребёнка. Этому наблюдателю потребуется фиксировать наблюдения. Данные должны читаться однозначно, поэтому наблюдателю придётся выбрать любую, но только одну, логику для фиксации своих наблюдений. Так «переключение» видения мира, доступное индивидуальному сознанию, становится невозможным для культуры. И возникают сложности взаимопонимания культур, пользующихся разными нормативными логиками осмысления.
Может показаться, что этот тезис противоречит всему, что было сказано о естественной установке сознания, — ведь эта установка
|
134 |
Глава 2 |
|
едина для всех, универсальна. Во всяком случае, мы не говорили ничего, что противоречило бы такой универсальности. Это верно. И на этом следует остановиться особо, чтобы показать, насколько коварен тезис об универсальности и всеобщности — излюбленный тезис традиционной европейской философии.
Формулировка естественной установки и в самом деле дана так, чтобы быть универсально применимой, вне зависимости от различия культур. Так оно и есть. Но любая формулировка, любые слова должны быть поняты. А поняты они могут быть только в одной из логик: либо в С-логике, либо в П-логике. Это вытекает из того, что любое понимание основывается на механизме субъект-предикатной склеенности, — а этот механизм разный в разных логиках.
Это означает, что одна и та же формулировка будет иметь разный смысл, будучи истолкована в разных логиках, — а значит, и представителями разных культур, эти логики разворачивающих.
Так универсальное оказывается по необходимости партикулярным и не может не быть им. Мы пока не умеем мыслить «над» логиками, мы можем мыслить только «внутри» какой-то из логик.
Например, «Я» едино и единственно, и то же самое следует сказать о мире — такова естественная установка нашего сознания. Эта формулировка универсальна. Но «единство» и «единственность» имеют разный смысл в С-логике и П-логике. Для С-логики это — единая и одна субстанция, как Единое неоплатоников или как Бог Спинозы. А для П-логики это — единственность Действователя, но не субстанциальная, а его единственность как источника всех действий в мире, которые, само собой, разнообразны. Так же и «Я»: в С-логике оно будет субстанциально одно (автономная личность европейца), а в П-логике оно будет той точкой, из которой проистекают все без исключения действия человека и которая непременно связана этими действиями, как сетью, с множеством других «Я».
Итак, и мир, и «Я» для нашего сознания всегда логически окрашены, они универсальны только номинально, тогда как их устройство и «поведение» различны в силу различия логик. И полученные нами данные позволяют «эмпирически ответственно» говорить о том, что поведение человека при смене логики осмысления с высокой вероятностью меняется. И что эмпирическая фиксация логики осмысления вполне возможна.
 |

|
|
|
Эксперимент |
135 |
На момент написания настоящей книги мы отрефлексировали три потенциально существенные, с точки зрения психолога, характеристики П-логического осмысления. На привычном языке С-логики эти отличия можно условно обозначить как активность, субъективность, нейтральность.
Активность. Начнём с активности. При С-логическом осмыслении контроль поведения как психологическая функция субъекта, лежащая в основе дееспособности и вменяемости, как бы «собирается» из отдельных составных частей:
… Контроль поведения рассматривается как единая система, включающая три субсистемы регуляции (когнитивный контроль, эмоциональную регуляцию, волевой контроль), которые основаны на ресурсах индивидуальности и интегрируются, создавая индивидуальный паттерн саморегуляции. Уровень развития данной интегративной характеристики определяется уровнем развития человека как субъекта, отражающего степень интегративности всех его психических особенностей и свойств. Эффективность контроля поведения связана с возможностями реализации психических ресурсов для решения жизненных задач, значимость которых определяется субъектом, им же отбираются осознанно и/или неосознанно стратегии их решения. Соотношение стратегий решения может указывать на профиль контроля поведения, на ресурсы функционирования которого они опираются.
Контроль поведения мы понимаем как психологический уровень регуляции, реализующий индивидуальные ресурсы психической организации человека, обеспечивающий соотношение внутренних возможностей и внешних целей. Контроль поведения является основой самоконтроля.
Используя термин «контроль поведения», мы хотим подчеркнуть именно психологический уровень в организации регуляции, поскольку термин «регуляция» используется очень широко: регуляция напряжения, кровяного давления, регуляция питания и т.д. Термин «саморегуляция» указывает в большей степени на уровень осознанной, произвольной регуляции собственного поведения, который, как мы считаем, имеет предшествующие базовые уровни. Однако особенности более низких уровней регуляции поведения предшествуют формированию зрелых форм. Более того, индивидуальность человека возникает не вдруг, а формируется шаг за шагом, опираясь на его
|
136 |
Глава 2 |
|
генетико-средовую уникальность: его индивидуальный генотип и его уникальный средовой опыт, приводящие к становлению индивидуальности человека [Сергиенко, Виленская. Ковалева 2010: 18‒19; курсив авторов. — А.С., В.С.].
В приведённой цитате всё верно. Контроль поведения рассматривается авторами приведённой цитаты как свойство субъекта. Исходно предполагается субъект (человек как субъект), предполагается поведение, которое контролируется субъектом примерно так же, как если бы поведение было внешним по отношению к субъекту, а не «моим собственным» или «его собственным» поведением. Конечно, такой контроль поведения развивается и (или) формируется далеко не вдруг.
Но при П-логическом осмыслении контроль поведения не «возникает» и не «развивается». Можно сказать, что контроль поведения для П-логической научной картины мира — изначальная реальность. «Я» контролирующего своё поведение субъекта, как и мир, психологически и эмпирически выводятся из поведения. Не наоборот. Но и для современной психологии, построенной в С-логике, именно поведение является основной эмпирически фиксируемой реальностью. При осмыслении в П-логике поведение не строится и не контролируется изначально данным субъектом. Поведение просто имеется, мы начинаем с поведения как первичной реальности. При П-логическом осмыслении нам изначально дано поведение, но не в значении «я веду себя определенным образом» (это — С-логика). Поведение изначально дано как процесс, связывающий «Я» с миром. Тогда невозможен контроль в С-значении. Контролируется нечто внешнее. А внешнего нет, есть процесс — исходная взаимосвязанность «Я» и мира. Мир действует на «Я», и «Я» действует на мир. Поэтому вопрос о субъективных и ситуационных детерминантах поведения не ставится. Но П-осмысление вовсе не означает ни «вседозволенности» (крайний субъективизм), ни «фатализма» (крайний ситуационизм). Эти представления возможны только в С-логике. Для П-логики вопрос об относительном вкладе субъекта и ситуации в поведение невозможен, поскольку эмпирически фиксируемое поведение — логическое основание как «ситуации», так и «субъекта» (того, что называется субъектом и ситуацией в С-логике). Отделив мысленно субъекта от ситуации, в П-логике мы получаем только невозможность оценить их относительный вклад в поведение. Мы привели в тексте стимульный материал в том числе для того, чтобы проде‐
|
|
Эксперимент |
137 |
монстрировать невозможность построить по правилам П-логики рассуждение о субъекте, контролирующем своё поведение как нечто логически отдельное от себя.
В П-логике некорректно сравнивать поведение одного и того же человека в одной и той же ситуации в разные моменты времени. Процессы не «во времени». Любой процесс, связывающий «Я» и мир, предполагает другой процесс, в котором «Я» — действующий, а не претерпевающий. И наоборот. Действующий и претерпевающий легко «меняются местами», ведь разные процессы параллельны, они никак не взаимодействуют. Если я боюсь чего-то, я, несомненно, могу и разгневаться. Как это ни странно для носителя культуры с нормативной С-логикой. Мир – течение всех процессов. В гневе как процессе, связывающем моё «Я» (действующее) с тем, на что я гневаюсь (претерпевающее), нет никакого противоречия страху, параллельно связывающему пугающий меня предмет (действующее) и моё «Я» (претерпевающее). Гнев и страх для С-логического сознания гипотетического внешнего наблюдателя при этом сохраняют свои характеристики стеничной и астеничной эмоции. Но «изнутри» П-логического сознания они параллельны. Сознание «само» выводит один процесс в центр себя, а другой отправляет на периферию. Примерно так, как это описывают психоаналитики.
Подавленные воспоминания и связанные с ними аффекты стали центральным объектом психоаналитического изучения. Высвобождение репрессированного представлялось основной терапевтической задачей. Даже сейчас большинство динамически ориентированных методов направлено на то, чтобы докопаться до забытых воспоминаний и получить понимание реального прошлого, хотя большинство аналитиков признает, что реконструкция прошлого всегда приблизительна, и эта работа напоминает больше создание (заново) правдоподобной истории, чем восстановление исторических фактов [Мак-Вильямс 2001: 387].
Субъект из обсуждаемого примера — претерпевающее страха и действующее гнева. Но зачем ему «собирать» этих претерпевающее и действующее в одного «целостного субъекта» в своём сознании? Действующее страха и претерпевающее гнева ему тоже незачем осмысливать как «один и тот же объект» мира, они выводятся из разных процессов, из разной первичной данности. Достаточно «переключиться» со страха на гнев или с гнева на страх. Множественности миров не возникает,
|
138 |
Глава 2 |
|
ведь процессы не взаимодействуют. В поисках названия для описываемого переключения как такового мы пока не нашли лучшего обозначения, чем «активность».
В С-логике осмысления приведённый пример переключения между гневом и страхом вполне обоснованно может рассматриваться как эмоциональная регуляция — одна из трёх субсистем контроля поведения — в соответствии с принципом то же иначе. Так П-логика открывает нам новые возможности изучения регулятивных функций.
Субъективность. Далее переходим от активности к субъективности П-логического осмысления. Проиллюстрируем субъективность эмпирически. В одном из заданий нашего исследования разные испытуемые с примерно одинаковой частотой выбирали два рассуждения в П-логике, приводящие к противоположным выводам:
П- Аня отказывается от лечения, когда видит, что лечение ухудшает состояние сына. Прививка ухудшила состояние сына. Поэтому Аня откажется от прививки.
П+ Аня соглашается на лечение, когда рассчитывает, что лечение защитит здоровье сына. Аня рассчитывает, что прививка защитит здоровье сына. Поэтому она сделает прививку.
Как такое возможно? Весь наш опыт как носителей С-логической культуры категорично требует найти «единственно верный» ответ, прийти к согласию и «общему мнению». И «общее мнение» логически неизбежно оказывается «одинаковым», или даже «одним и тем же мнением», что удивительно, если вдуматься. Как разные люди с разным сознанием могут «иметь одно и то же мнение»? Интерпретируя приведённый выше эмпирический факт в С-логике, мы можем объяснить его различиями индивидуального опыта, который испытуемые «привносили» в исследование. И это объяснение можно считать верным. Но описанная выше активность субъекта в П-логике позволяет дать другое объяснение.
Аня смотрит на мир и видит в мире нечто — процесс защиты или процесс ухудшения. Не так важны действующие и претерпевающие. Важен процесс. В мире Аня может увидеть любой из этих двух процессов (мир — течение всех процессов). Тогда видение Ани «определяется самим видением» — тем, на какой процесс Аня смотрит.
Здесь необходима оговорка. Процесс, о котором мы говорим в П-логике, — далеко не то же самое, что хорошо знакомые отечественным психологам действие и деятельность. И не то же самое,
|
|
Эксперимент |
139 |
что мы привычно называем психическим процессом. Но вопрос терминологии требует подробного обсуждения. Пока нам достаточно избежать ошибочного отождествления омонимичных, но логически разных терминов.
Для С-логики такое восприятие мира Аней оказывается «неверным» («субъективным»), Ане неявно предписывается прийти к постоянству объекта и его «верному» («объективному») восприятию. Но зачем Ане такое восприятие? Какие возможности оно предоставит Ане для решения вопроса о вакцинации сына? Почти никаких. Как ни странно, «субъективное» восприятие предоставляет Ане гораздо больше возможностей решения обыденно-практической задачи вакцинации.
Проиллюстрируем этот момент примером из официальной медицинской документации к действующему фармакологическому веществу Эсциталопрам (Escitalopram). Нам важна логика рассуждений, а не препарат, поэтому действующее вещество выбрано не потому, что относится к широко используемым в педиатрии. Вещество выбрано по наличию в официальной инструкции чётких рекомендаций по использованию данных плацебо-контролируемых исследований (т.н. «доказательной медицины»).
Следует иметь в виду, что данные о побочных эффектах, полученные в плацебо-контролируемых исследованиях, не могут быть использованы для прогнозирования возникновения побочных эффектов в обычной медицинской практике, т.к. состояние пациентов и другие факторы могут отличаться от тех, которые превалировали в клинических испытаниях… Однако приведённые цифры дают врачу представление об относительном вкладе самого вещества и других факторов (не связанных с ЛС), в развитие побочных эффектов при применении ЛС в популяции [Эсциталопрам 2019].
Из описания видно, что у Ани, как и у педиатра, психологическая сложность возникнет не из-за «субъективности» их восприятия, а из-за «объективной» сложности мира. Строгое плацебо-контролируемое доказательное исследование любого препарата небесполезно. Оно помогает исключить применение препаратов, не дающих лечебного эффекта или дающих слишком сильные побочные эффекты. Но любое доказательное исследование даст лишь обобщённые оценки вероятности побочных эффектов в исследованной выборке и не даст никаких указаний на тот процесс, который следует увидеть Ане и педиатру при
|
140 |
Глава 2 |
|
решении вопроса о вакцинации уникального ребёнка Ани. Аня и педиатр могут видеть разные процессы, тогда возрастает вероятность эмпирически фиксируемого конфликта. Заметим, что конфликт для П-логики не будет конфликтом Ани с педиатром. Для П-логики изменится течение одного или нескольких (в зависимости от направления взгляда субъекта) процессов, связывающих Аню и педиатра. Субъективность П-логического осмысления «разрешает» Ане и педиатру договориться и видеть один процесс, принимая совместное решение.
Именно субъективность П-логического осмысления, логически связанная с активностью, позволяет Ане и педиатру «внести субъективную определённость» в «объективно неопредёленную» ситуацию решения. Объективное С-логическое осмысление ориентирует стороны на жребий или уводит в бесконечный поиск оснований для действия. Но во время С-логического поиска оснований ребёнок живёт, растёт, контактирует с возбудителями различных заболеваний, в том числе вакциноконтролируемых… Так почему бы Ане не принять субъективное решение? Объективная С-логика медицины как бы «сама предоставляет место» субъективному (но вполне рациональному) решению Ани и педиатра, сконструированному в П-логике, для которого не обязательно понимание Аней основ иммунологии и эпидемиологии. Маловероятно, что Аня, если она не медик, сможет легко освоить эти дисциплины.
Пациенты, как правило, не ждут от нас долгих и нудных экскурсов в мир иммунологии. Большинство из них понятия не имеет, что такое «хемотаксис полиморфноядерных нейтрофилов» или «изменение иммунорегуляторного индекса». И, наверное, не стоит тратить часы на объяснение им этих понятий [Ильина, Намазова-Баранова, Баранов 2016: 53].
Активность (для С-логики это дееспособность, вменяемость, контроль поведения) субъекта в П-логике, как мы видим, связана с его субъективностью. И активность, и субъективность выводятся из П-логики осмысления. Выведя их, мы обнаруживаем веские логические основания анимизма, описанного в приведённой при описании методики исследования цитате Е.А. Сергиенко, Е.И. Лебедевой, О.А. Прусаковой. Между пониманием физического и социального миров вовсе нет непереходимой границы. Современная психология, основанная на С-логике, ясно показывает, что оба мира осваиваются ребёнком во взаимодействии и через взаимодействие. И освоение продолжается
|
|
Эксперимент |
141 |
в течение всей биологической жизни индивида, развитие протекает далеко не линейно и не одномерно.
…«Реалистическую» позицию ребёнка по отношению к вещам нужно отличать от объективной. Основное условие объективности, по его (Пиаже. — А.С., В.С.) мнению, — полное осознание бесчисленных вторжений «я» в каждодневную мысль, осознание многих иллюзий, возникающих в результате этого вторжения (иллюзии чувства, языка, точки зрения, ценности и т.д.). В реализме выражается парадокс детской мысли: ребёнок одновременно ближе к непосредственному наблюдению и более отдалён от реальности; ребёнок одновременно находится ближе к миру объектов и дальше от него, чем взрослые [Обухова 1981: 27].
…Вторичные ошибки — косвенный продукт деятельности, которая, как правило, ведёт к уменьшению ошибок. Существование вторичной иллюзии можно продемонстрировать на таком примере. Испытуемому через тахистоскоп предъявляется круг диаметром 20 мм рядом с другим диаметром 28 мм. Как только достигалось запечатление, на тех же местах предъявлялись два круга, диаметр каждого равнялся 24 мм. Круг, замещавший круг в 20 мм, переоценивался по контрасту, а круг, замещавший круг в 28 мм, недооценивался тоже по контрасту. Эта иллюзия с возрастом увеличивается… Малыши 5‒8 лет делают меньше переносов во времени — у них иллюзии слабее, а у взрослых иллюзии более сильно выражены. У взрослых иллюзия угасает под влиянием упражнения, повторения. У ребёнка эта иллюзия длится более продолжительное время [Обухова 1981: 117].
Полученные Подгорецкой факты, развенчивающие непогрешимость «взрослого» логического аппарата, особенно в сравнении с интеллектом маленького ребёнка, вновь остро ставят проблему «обучение и развитие». Данные Подгорецкой, однако, не противоречат концепции Пиаже. Можно предположить, что её испытуемые, люди с высшим образованием, находились на уровне формальных операций, но встречи с новой, необычной задачей вызвали у них трудности, которые уже были преодолены на предшествующих стадиях развития интеллекта. Если бы отобранные Подгорецкой задачи не носили характера своеобразных тестовых испытаний, что почти всегда чревато возможностью вынесения неправильного диагноза, а были бы из области, близкой к области профессиональных умений испытуемых, их интересов и компетенции, результаты, по-видимому, были бы иными [Обухова 1981: 151‒152].
|
142 |
Глава 2 |
|
Проекция субъектом себя на «объективный» мир — далеко не только негативное проявление «психологических проблем», как можно подумать при поверхностном знакомстве с психоанализом, детально разработавшим это понятие. Сами психоаналитики подчёркивают необходимость проекции как одного из механизмов психологического функционирования здорового, «правильного» психического развития с самого раннего возраста [Винникотт 1998; Мак-Вильямс 2001]. Психоанализ убедительно показывает: не так уж важно, «я пугаюсь» или мир «на самом деле» опасен. Гораздо важнее регуляция субъектом переживания страха, позволяющая ему разумно действовать. Такая регуляция, судя по многим эмпирическим данным, возможна для большинства субъектов в большинстве ситуаций.
Добавив к активности П-логического осмысления связанную с ней субъективность, мы расширяем сферу возможностей, предоставляемых П-логикой. Активность аргументирует возможность исследования регулятивных функций, субъективность показывает возможность исследования когнитивных.
Нейтральность. Перейдём к нейтральности. Ранее [Солондаев 2019] мы уже отмечали затруднительность использования в суждении по правилам П-логики привычных нам как носителям культуры, основанной на С-логике, оценочных понятий «хорошо» и «плохо». Неслучайно, как было показано в Главе 1, этика ислама предлагает гораздо более сложную категориальную структуру оценки поступков. И здесь много интересного для психологии.
Мы просто не можем прийти по правилам рассуждения в П-логике к выводу о том, что мама, отказывающаяся от вакцинации ребёнка, — «плохая мама», которая «недостаточно заботится о здоровье ребёнка» (в более мягкой, но лишь на первый взгляд формулировке). Такие выводы или посылки ясно укажут нам на нарушение правил П-логики, для которой реальны лишь процессы, а не свойства вещей. По отношению к «самой маме» мы всегда нейтральны, мы лишь фиксируем те или иные процессы, в которых мама, принимающая решение о вакцинации, может оказаться как действующим, так и претерпевающим. Мы можем также прослеживать и предвидеть сцепления разных процессов, у которых совпадают действующие и претерпевающие.
Рассмотрим пример коммуникации. Вчитаемся внимательно в аргументированные теоретически и эмпирически суждения Д. Дёрнера:
|
|
Эксперимент |
143 |
Дело не в «восточной мудрости»… Мы должны понять, что у мероприятия всегда существует «мёртвое» время, прежде чем оно начинает действовать. Мы должны научиться улавливать временные структуры. Мы должны понять, что события имеют не только непосредственный эффект, но и отдалённые последствия.
Мы должны понять, что в сложных системах человек не может делать что-то одно, а делает сразу многое, хочет он того или нет. Мы должны научиться обращаться с побочными эффектами, помнить, что последствия наших решений и заключений могут проявиться там, где мы никак их не ожидали [Дёрнер 1997: 235].
Авторы настоящей книги готовы согласиться с тем, что не каждое мероприятие вызывает мгновенный эффект. Категорично согласиться с тем что «у мероприятия всегда существует “мёртвое” время, прежде чем оно начинает действовать», как пишет Д. Дёрнер, нам сложнее. Уронив чашку, например, мы не зафиксируем «мёртвое» время. Чашка разобьётся (или не разобьётся) почти мгновенно. Дальше мы снова готовы соглашаться. Отдалённые последствия того, что мы разбили любимую чашку кого-то из членов своей семьи, тоже легко себе представить. Можно согласиться с тем, что мы одновременно убираем осколки разбитой чашки (чтобы не порезаться) и скрываем событие от хозяина чашки (чтобы не огорчить его) — человек «делает сразу многое, хочет он того или нет», как пишет Д. Дёрнер. Вполне вероятно, что хозяин разбитой нами чашки проявит свои эмоции в самой неподходящей (на наш взгляд) ситуации — «последствия наших решений и заключений могут проявиться там, где мы никак их не ожидали», как пишет Д. Дёрнер. Основные мысли автора понятны.
Но вот соглашаться с тем, что «мы должны…», как пять раз повторяется в цитате, авторам уже не хочется. И от перевода немецкого глагола sollen в структуре предложения как «нам нужно» вместо «мы должны» эмоциональное впечатление не меняется.
На педиатрическом материале это явление описал Д. Винникотт:
Мне кажется, нет худшего способа оскорбить женщину, желающую кормить грудью своего ребёнка и пришедшую к этому естественным путём, чем сказать ей то, что считают вправе говорить некоторые доктора и патронажные сестры: «Вы должны кормить грудью».
Будь я женщиной, моё намерение сразу бы в корне переменилось. Я бы ответил: «Прекрасно, тогда я не стану кормить» [Винникотт 1998: 23].
|
144 |
|
Как мы видим, сообщение закономерно передаёт адресату выраженное текстом содержание и эмоциональный подтекст. Мы не говорим о единственности эмоционального подтекста, а лишь указываем на его присутствие в сообщении. От того, что эмоциональный подтекст по-разному воспринимается (или привносится в сообщение) разными получателями, самим получателям «ничуть не легче».
Что произойдёт с мамой, которая не задумывалась о возможности неизлечимых заболеваний своего «функционально здорового» на момент обращения ребёнка, когда педиатр расскажет ей о полиомиелите и его последствиях? Педиатр вполне может это сделать в соответствии с принципом информированного добровольного согласия на вакцинацию от полиомиелита. А в конце своего рассказа педиатр «между прочим» сообщит маме, что вакцинация от полиомиелита проводится живой культурой вируса…
Вполне вероятно, что в описанной ситуации мама сразу откажется от вакцинации. Дальнейшие действия мамы и педиатра будет связаны с характером коммуникации между ними. Педиатр может построить примерно такое рациональное сообщение: «Всем детям в садике делают прививку. Ваш ребёнок ходит в садик. Вашему ребёнку нужно сделать прививку». Как показали наши исследования [Черная, Солондаев, Конева, Баторшина 2016; Черная, Солондаев, Конева, Баторшина, Дадаева 2016], многие врачи действительно так строят сообщения. Поэтому мы включили рассуждение в методику исследования. И ни один (!) из испытуемых не согласился с ним. Хотя рассуждение логически и профессионально корректно.
Мама может начать настаивать на том, что её ребёнок «не совсем здоров» — не настолько здоров, чтобы давать ему пугающую вакцину с живым вирусом, вызывающим тяжёлое заболевание. Если педиатр согласится с мамой, ему придётся «рисовать» несуществующий диагноз, обходя возникающие при этом сложности профессиональной аргументации и ставя под угрозу свою профессиональную компетентность. Если педиатр «усилит» свою аргументацию негативными оценками личности мамы («Что же Вы, своему ребёнку болеть желаете?»), он рискует получить психологически закономерный скандал при полной бессодержательности претензий сторон для заведующего поликлиникой, вынужденного разбирать обращение возмущённой мамы.
В качестве возможного варианта С-логика предоставляет педиатру вариант скрыть от мамы часть информации о вакцине и заболевании. Ведь законодательство говорит об информировании «в доступной
|
|
Эксперимент |
145 |
форме». Но как будет чувствовать себя педиатр? Опыт исследований одного из авторов, проведённых совместно с сотрудниками кафедры поликлинической педиатрии и факультета последипломного образования Ярославского государственного медицинского университета, показывает, что педиатр будет чувствовать существенный психологический дискомфорт, осознавая своё намерение ввести маму в заблуждение.
Другой вариант заключается в том, что педиатр перестроит собственные представления о профессиональной этике так, чтобы считать допустимым сокрытие «несущественной» информации о вакцине. Этот путь ведёт к тому, что в научной литературе считается началом неврозогенеза. Информация о живой вакцине против полиомиелита — весьма существенная. Врач хорошо знает, что живая вакцина требует изоляции ребёнка, который отклоняется от графика вакцинации других детей своей группы в детском саду. И реальное соблюдение мамой ограничений важно.
П-логика здесь предлагает педиатру на выбор два варианта рассуждения, которые он может рассмотреть вместе с мамой.
Вариант «за прививку»: мама соблюдает рекомендации врачей в тех случаях, когда считает, что врачи помогают ребёнку. Мама считает, что прививка поможет ребёнку, поэтому согласится.
Вариант «против прививки»: Мама нарушает рекомендации врачей, когда считает, что врачи навредят ребёнку. Мама считает, что прививка навредит ребёнку, поэтому откажется.
Оба приведённых рассуждения взяты из методики нашего исследования, испытуемые соглашались с ними с примерно равной частотой. Даже если мама выбирает вариант «против», у педиатра сохраняется возможность диалога. Можно рассматривать основания, по которым мама считает, что прививка повредит ребёнку, и оспаривать их. При этом вопрос об оценках компетентности мамы в вопросах вакцинопрофилактики не ставится. У каждой стороны диалога свои задачи и своя компетентность. Чтобы выработать решение, маме необходимо принять в качестве посылки рассуждения одно из двух: либо «врачи помогают», либо «врачи вредят». Мама активна, её выбор (врачи либо помогают, либо вредят) субъективен. Мама с полным основанием считает, что сама распоряжается своим мнением, а потому может позволить педиатру себя переубедить. Либо мама относительно спокойно откажется от вакцинации «под свою ответственность», не вступая в конфликт с педиатром.
|
146 |
Глава 2 |
|
Как мы видим, П-логика открывает перспективы не только для фундаментальных исследований безоценочной коммуникации, но и перспективы прикладных исследований в тех сферах, где эмоциональная значимость существенно влияет на общение.
Полученные эмпирические результаты позволяют нам в первом приближении аргументировать перспективы использования П-логики в исследованиях регулятивной, когнитивной и коммуникативной функций или подсистем, которые Б.Ф. Ломов выделял как основные составляющие психики в целом [Ломов 1984: 94].
Конечно, намеченные перспективы аргументированы только предварительно. Конечно, их необходимо разрабатывать теоретически и эмпирически. Но авторы и намеревались сделать первый шаг: обозначив возможное направление, пригласить научное сообщество к его разработке.
 |

|
|
|
|
|
Великий европейский миф — миф о бытии. Удивительно, как на всём протяжении европейской философии, по меньшей мере с тех пор, как он был сформирован в учении элеатов, этот миф принимался и поддерживался всеми направлениями философии, сколь бы различны они ни были, и даже теми, кто мог бы быть свободен от его власти. Мы видели, как Декарт необъяснимым образом считает именно и только бытие вытекающим из cogito: для него действие, составляющее, так сказать, плоть и кровь cogito, оказывается слепым пятном, он не замечает этой очевидности. Гуссерль открывает «принципиально-своеобразный бытийный регион» как «поле новой науки — феноменологии» [Гуссерль 1999: 74‒75; курсив наш. — А.С., В.С.]. Мир естественной установки, который должен быть взят в скобки, выключен феноменологическим эпохе, для него однозначно — сущий, бытийствующий мир, более того, мир как «пространственно-временная действительность» [Гуссерль 1999: 69]. Знаменитая фраза «между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла» [Гуссерль 1999: 108] могла бы стать исходной точкой создания настоящей логики смысла, если бы не убеждённость Гуссерля в том, что сознание и реальность — два сущностно разных региона бытия. Или бесконечное кружение Хайдеггера вокруг недостижимой открытости — именно бытия, не чего-то другого. Делёз говорит о Бытии, которое «выражается одним-единственным смыслом» и «в одном и том же смысле» [Делёз 1998: 53‒54]. И так далее. Насколько удивительна власть мифа о бытии над европейским умом, показывает уже тот факт, что направление, попытавшееся пробиться напрямую к внутренней, собственной жизни человека, отвязав её от всей традиционной европейской метафизики, всё же в качестве названия получило слово, производное от существования, как если бы, кроме существования, и не было бы ничего доподлинного в человеке, как если бы вся задача сводилась лишь к тому, чтобы его «экзистенцию» отличить от внешнего «бытия». И уж тем более не могло освободиться от этого мифа то направление, которое ближе
|
148 |
Заключение |
|
всего стоит к философии здравого смысла — аналитическая философия, поскольку именно для европейского здравого смысла существование — первое и незыблемое основание.
Мы предложили объяснение власти этого мифа над европейским умом. Европейский мыслитель привык — приученный всей системой европейских культурных практик — проходить развилку существование/действие всегда одним и тем же образом, даже не замечая её и не задумываясь об основаниях собственного выбора. Поэтому рефлективность, которой гордится европейская философия, также оказывается мифом, поскольку самый первый выбор ею не только не обосновывается, но даже не осознаётся.
Неосознанный выбор, и главное — неосознаваемость этого выбора, закреплены тысячекратно всей системой европейских культурных практик. В ареале господства этих практик С-логика сформирована в качестве коллективного когнитивного бессознательного. Лишь властью привычки к базовой логике смыслополагания можно объяснить — иначе необъяснимую — власть над европейским умом мифа о бытии.
В самом деле, мы видели, что «действие» — совершенно очевидный, и, тем не менее, скрывшийся и от Декарта, и от Гуссерля, вывод из cogito. П-логика возможна как разработка другого пути разворачивания целостности сознания — того пути, который открывается выбором, альтернативным европейскому, на развилке существование/
действие.
Мы показали теоретическую возможность П-логики, взятой как логика смыслополагания, во всех отношениях параллельная С-логике. В том числе — как логика строгого доказательства. П-силлогизм обладает (1) такой же убедительной силой, (2) столь же логически безупречен и (3) точно соответствует действительности, как и С-силлогизм в его образцовом модусе Barbara. Он, таким образом, параллелен С-силогизму в тех трёх аспектах (психологический, логический и онтологический), которые были выделены Яном Лукасевичем при анализе принципа противоречия у Аристотеля [Лукасевич 2012]. Подробная разработка П-логики впереди, однако уже состоявшаяся дискуссия [ВФ 2019] показала, что это направление открывает захватывающие перспективы.
П-логика наиболее последовательно была развёрнута в историческом развитии арабской доисламской и арабо-мусульманской культуры. Отчасти это было показано в наших отдельных исследованиях
|
|
Заключение |
149 |
[Смирнов 2015; 2019], но всесторонний анализ этого ещё предстоит осуществить. Здесь мы затронули только то, что имеет прямое отношение к теме этой книги и что сопрягает индивидуальное и общественное сознание: сферы права и этики.
Таким образом, нами предложен набросок теории сознания. Сознание как cogito раскрывает себя как целостность и связность. Эти две категории — центральные, основополагающие для логики смысла как теории сознания. Логика смысла работает исключительно с неопровержимой данностью cogito, избегая любых догматических допущений. Только логика смысла, набросок которой дан в этой книге, позволяет понять, что такое развилка существование/действие, а значит, освободиться от мифа о неизбежности бытия. Вместо понимания сознания в монологичной перспективе, что всегда было магистральным путём для европейской философии, логика смысла предлагает многологичное понимание сознания. Наряду с С-логикой и П-логикой, наверняка будут открыты и подтверждены опытом больших культур другие логики смыслополагания.
С- и П-логики взаимно несводимы и в этом смысле альтернативны, поскольку каждая выстраивает целостностную эпистемную цепочку от исходной интуиции до развёрнутых текстов. Каждая из них разворачивает целостность cogito. Господствующие культурные практики отбирают только одну из логик в качестве основной, преобладающей в общественном сознании. В этом смысле культурные практики репрессивны в отношении индивидуального сознания, и будущее развитие культуры, если оно состоится, должно пойти по пути обеспечения многологичности, а не монологичности, её выстраивания. В отличие от идеологии общечеловеческого, стремящейся закрепить универсальное господство С-логики и вытеснить все прочие логики смыслополагания на безнадёжную периферию, подлинный расцвет культуры может быть связан только с идеологией всечеловеческого как многологичности человеческой культуры. По-своему об этом предупреждал, анализируя монологичность Гуссерля в противопоставлении историцизму (но ещё не многологичности!) Дильтея, Лев Шестов [Шестов 1994: 40].
Это касается общественного сознания. В индивидуальном сознании никогда не утрачивается наша принципиальная способность к любой из логик смыслополагания. Так потому, что любая из этих логик разворачивает целостность сознания так же, как это делает любая другая, но иным путём. То же иначе как cogito никогда
|
150 |
Заключение |
|
не утрачивается нашим сознанием. Поэтому в индивидуальных практиках П-логика может использоваться не менее успешно, чем С-логика. Если изложенное выше верно, силлогизмы, построенные по правилам разных логик, должны иметь для индивидуального сознания примерно одинаковую убедительную силу.
Именно это и было подтверждено эмпирическим исследованием. Методика исследования предполагала обоснование испытуемым своего решения о проведении или отказе от профилактической прививки ребёнку. Такое решение принимает фактически любой из родителей (по меньшей мере один из пары), а значит, результаты нашего исследования характеризуются значительной степенью универсальности. Каждый испытуемый получил описание типичных для педиатрической практики ситуаций, в которых надо было принять решение о прививке, а также четыре варианта обоснования решения: два «за» и два «против». Обоснования были сформулированы максимально простым, разговорным языком, но при этом содержали достаточно отчётливо выраженные С- и П-силлогизмы. Каждому испытуемому предлагалось принять решение в восьми разных ситуациях. В каждой ситуации испытуемый мог выбрать готовое обоснование своего решения: С-силлогизмы «за» и «против» или П-силлогизмы «за» и «против». Если ни один из предложенных вариантов готового обоснования не удовлетворял испытуемого, он мог предложить собственное рассуждение.
Таким образом, каждый испытуемый имел выбор: либо воспользоваться готовым «меню логичных обоснований», либо сформулировать собственное обоснование. Оказалось, что в 93% случаев предложенное нами меню обоснований удовлетворило запросы испытуемых на рационализацию своего выбора. Лишь 7% испытуемых сочли, что предложенные варианты не могут обосновать их решение, а потому сформулировали собственные рассуждения.
Это соотношение 93/7 требует, видимо, серьёзного и неспешного продумывания, а также дальнейшего исследования. Если исходить из полученных данных, можно сделать вывод о том, что большинству испытуемых достаточно рассуждений в С- и П-логике, чтобы рационально обосновать выбор поступка. Мы не знаем, каким был бы результат, если бы меню обоснований было сформулировано исключительно в С- или исключительно в П-логике. Ведь эти логики с точки зрения друг друга нелогичны: П-логика строит доказательство, не обосновывая его общими утверждениями, а С-логика не обосновывает процессуальные связи. Видимо, важно было предложить такое
|
|
Заключение |
151 |
меню обоснований, в котором представлены обе логики. В таком случае запрос на рациональность почти полностью удовлетворялся.
Почти — но не до конца. Об этом свидетельствуют 7% самостоятельно сформулированных ответов. О чём это говорит? Понятно, что в этих случаях отвечавшим хотелось построить рассуждение как-то иначе — не так, как было предложено. Но как именно? Вряд ли можно сказать, что они хотели вовсе уйти от ответа или высказать что-то за пределами логики. Всё же авторы самостоятельных рассуждений (три примера приведены в Главе 2) стремились что-то обосновать. Можно высказать предварительное и очень осторожное соображение. Нельзя исключать, что в этих случаях вывод формулировался в какой-то из ещё не описанных логик — не субстанциальной и не процессуальной. Чисто теоретически это допустимо.
Что касается 93% опрошенных, выбравших ответы из предложенного им меню, то их выбор распределился практически равномерно между С- и П-логиками. Это значит, что в половине случаев отвечавшие сочли П-силлогизм правильным обоснованием того решения о прививке, которое они бы приняли в описанной ситуации.
Однако решение могло быть и «за», и «против» прививки. Если рассматривать результаты с этой точки зрения, окажется, что логики существенно различаются. Если в С-логике соотношение ответов «за» и «против» примерно одинаковое, то в П-логике ответов «за» почти в 4 раза больше, чем «против».
Мы даём следующую обобщенную формулировку результатов эмпирического исследования.
А. Чаще всего любой отдельный испытуемый некоторые ситуации, требующие решения о вакцинации ребёнка, осмысливает в С-логике, а другие ситуации осмысливает в П-логике. Испытуемые, осмысливающие все ситуации только в одной логике, встречаются значительно реже испытуемых, осмысливающих разные ситуации в разных логиках.
Б. Осмысливая ситуацию в П-логике, испытуемые чаще соглашаются на вакцинацию, чем отказываются.
Наше эмпирическое исследование мы рассматриваем как статистически подтверждённое свидетельство в пользу сформулированных в первой главе теоретических положений. Вместе с тем данное исследование, конечно же, — лишь начало. Мы приглашаем всех заинтересованных учёных и философов проверить предложенную нами методику в собственных исследованиях. Сами мы планируем дви‐
|
Заключение |
|
гаться дальше по этому пути, уточняя полученные результаты и формулируя новые задачи.
В этой книге философское исследование соединилось с экспериментально-психологическим. Соединение не было ни случайным, ни механическим. С разных сторон мы подходили к одной и той же проблеме — проблеме «как человек мыслит», а значит, и «как он себя ведёт». Поэтому основной теоретико-эмпирический вывод (вывод, имеющий теоретическое значение и вытекающий из эмпирического исследования), который мы делаем из результатов нашей работы, звучит так: изменяя логику осмысления ситуации, испытуемые изменяют своё поведение. Этот вывод должен быть проверен и подтверждён. Пройдя проверку, он, безусловно, окажет влияние и на философию (теорию сознания, этику), и на психологию.
Во Введении мы поставили два вопроса:
1.Действительно ли мышление, стержнем которого является подведение под класс, универсально в том смысле, что такого рода мыслительные операции полностью и целиком лежат в основе — пусть опосредованно и даже не осознаваемо — нашего поведения?
2.Возможно ли осмысление мира, если положить в его основу действие как таковое, а не субстанцию; даёт ли опыт человечества примеры подобного осмысления мира, и можно ли таким образом дать логичное описание мира?
Первый вопрос получил отрицательный ответ, а второй — положительный. Мы рассматриваем эту книгу в её теоретической и эмпирической частях как фиксацию важнейшего результата — открытия многологичности сознания и экспликации П-логики наряду с С-логикой.
 |

|
|
|
|
|
Айвазян, Енюков, Мешалкин 1983 — Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983.
Айвазян, Енюков, Мешалкин 1985 — Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985.
Айвазян и др. 1989 — Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификации и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.
Аптон 1982 — Аптон Г. Анализ таблиц сопряженности. М.: Финансы и статистика. 1982.
Арно, Лансло 1991 — Арно А., Лансло К. Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля) / Пер. Ю.С. Маслова, Е.Д. Панфилова, М.В. Гординой. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991.
Арно, Николь 1997 — Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить / Пер. В.П. Гайдамака. 2-е изд. М.: Наука, 1997.
Артемьева 1999 — Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М.: Наука, Смысл, 1999.
Арутюнова 1976 — Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 1976.
Бергсон 1914 — Бергсон А. Введение в метафизику // Бергсон А. Собрание сочинений. Т. 5. СПб.: Издание М.И. Семёнова, 1914.
Брунер 1977 — Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.
Брушлинский 1979 — Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование: Логико-психологический анализ. М.: Мысль, 1979.
Винникотт 1998 — Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. М.: Класс, 1998.
|
154 |
Литература |
|
Владимиров, Коровкин, Лебедь и др. 2016 — Владимиров И.Ю., Коровкин С.Ю., Лебедь А.А., Савинова А.Д., Чистопольская А.В. Управляющий контроль и интуиция на различных этапах творческого решения // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 1. С. 48‒60.
ВФ 2019 — Процессуальная логика и ее обоснование // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 5‒60.
ГК 2019 — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019).
Гуссерль 1994 — Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. I. Феноменология внутреннего сознания времени / Пер. В.И. Молчанова. М.: РИГ «Логос», 1994.
Гуссерль 1999 — Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. I. Общее введение в чистую феноменологию / Пер. А.В. Михайлова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
Делёз 1998 — Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998.
Дёрнер 1997 — Дёрнер Д. Логика неудачи. М.: Смысл, 1997.
Дёрнер 2006 — Дёрнер К. Хороший врач. Учебник основной позиции врача. М.: Алетейа, 2006.
Джеймс и др. 2016 — Джеймс Г., Уиттон Д., Хасти Т., Тибширани Р. Введение в статистическое обучение с примерами на языке R. М.: ДМК Пресс, 2016.
Джонсон 1987 — Johnson M. The body in the Mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.
Джунайд 2005 — Ал‑Джунайд. Ал‑А‘ма̄л ал‑ка̄мила (Полное собрание сочинений) / Ред. Су‘а̄д ал‑Х̣акӣм. 2-е изд. Ал‑К̣а̄хира: Да̄р аш‑шурӯк̣, 2005.
Дружинин 2001 — Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2001.
Дю Марсэ 2001а — Дю Марсэ, С.-Ш. О высказывании с точки зрения грамматики, а также о его составных частях / Пер. Н.Ю. Бокадоровой // Французские общие, или философские, грамматики XVIII ‒ начала XIX века. Старинные тексты. М.: Прогресс, 2001. С. 119‒141.
|
|
Литература |
155 |
Дю Марсэ 2001б — Дю Марсэ, С.-Ш. Принципы грамматики / Пер. Н.Ю. Бокадоровой // Французские общие, или философские, грамматики XVIII ‒ начала XIX века. Старинные тексты. М.: Прогресс, 2001. С. 107‒118.
Зильбер 2008 — Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. М.: МЕДпресс-информ, 2008.
ЗП 1990 — Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака. М.: Радуга, 1990.
Ильина 2016 — Ильина С.В. О профилактических прививках, инфекционных болезнях и мере ответственности // Педиатрическая фармакология. 2016. Т. 13. № 3. С. 285‒288. doi: 10.15690/pf.v13i3.1579
Ильина, Намазова-Баранова, Баранов 2016 — Ильина С.В., Намазова-Баранова Л.С., Баранов А.А. Вакцинация для всех: простые ответы на непростые вопросы: руководство для врачей. М.: Педиатръ, 2016.
Катков, Крамм, Фролова 2015 — Катков А.Л., Крамм М.А., Фролова Е.Я. О проекте исследования моделей здоровья и факторов, влияющих на саногенное поведение населения в аспекте вакцинопрофилактики // Вопросы современной педиатрии. 2015. Т. 14. № 1. С. 140‒144.
Кашани 1423 — Ал‑Ка̄ша̄нӣ. Ис̣т̣ила̄х̣а̄т ас̣‑с̣ӯфиййа (Терминология суфиев) / Ред. Маджӣд Ха̄дӣ За̄де. Тахра̄н, 1423 х.
Кашани 2000 — Ал‑Ка̄ша̄нӣ. Лат̣а̄’иф ал‑и‘ла̄м фӣ иша̄ра̄т ’ахл ал‑илха̄м (Тонкое оповещение о намёках для вдохновенных) / Ред. Маджӣд Ха̄дӣ За̄де. Тахра̄н, 2000.
Кондильяк 2001 — Де Кондильяк, Э.-Б. Грамматика / Пер. Н.Ю. Бокадоровой // Французские общие, или философские, грамматики XVIII ‒ начала XIX века. Старинные тексты. М.: Прогресс, 2001. С. 142‒174.
Котарбиньский 2000 — Котарбиньский Т. Лекции по истории логики. Биробиджан: ИП «ТРИВИУМ», 2000.
Куличенко и др. 2015 — Куличенко Т.В., Дымшиц М.Н., Лазарева М.А., Бабаян А.Р., Бокучава Е.Г. Нарушение календаря вакцинопрофилактики детей: взгляд врачей и родителей на проблему // Педиатрическая фармакология. 2015; Т. 12. № 3. С. 330‒334. doi: 10.15690/pf.v12i3.1361
|
156 |
Литература |
|
Кушайри 1989 — Ал‑К̣ушайрӣ. Ар‑Риса̄ла (Трактат) / Ред. ‘Абд ал‑Х̣алӣм Мах̣мӯд, Мах̣мӯд б. аш‑Шарӣф. Ал‑К̣а̄хира, 1989.
Лекторский 2019 — Лекторский В.А. Комментарий к статье А.В. Смирнова «Процессуальная логика и ее обоснование» // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 18‒21.
Ломов 1984 — Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.
Лукасевич 2012 — Лукасевич Я. О принципе противоречия у Аристотеля. Критическое исследование / Пер. Б.Т. Домбровского, ред., вступ. статья и примеч. А.С. Карпенко. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
Лурия 1974 — Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование. М.: Наука, 1974.
Мак-Вильямс 2001 — Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Класс, 2001.
Микиртичан, Каурова, Очкур 2012 — Микиртичан Г.Л., Каурова Т.В., Очкур О.К. Комплаентность как медико-социальная и этическая проблема педиатрии // Вопросы современной педиатрии. 2012. Т. 11. № 6. С. 5‒10.
Национальный календарь 2019 — Национальный календарь профилактических прививок. Приложение № 1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н (ред. от 24.04.2019).
Об иммунопрофилактике 2018 — Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Федеральный закон РФ от 17 сентября 1998. № 157-ФЗ (ред. от 07.03.2018).
Об основах охраны здоровья 2019 — Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от РФ от 21.11.2011. № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019).
Обухова 1981 — Обухова Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
Подгорецкая 1980 — Подгорецкая Н.А. Изучение приёмов логического мышления у взрослых. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
|
|
Литература |
157 |
Пиаже 2004 — Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2004.
Рассел 1998 — Рассел Б. Логический атомизм / Пер. с англ. Г.И. Рузавина // Аналитическая философия: становление и развитие / Ред. и сост. А.Ф. Грязнов. М., 1998. С. 17‒37.
Рассел 1999 — Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск: Водолей, 1999.
Семенова и др. 2009 — Семенова В.Г., Евдокушкина Г.Н., Гаврилов Л.А., Гаврилова Н.С., Михайлов А.Ю. Cоциально-демографические потери, обусловленные смертностью населения России в период реформ (1989‒2007 гг.) Социальные аспекты здоровья населения [Электронный ресурс] 2009. № 1. URL http://vestnik.mednet.ru/
content/view/103/27/ (дата обращения: 25.08.2019).
Сергиенко, Виленская, Ковалева 2010 — Сергиенко Е.А., Виленская Г.А., Ковалева Ю.В. Контроль поведения как субъектная регуляция. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010.
Сергиенко, Лебедева, Прусакова 2009 — Сергиенко Е.А., Лебедева Е.И., Прусакова О.А. Модель психического как основа становления понимания себя и другого в онтогенезе человека. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009.
Смирнов 2015 — Смирнов А.В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл. М.: Языки славянской культуры, 2015.
Смирнов 2019 — Смирнов А.В. Всечеловеческое vs. общечеловеческое. М.: ООО «Садра»: Издательский Дом ЯСК, 2019.
Смирнов, Солондаев, 2017 — Смирнов А.В., Солондаев В.К. Логика осмысления родителями профилактических прививок // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2017. T. 9. № 5 (46) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru (дата обращения: 25.08.2019).
Солондаев 2019 — Солондаев В.К. Психологические аспекты процессуальной логики // Вопросы философии. 2019. № 2. С. 41‒47.
Солондаев, Конева, Черная 2015 — Солондаев В.К., Конева Е.В., Черная Н.Л. Принятие решения родителями ребенка-пациента с точки зрения процессуальной логики // Медицинская психология в России. 2015. № 6 (35) [Электронный ресурс]. URL http://mprj.ru/
archiv_global/2015_6_35/nomer03.php (дата обращения: 28.08.2019).
|
158 |
Литература |
|
Тёлле 1999 — Тёлле Р. Психиатрия с элементами психотреапии. Минск: Вышэйшая школа, 1999.
Тхостов, Нелюбина 2008 — Тхостов А.Ш., Нелюбина А.С. Обыденные представления как фактор, опосредующий поведение в ситуации болезни // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 317. С. 243‒245.
УК 2019 — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019).
Федеральная служба государственной статистики 2018 — Федеральная служба государственной статистики. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 01 января 2018 года. URL http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_111/IssWWW.exe/Stg/1.2.1.xls (дата обращения: 28.08.2019).
Черная, Солондаев, Конева, Баторшина 2016 — Черная Н.Л., Солондаев В.К., Конева Е.В., Баторшина С.Е. Пути достижения комплаентности между субъектами вакцинального процесса // Мать и дитя в Кузбассе. 2016. № 3 (66). С. 25‒29.
Черная, Солондаев, Конева, Баторшина, Дадаева 2016 — Черная Н.Л., Солондаев В.К., Конева Е.В., Баторшина С.Е., Дадаева О.Б. Вынужденное решение родителей о прививке как психологическая «почва» антивакцинальных установок // Вопросы современной педиатрии. 2016. Т. 15. № 2. С. 168‒174.
Шестов 1994 — Шестов Л. MEMENTO MORI (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // Гуссерль Э. Философия как строгая наука / Сост., подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск: Агентство САГУНА, 1994. С. 5‒48.
Эсциталопрам 2019 — Эсциталопрам (Escitalopram) // Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента [Электронный ресурс]. URL https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3277.htm (дата обращения: 28.08.2019).
R Core Team 2019 — R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2019. URL https://www.R-project.org/
Scrucca et al. 2016 — Scrucca L., Fop M., Murphy T.B., Raftery A.E. Mclust 5: clustering, classification and density estimation using Gaussian finite mixture models. The R Journal. 2016. 8/1. P. 205‒233.
|
|
|
|
Научное издание
Смирнов Андрей Вадимович
Солондаев Владимир Константинович
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Корректор Г. Барышева
Оригинал-макет Е. Морозовой
Художественное оформление переплёта С. Растегиной
Подписано в печать 31.10.19. Формат 60×90 1/16.
Гарнитура IPH Astra Serif.
Усл. печ. л. 10. Тираж 1000 экз. Зак. №
|
|
|
|